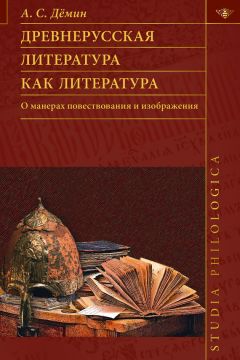
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 38 страниц)
О типе литературного творчества составителей «Псковской второй летописи»
Тип традиционного литературного творчества – самый мощный и долговременный на Руси. Поздние летописные произведения вполне заслуженно относятся к этому типу творчества.
Скажем об одной из таких летописей, отличающейся своеобразной манерой повествования, – о «Псковской второй летописи», составленной в 1486 г., дошедшей до нас в единственном списке конца ХV в. и большей частью рассказывающей о военных стычках псковичей с соседями. Псковский летописец ХV в. или даже ХIV–ХV вв. (так собирательно обозначим поколения неизвестных нам, но стилистически родственных составителей «Псковской второй летописи» и их предшественников) довольно однообразно писал о немцах, поляках, литовцах, да и о русских тоже. Все они как бы на одно лицо. Однако однообразие скрашивалось сравнительно новым лейтмотивом в летописном повествовании: летописец явственно чаще, чем обычно в летописях, упоминал чувства и настроения персонажей: то подчеркивал их злобу («тогда поганыи, възъярився и попухневъ лицем, прииде…, съкрежеща своими многоядьными зубы…» – 60, под 1480 г. 1); то описывал горе людей («и бысть плач, и рыдание, и вопль великъ» – 26, под 1343 г.); то нагнетал страх («и бысть чюдо страшно: внезапу наиде туча страшна и грозна, и дождь силенъ, и гром страшен, и млъниа бес престани блистая, яко мнети уже всем от дождя потопленымъ быти, али от грому камением побиенымъ быти, или от млъниа сожьженым» – 41, под 1426 г.).
Об этих чувствах скажем подробнее. Чаще всех упоминались отрицательные чувства, и больше всего событий летописец сопроводил гневом персонажей. Крупные нападения предпринимались во гневе или ярости: «и онъ гръдыи князь Витовтъ… възьярився, прииде к Вороначю…» (40, под 1426 г.); «князь великии Иванъ Васильевич разгневася на Великии Новъгород… прииде под Великии Новъгород…» (57, под 1477 г.) и др. Князья у летописца вообще постоянно гневались: «пъсковичи отрекошяся князю Андрею Олгердовичю… и про то разгневася велми на пскович» (26, под 1349 г.); «и псковичи… того не восхотеша… и Витовти оттоле начя гневъ великъ дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). Общаться с гневливыми князьями было тяжко: «и биша чолом, абы вины отдал и гнева на Псковъ не дръжалъ; он же съ яростию, гнева наполнився, ответъ даде…» (40, под 1424 г.); «не пусти их к собе на очи 3 дни, гневъ держа…» (52, под 1463 г.); «князь великии, яромъ окомъ възревъ, рече» (69, под 1486 г.); «с великою опалкою отвещал» (66, под 1485 г.) и пр. Власти покидали Псков неизменно во гневе: «И князь Александръ… разгневався на пскович и поеха к Новугороду» (24, под 1341 г.); «князь Андреи и Борисъ… скоро разгневавшеся, поехаша из града…» (61, под 1480 г.); «архиепископъ новгородьскыи Еуфимии… разгневався, поеха изо Пскова» (45, под 1435 г.) и т. д. Упоминания гнева, как видим, однообразны.
Другое чувство персонажей, которое считал нужным часто и тоже однообразно упоминать летописец, – горе от нападений и разорений: «и бе видети многымъ плач и рыдание» (60, под 1480 г.); «от многаго недостатка и стеснениа многу скорбъ имеаху, плач и рыдание» (57, под 1477 г.); «и бысть… скорбъ и печаль» (25, под 1341 г.); «и бяху тогда псковичи в велице скорби и печали» (60, под 1480 г.). Просьбы страдающих тоже сопровождались горестными эмоциями: «А в то время притужно бяше велми изборяном, и прислаша гонець въ Псковъ съ многою тугою и печалью» (25, под 1341 г.); «и беху псковичи въ мнозе сетовании и в тузе» (61, под 1480 г.) и т. п.
Еще одно чувство, обязательно отмечаемое летописцем у персонажей – страх, обычно при бегстве, обычно у врагов: «поганымъ вложи страх въ сердца их и обрати я на бегъ» (25, под 1341 г.); «убоявся князя великого и побеже в Литву» (51, под 1460 г.); «немци убоявшеся и побегоша» (53, под 1463 г.). Страх парализует действия: «И, видевше, немци устрашишася, а псковичи, видевше немець, убояшася, и не съступишяся на бои» (59, под 1480 г.); «не домышляющеся о семь, что сътворити, боящеся князя великого» (61, под 1480 г.) и пр. Стихийные явления, как уже можно было убедиться, летописец также сопровождал указаниями на страх; вот еще пример: «бысть туча темна и грозна… и гром страшен… и от блистания млъния исполнися церковь пламени, и черньцы вси падоша ниць от сътраха пламени того» (43, под 1432 г.).
Однако летописец нередко варьировал обозначения чувств и эмоциональных состояний, тоже почти всегда отрицательных у персонажей: «немилостиво имеа сердце» (42, под 1426 г.); «зли быша на ны» (24, под 1341 г.); «вложи бо диаволъ въ сердца их… на пскович велику ненависть дръжаху» (33, под 1407 г.). Или: «прислаша своего посла… не с поклономъ, ни с чолобитьем, ни с молением, но з гордынею» (55, под 1471 г.); «и тако, гордяся, поиде к городу Пскову» (59, под 1480 г.) Бегство сопровождалось не только страхом, но и стыдом: «отбегоша немци съ многым студом и срамомъ» (23, под 1323 г.); бывал еще повод для стыда: «князь великии изополелся на Ярослава, и он вся грабленая и людеи со многымь студомъ възврати» (56, под 1477 г.). Только в очень редких случаях летописец вспоминал о положительных чувствах персонажей: «посадники възвратишася с великою радостию» (68, под 1486 г.); «князь же Ольгердъ съжаливъси и не остави мольбы и чолобитиа псковскаго» (24, под 1341 г.); «бысть знамение… от иконы святого Николы… и множество народа удивишася о преславномъ чюдеси» (46, под 1440 г.).
Склонность летописца к упоминанию чувств у персонажей проявилась и при использовании им источников. «Псковская вторая летопись» была начата с пересказа отрывков из «Повести временных лет», и когда псковский летописец дошел до отказа Рогнеды стать женой Владимира Святославича, то вставил указание на чувство: «Володимиръ же, възьярився, иде ратью к Полтеску и уби Рогволода и два сына его, а дщерь его Рогнеду поя собе жене» (10, под 980 г.); в «Повести временных лет» же чувства Владимира никак не упоминались в этом эпизоде: «Володимеръ же, собра вои многи… поиде на Рогъволода… и уби Рогъволода и сына его два, и дъчерь его поя жене»2; о ярости Владимира в «Повести временных лет» вообще не говорилось ни по каким поводам. После «Повести временных лет» псковский летописец поместил целиком «Житие Александра Невского» первой редакции и потом снова пересказал один из его эпизодов, но уже добавив указание на чувство, отсутствующее в «Житии»: «Князь Александръ… клятвою извеща псковичемь, глаголя: “Аще кто и напоследи моих племенникъ прибежить кто в печали или так приедет к вамь пожити, а не приимете, ни почьстете его акы князя, то будете окаанни и наречетася вторая жидова…”» (21, под 1242 г.); о приезжающих в печали не говорилось ни во внелетописном «Житии Александра Невского», ни в его полном тексте, вставленном во «Псковскую вторую летопись»: «И рече Александръ: “О невегласи псковичи, аще сего забудете и до правнучатъ Александровых, и уподобитеся жидом…”» (14). После «Жития Александра Невского» в летописи следовала «Повесть о Довмонте», в последнюю фразу которой летописец снова добавил упоминание о печали: «Бысть же печаль и жалость велика тогда псковичемъ» (18); эта печаль отсутствовала в ранней редакции «Повести о Довмонте»: «бысть же тогда жалость велика во граде Пскове…»3. Еще раз была добавлена печаль в «Сказание о битве новгородцев с суздальцами», тоже вставленное во «Псковскую вторую летопись», но с такой концовкой: «…Христе боже нашь, и нас избави от всякыя печали, и беды, и напасти» (21, под 1169 г.); в первой редакции «Сказания» концовка иная: «Богу же нашему»4. В общем, псковский летописец, то менее, то более редактируя тексты, добавлял однообразные упоминания о ярости или печали персонажей.
Летописец однажды высказался так: «А еще и иного много бых писалъ бывшиа в тое розратие печали и скорби, но за умножение словес и не писано оставимъ» (25, под 1341 г.). Но это значит, что особого пристрастия к изображению чувств у летописца не было. И, действительно, он не упражнялся в разнообразии чувств, очень кратко, однотипно и вовсе не повсеместно отмечал их, притом упоминания чувств не всегда обозначали только эмоциональную реакцию, чаще – общую ситуацию. Например, «печали и скорби» обозначали несчастья вообще, в том числе материальные; «разгневася» означало и политическое отношение и т. д.
Чувства, в основном отрицательные, летописец упоминал для того, чтобы придать напряженность своему повествованию об опасностях и несчастьях, – вот что главное в его повествовательной манере. Поэтому перечисления чувств у него содержали вдобавок и преувеличения, обычно в виде сравнений и метафор, например: «Многу скорбъ имеаху, плач и рыдание. И въсколебашася, аки пьяни» (57, под 1477 г.). Перечисления чувств нередко включали в себя и иные усилительные элементы, летописец пользовался выразительными деталями: «А Немецкая вся земля тогда бяше не въ опасе, без страха и без боязни погании живяху, пива мнози варяху» (62, под 1480 г.); прибегал к словесным повторам: «немилостивно камениемь побиша… и тако немилостивну и лютую подъяша смерть» (59, под 1480 г.). Даже одиночные упоминания чувств сочетались с преувеличивающими определениями и сравнениями: «наиде туча дождевая страшна зело, и падаше з дождем камение, акы яблока, а иное – аки яица» (38, под 1421 г.).
Перечисления чувств и упоминания единичных чувств служили лишь одним из способов придания трагедийной напряженности рассказам летописца. Тому же способствовали перечисления и вовсе не чувств, тоже с преувеличениями-сравнениями: «и наполънишася источници, и рекы, и езера, акы весне» (31, под 1405 г.); «привезоша множество ратного запаса, и хлебовъ, и пива, и вологи, акы на пиръ зовоми» (60, под 1480 г.) и др. Или же с усиливающими обобщениями: «много же бед в та лета претръпеша болезньми, и мором, и ратми, и всех настоящих золъ…» (28, под 1370 г.); «и поидоша ко Пскову новгородци, корела, чюдь, вожани, и тферичи, и москвичи, и просто рещи, съ всеи Рускои земли» (39, под 1422 г.). Втянут был и счет в эмоциональное повествование: «Бысть моръ въ Пскове, яко же не бывалъ таковъ: где бо единому выкопали, ту и пятеро, и десятеро положишя» (29, под 1390 г.); «бысть чюдо преславно: явися на небеси 3 месяца» (65, под 1485 г.); «и в третии ряд стала река, и сварачало лед криньемь великым, акы хоромы» (58, под 1478 г.); «а от скоту не оставиша ни куряти» (62, под 1480 г.); «множество людии, их же не мощно исчести» (59, под 1480 г.); иногда получалось что-то вроде рифмы: «воеваша… 5 днеи и 5 нощеи, не слазяще с конеи» (25, под 1343 г.). Напряжение вносили и постоянные упоминания об экспрессивных откликах городских властей и горожан на события: «млъва многа в людех» (23, под 1330 г.); «думавше много» (24, под 1341 г.); «много томишася, биюще чоломъ» (25, под 1341 г.); «весь Псков выидоша съ кресты» (37, под 1420 г.); «непословича и многыя брани» (57, под 1477 г.); «не вемы, чего деля… не вемы, о чемъ» (62–63, под 1482 и 1483 г.) и т. д. и т. п.
Все это, казалось бы, можно объяснить псковской летописной традицией. Экспрессивность, даже броскость, повествовательной манеры «Псковской второй летописи» (или свода 1486 г.) точно отразила первоначальную экспрессивность, свойственную общему протографу псковских летописей и соответственно «Псковской первой летописи» (свода 1481 г.); недаром у обеих летописей много дословно сходных текстов5. Но сравнительно с «Псковской первой летописью» «Псковская вторая летопись», пожалуй, усилила экспрессию: в ней последовательно сокращались тексты протографа3, но зато последовательно же вставлялись новые, более яркие упоминания чувств, как правило, отрицательных.
Чаще добавлялись упоминания злобы персонажей. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось: «братия наша новгородци нас повергли, не помагають намъ» (18, под 1341 г.4); «Псковская вторая летопись» добавляла: «братия наша новгородцы не помогають намъ, и зли быша на ны» (24). Часто добавлялся гнев. В первой летописи: «князь великии не пустилъ нас к себе на очи три дни» (63, под 1463 г.); а вторая летопись разъясняла: «не пусти их к собе на очи, гневъ держа…» (52). Во второй летописи добавлялись целые эпизоды с гневом, вроде такого, как «Витовти оттоле нача гневъ великъ дръжати на пскович» (38, под 1421 г.). В первой летописи нет этого эпизода (ср. 34). То же было с различными иными проявлениями ярости и ненависти – они упоминались во второй летописи, но отсутствовали в первой. Например, по «Псковской первой летописи», новгородцы «псковичемъ не помагаше ни словомъ, ни деломъ» (30, под 1407 г.); а по «Псковской второй летописи», новгородцы уже «на пскович велику ненависть дръжаху» (33). Или по первой летописи, «местер с немцы» просто пошел на Псков (77, под 1480 г.); но по второй летописи, «гордяся поиде… хупущеся и скрежещюще зубы» (59) и т. п.
Старательней и чаще подчеркивалась горестность событий во «Псковской второй летописи». Так, если в первой летописи сообщалось, что «псковичи много биша челомъ великому князю Василию, дабы имъ помогъ» (29, под 1407 г.), то вторая летопись добавила: «…абы помоглъ бедным псковичемъ в тошна времени» (32). Иногда добавлялась фраза «биша чолом со слезами» (34, под 1408 г.; ср. первую летопись, 31).
Иногда добавлялись указания на страх, обычно во вставных эпизодах, отсутствующих во «Псковской первой летописи». Например, под 1425 г. обе летописи сообщали о том, что «бысть моръ во Пскове» (ср. 35 и 40), но вторая летопись продолжала: «А князь Федоса Патрикиевич того мору убоявся, поеха изо Пскова…»
Однако, в единичных случаях «Псковская вторая летопись», напротив, смягчала упоминания о печали и страхе, представленные во «Псковской первой летописи». К примеру, первая летопись под 1352 г. подробно описывала мор во Пскове и говорила об отчаянии: «Тогда бяше многъ плач зело и лютое кричание съ горкым рыданием… Кто бо тогда каменосердъ человекъ и без слез быти…» (22). Во второй же летописи летописец ограничился только ссылкой на источник об этом море: «О семъ пространне обрящеши написано в Рускомъ летописци» (27). Некоторые характеристики страха также были сокращены во «Псковской второй летописи». Так, под 1433 г. в первой летописи говорилось: «бысть страх и ужас на всех людех» (41); а во второй – «бысть страх на всех» (44). Причина всего этого механическая: упоминания чувств исчезали чаще всего из-за сокращения или опущения эпизодов во «Псковской второй летописи», в целом же в ней благодаря вставкам были усилены мотивы агрессивной экспрессивности событий.
Сравнительно со «Псковской первой летописью» летописец обычно если не вставлял, то делал выразительнее упоминания чувств и состояний. Например, под 1343 г. во «Псковской первой летописи» сообщалось, что при ложном известии о поражении псковичей от немцев «бысть въ Пскове плачь великъ и кричание» (12); во «Псковской второй летописи» же была усилена активность самого плача: «и бысть плач, и рыдание, и вопль великъ» («26). Иногда летописец делал чувства и состояния более масштабными. Вот, по рассказу первой летописи, псковичи уклонились от стычки с немцами, и «тогда бяхуть псковичи в сетовании мнозе и в печали» (31, под 1407 г.); во второй же летописи эта заключительная фраза эпизода превратилась в обзор отчаянного положения Пскова: «И бысть псковичемь тогда многыя скорби и беды ово от литвы, а иное от немець, и от свои братья – от Новагорода, ово смерти належащи» (34).
Благодаря добавлениям во «Псковской второй летописи» появились обозначения физического напора на объекты, их охвата. Например: «бысть буря велика, и сшибе кресть с церкви святыя Троици, и разбися весь» (31, под 1401 г.); или: «бе тогда мразы силно велици, а снегъ человеку в пазуху, аще у кого конь свернет з дорозе, ино двое али трое одва выволокут» (62, под 1480 г.). Этих, как и целого ряда подобных сообщений, нет во «Псковской первой летописи». Мотив сдавления тоже явственней выражался во «Псковской второй летописи»: «начаша прилежнее к городу лести» (41, под 1426 г.), а во «Псковской первой летописи» нет (ср. 36); «окова твердо железы» (45, под 1435 г.), а в «Псковской первой летописи» без эпитета: «окова его железы» (43) и пр.
Летописец усиливал и действия персонажей для большей напряженности своих вариантов рассказов, меняя синтаксическую структуру фраз и их смысл. Так, во «Псковской первой летописи» говорилось о крестном ходе около одной церкви, где «попове моляхуся за град и за люди, живущая в немъ, с кресты ходяще, моляхуся Богу» (41, под 1433 г.); а во «Псковской второй летописи» уже хождение с крестами распространялось на весь град: «священници начаша, по граду съ кресты ходяще, Богу молитися» (43). Или в первой летописи говорилось о новгородцах, что «не быша имъ Божия пособия» (53, под 1456 г.); во второй же летописи сообщалось гораздо энергичнее: «Новгородци же видевше непособие свое» (49). Во «Псковской второй летописи» добавлялись усилительные эпитеты и метафоры, например: «положиша въ святеи Троици честно и великолепно» (26, под 1349 г.); в первой же летописи без прикрас: «положиша и во святеи Троици» (20). Так же без прикрас в первой летописи: «почаше пушками бити» (77, под 1480 г.); но с изыском во второй летописи: «начаша огненыа стрелы на град пущати» (58). Из слова вырастали целые фразы – если в первой летописи: «немцы прочь побегоша во свою землю» (76), то во второй летописи: «И никым же гоними, разве Божиею силою съвыше, въскоре от града побегоша не своими дорогами, многая своя вещи пометавше, и тако разблудишася по лесомъ» (58).
Тут уже можно говорить об особом настроении псковского летописца: во второй половине 1480-х годов появилось у летописца тревожное ощущение недостаточной политической значительности сообщаемых псковских событий. Возможно, поэтому во «Псковской второй летописи» стало экспрессивней и напряженней изложение и были проделаны многочисленные сокращения уже излишне фактичного протографа5: опущены или сокращены упоминания о совсем уж мелких псковских происшествиях; обобщены подробности местных церемоний, переговоров, речей, молитв; убраны замечания об исключительности какихлибо случаев для истории Пскова; кроме того, летописец постарался не слишком переводить внимание на врагов и соседей Пскова и сократил некоторые относящиеся к ним эпитеты и эпизоды. Зато летописец ввел отсылки на «Русский летописец» и на далекие международные события в земле Волынской, хотя и не мог сказать, какое значение они имеют для Пскова: «не вемы, что срящеть ны по сих» (65, под 1485 г.).
Боялся же летописец того, «какъ бы еще нашему граду до конца не погыбнуть» (61, под 1480 г.), и надеялся: «да не погыбнете зле до конца» (63–64, под 1684 г.). Таких высказываний нет во «Псковской первой летописи». «Псковская вторая летопись» отразила творчество летописца, жившего «в опасе» перед грядущим «Псковским взятием» 1510 г.
По своему типу литературное творчество летописца во «Псковской второй летописи» относится к традиционному литературному творчеству, не только продолжавшему, но и развивавшему в экспрессивном направлении сложившиеся в ХV в. повествовательные традиции.
Примечания
1 Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М., 1955. Вып. 2. Страницы указываются в скобках.
2 Летопись по Лаврентиевскому списку / Изд. подгот. А. Ф. Бычков. 3-е изд. СПб., 1897. С. 74.
3 Охотникова В. И. Повесть о Довмонте: Исследование и тексты. Л., 1985. С. 193.
4 ПЛДР. Т. 4. / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. С. 452.
5 См. стемму списков: Псковские летописи / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1941. Вып. 1. С. LXIII.
6 См.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV.
7 Псковские летописи. Вып. 1. Страницы указываются в скобках.
8 Ср. беглые замечания об этом А. Н. Насонова и В. П. Адриановой Перетц. в кн.: Псковские летописи. Вып. 1. С. XLIV; История русской литературы. М.; Л., 1946. Т. 2. Ч. 1. С. 395.
Изобразительная анималистика «Сказания о Мамаевом побоище»
По анималистическим картинам «Сказания о Мамаевом побоище» творчество автора вырисовывается отчетливо. В «Сказании о Мамаевом побоище», точнее, в Основной редакции повести, наиболее близкой к авторскому тексту (по классификации Л. А. Дмитриева), неизвестный нам автор изобразил два отличающихся животных мира. Первым в последовательности изложения и наиболее заметным предстал героический животный мир, связанный с ратными деяниями людей, вторым и гораздо менее заметным – мир идиллический.
Скажем о специфичности изображения героического животного мира. В начале повести, в энергичном рассказе о появлении татар, автор заклеймил Мамая, который «аки левъ ревый пыхаа, аки неутолимая ехыдна гневом дыша» (26)1. Хотя использованные сравнения и метафоры в отдельности традиционны, их сочетание обладало относительно новым смыслом. Автор обозначил злобный звериный мирок со свирепыми животными, готовыми броситься на людей. Ни в зоологической реальности, ни в литературной традиции лев и ехидна не были дружны, они действовали воедино лишь в данном отрывке текста. то же автор почти дословно повторил в конце «Сказания»: «аки левъ рыкаа и аки неутолимаа ехидна», – и сильнее подчеркнул злобность такого мирка: «гневашеся, яряся зело, и еще зло мысля» (48). Это лишь элементарный образ-зародыш, но все же…
Данный образ был навеян автору не припоминаниями из области геральдики, например, гербом со львом и ехидной, а более общей литературной традицией2. В памятниках часто нагнетались «звериные» сравнения, в том числе с участием льва, и семантически не важно было, кто действовал вкупе со львом, – все равно намечался образ злобных звериных мирков. Упоминания льва и змия вкупе нередко встречались в переводной литературе – в библейских Премудростях Соломона, «Шестодневе» Иоанна Экзарха, житиях и поучениях «Успенского сборника», в «Александрии», «Пчеле», «Параллелях» Иоанна Дамаскина и т. д. Лев с другими зверями тоже выступал в произведениях переводных, наподобие «Хроники» Константина Манассии: «Яко левъ велми рыкаущии, яко пардосъ наскочи люте» (196). Лютый звериный мир обозначился и в оригинальных древнерусских произведениях. Лев несся в сонме зверей в «Галицко-Волынской летописи», в статье под 1201 г.: «Устремил бо ся на поганыя, яко и левъ; сердит же бысть, яко и рысь; и губяше, яко и коркодилъ, и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ; храборъ бо бе, яко и туръ» (236). Лев свирепствовал со зверьми в «Житии Авраамия Смоленского»: «И пакы яко лев нападая, яко зверие лютии устрашающе» (80).
В последующих редакциях «Сказания о Мамаевом побоище», которые местами служили истолкованием авторского текста, добавлялись, так сказать, в стаю ко льву новые хищники. Например, в Киприановской редакции повести (по иному называнию, в редакции «Никоновской летописи»): «яко лев ревый, и яко медведь пыхаа, и аки демон гордяся» (50). Однако образ злобного звериного мира оставался тем же самым. Отсюда явствует, что автор «Сказания», связавший воедино два сравнения – со львом и с ехидной, не добавил ничего принципиально нового к традиции и проявил себя лишь плодовитым книжником.
Упоминания львов со зверьми в «Сказании» больше не встречаются, кроме еще одного случая: в битве с татарами русские воины «сердца имуща аки лвовы, аки лютии влъци на овчии стада приидоша» (45). Весь эпизод восходит к «Задонщине» и к главе 18 из библейской второй Книги Царств, но фраза необычна, содержит случайно получившееся обозначение фантастических животных – волков со львиными сердцами. Волки были традиционно люты в литературе3, а «сдвоенные» волкольвы могли мыслиться тем более лютыми; и действительно, они «яко лютии зверие ристаху» (45). Образ, однако, остался слишком неотчетливым в Основной редакции, и поэтому он распался в последующих вариантах и редакциях «Сказания». Автор не вышел за пределы компилирования тропов.
В «Сказании» есть картины героического, но не агрессивного животного мира. Укажем, например, на описание выезда русского войска в поход – в форме развернутого сравнения с миром птиц: «Уже бо тогда аки соколи урвашася от златых колодицъ ис камена града Москвы, и възлетеша под синиа небеса, и възгремеша своими златыми колоколы, и хотять ударитися на многыа стада лебедины и гусины» (33). Судя по деталям, соколы не злобны, а энергичны, элегантны, парадны. Однако весь данный текст почти дословно был заимствован автором из «Задонщины» (ср. 537–538, 542–543), скорее всего, из ее синодального извода (552)4. Автор «Сказания» с удовольствием работал с чужим словом, но не создавал своего резко оригинального изложения.
Накануне битвы героический животный мир выглядел не молодцеватым, а растревоженным, мятущимся: «мнози влъци… выюще грозно… галици же своею речию говорять, орли же мнози… слетошася, по аеру летаючи клекчють, и мнози зверие грозно выють» (38). Однако и данный текст оказался заимствованным из «Задонщины» (ср. 536 и 537; 542 и 544; 549; 552 и 555)5. Авторское добавление – о многих воющих зверях – явилось абстрактным обобщением, сделанным на основе текста источника же. Воображение автора «Сказания» питалось книжностью.
В описании животного мира автор «Сказания» ориентировался не на одну только «Задонщину». Вот в «Сказании» развертывается рассказ о предзнаменованиях за ночь до битвы. Животный мир, окружавший татарское войско, распределен автором по четким секторам: «съзади же плъку татарскаго волъци выють грозно велми; по десной же стране плъку татарскаго ворони кличюще, и бысть трепетъ птичей великъ велми; а по левой же стране, аки горам играющимъ – гроза велика зело; по реце же непрядве гуси и лебеди крылми плещуще, необычную грозу подающе» (40). Детали, все до одной, заимствованы из «Задонщины»3, но использованы автором по-своему: отряды животных соответствуют размещению людей по полкам, подчинены единой воинской «диспозиции». Это воздействие традиций военно-деловой письменности. В «Сказании» часто встречается изложение таких «диспозиций», только не звериных, а людских. Так, до эпизода с предзнаменованиями автор рассказал с «диспозиционным» уклоном о том, как великий князь уряжал полки: кого «себе же князь великий взя в полкъ», кого в «правую руку уряди себе», кого в «левую руку себе сътвори», кого – в «передовой же плъкъ» и пр. (34). После эпизода с предзнаменованиями автор снова разметил, кто «передовой плъкъ», кто «с правую руку плъка ведеть», кто «левую же руку плъкъ ведеть» (43). Расположение войск и княжеских свит неоднократно описывалось в «Сказании» с деловитым распределением по секторам в соответствии с традициями документалистики. Автор являлся многоопытным книжником.
Об изощренном книжнике-компиляторе свидетельствует в «Сказании» второй мир природы, не сразу бросающийся в глаза, идиллический, ласкающий, как бы не зависимый от битв. В него на правах детали входили боевые кони (вместе со всадниками) – только кони и ни какие иные животные.
Например, в сцене выезда в поход великому князю сопутствует прекрасное утро: «солнце ему на востоце ясно сияеть, путь ему поведаеть» (33). Текст дословно заимствован, конечно, из «Задонщины»: «Солнце ему на восток сияет и путь поведает» (537. ср. в других списках – 543, 549, 5534). Сцена символична и в «Задонщине», и в «Сказании», но, в отличие от «Задонщины», автор «Сказания» добавил предметные детали: «Напреди же ему солнце добре сияеть, а по нем кроткий ветрецъ вееть». Войско комфортно выезжало, словно не на битву, а на отдохновение: солнце исполнено доброты, «ветрецъ» необычно ласков, не дует даже, а веет, и не в лицо войску, а в спину. Эту картину продолжили последующие варианты и редакции текста «Сказания», приводя все новые идиллические детали. Так, в печатном варианте основной редакции была усилена ласковость солнца, которое не только сияет, но «и добре греет» (111). В Киприановской редакции (редакции «Никоновской летописи») была усилена ласковость ветра: «а ззади по нем кроткий и тихий ветр веаше и дыхаше» (57).
Картина идеально мягкого и приветливого утра не встречалась ни в «Задонщине», ни в «Слове о полку Игореве», ни в летописях, ни в иных, предшествовавших «Сказанию» древнерусских памятниках, она не принадлежала к литературной или фольклорной традиции. Однако ни одна деталь этой картины не была найдена в реальной жизни самим автором «Сказания», каждую из них он взял из литературы и усилил, следуя обычной манере украшенного повествования, создал ювелирную литературную инкрустацию. Правда, не известно, откуда заимствовано выражение «кроткий ветрецъ», – возможно, из обыденной речи. Автор был творчески смелым компилятором.
Совершим экскурс на тему о художественной роли коней в «Сказании». В составе рассмотренного эпизода упоминались кони: великий князь «възыде на избранный свой конь, и вси князи и воеводы вседоша на коня своа». Отличие от «Задонщины»: упоминания коней в «Задонщине», как и во многих памятниках, относились к героической воинской сюжетике – кони представали оседланными, со златыми стременами, «поскакивали» парадно. В «Сказании» же кони лишились этого. Зато конь назван «избранным», то есть отменным (тот же эпитет в распространенной редакции и в Забелинском списке. В печатном варианте основной редакции – конь «любимый», в летописной редакции – конь «любезный», в Киприановской редакции – без эпитета). Отменна и приятна погода, отменны и приятны кони, которые отделены от героики и вставлены в картину мирной природы. Кстати, «синиа небеса», упомянутые в этом же отрывке, тоже переместились из мира героического, характерного для «Задонщины», в мир идиллический, в картину идеального утра. Внутри традиционно героических картин автор «Сказания» стал изображать идиллическую природу.
И далее, по тексту, в эпизоде смотра русского войска великий князь видит: знамена «аки некии светилници солнечнии светящеся въ время ведра… просьтирающеся, аки облаци, тихо трепещущи … доспехы же русских сыновъ, аки вода въ вся ветры колыбашеся, шоломы же на главах ихъ, аки заря утреняа въ время ведра светящися» (39). Нарисованы две картины: одна, главная, – построенного войска; другая, создаваемая дополнительно сочетанием сравнений, – картина погожего утра: вёдро, утренняя заря, встающее солнце, легкие облака, тихо трепещущий ветерок и слегка колеблющиеся воды. Картина утра была не символичной, а реальной: автор указывал даже реальное время – смотр проходил не быстро, «до шестаго чяса» дня (38), то есть до полудня5. Но утро изображалось настолько прекрасным, бодрящим, сияющим и свежим, что его образ противоречил обстановке горестного и напряженного смотра, когда обреченных на гибель воинов, как говорилось тут же, «умилено бо видети и жалостно зрети» (39).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































