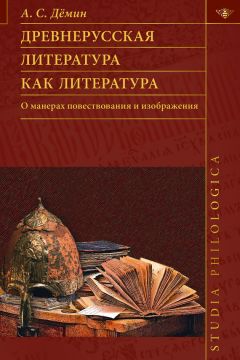
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 38 страниц)
1650-е – первая половина 1660-х годов: стремление верхов к умиротворению общества, но отгороженность от «нагих-босых»
1650-е – первая половина 1660-х годов – это время проведения и утверждения никоновских реформ, породивших большое число разнообразных сочинений и документов. Подавляющее большинство их было посвящено относительно частным, утилитарным темам. Не так уж много памятников широко характеризовало общественные настроения тех лет. К таковым из рукописных источников относились лишь единичные документально-полемические сочинения со вкраплениями очень кратких характеристик общероссийской обстановки да одна-две повести. Среди печатных изданий 1650-х – первой половины 1660-х годов было немало повторений прошлого. Пожалуй, не более 15 изданий отличалось оригинальными предисловиями и послесловиями. Они-то и составляют основной фонд текстов для наших наблюдений.
Старопечатные предисловия и послесловия 1650-х – начала 1660-х годов делятся на три хронологические группы. Для этих текстов первой половины 1650-х годов были типичны довольно длинные панегирики царю и патриарху за проводимые церковные реформы, например в предисловиях, сочиненных Епифанием Славинецким: Алексей Михайлович и Никон «преданыя им грады украшают, к сим суд праведен, правду нелицеприятну, любовь истинну, благочестие неповредно храняще…» (41)109; «О, достохвалнаго, благоприятнаго, ползоноснаго, благопотребнаго священноначалническаго тщателства, им же… пажить уготовляется… вода… в напоение… почерпается … благолепие устроевается… чин… опасно соблюдается» и т. д. (Скрижаль, 11–12). Ср. «покаянные» стихи, сочиненные не ранее патриаршества Никона: «Второй Иерусалим явися царство Московское. Убо зрите и разумейте, вернии сынове света, российское достояние» (41).
Но издатели не увлекались идеализацией событий. Во всех их похвалах поминались некие теневые обстоятельства, в которых вершили реформы царь и патриарх: «воистинну бо их благочестным повелением лукавство исчезе, неправда отгнана бысть, лжа потребися…» (Служебник, 42–43). Эти отрицательные обстоятельства пояснялись и поконкретнее: власти «от священноначалствуемых мрачную умовреднаго невежества тму прогоняют», «темен неведения мрак разрешающе», «неве жества во многих уме лежащаго камень… от мысленнаго таинъственных священнодейств кладязя отвалити потщася» (Скрижаль, 4, 9—10). Издательские панегирики, несомненно, намекали на противодействие в российском обществе распространению никоновских реформ. Автор предисловия к «Скрижали» открыто негодовал: то, что ввел Никон, «неким неискусным и самомудрым, паче же суемудрым скаредовиднаго безчиния рачителем есть ненавистно. Сии бо темным умовредныя ненависти или дебелаго неведения мраком душевредне омрачившеся и мысленная очеса своя во еже на светлую исправлений лучи не зрети смеживше… Оле, пагубоноснаго роптаниа! О, несмыслении ропотницы!..» (Скрижаль, 13–14).
Если последователи Никона были раздражены, то противники его реформ тоже испытывали отрицательные чувства. Например, Иван Неронов писал в своих посланиях в 1653 и 1654 гг.: «Люди Божия смущаемы и печалию погружаемы», «ныне мнози озлоблены и устрашены», «чадом церковным везде плачь» (38, 39, 72). Казалось бы, в обеих группировках должно было усилиться взаимное озлобление.
Но если говорить о настроениях верхов, то нельзя пройти мимо того факта, что те же панегирики царю и патриарху в старопечатных предисловиях и послесловиях выражали вовсе не чувства ненависти или злобы по отношению к несогласным. Хулы в адрес противников были редки. Авторы нажимали на слова «согласие», «союз», «любовь», например: правленные при Никоне книги «друга друзей вси согласуют… ради церковнаго соуза и согласия… Во едино согласие вся сочеташа… к согласию же и к соединению благому церкве» (Кормчая, 647–647 об.). Общественное согласие выставлялось целью реформ. Авторы подчеркивали мирную, радостную устремленность никоновских реформ на каждом мыслимом этапе. Сначала Бог «благоволи… всех православия питомцев… возвеселити… правоверных догмат целостию утешити». Затем «от духа премудрости и кротости подвигся» патриарх. «Всем сущым под ними тоежде творити повелеша» царь с патриархом, и вот уже как бы в самом деле «истинна ликует, правда цветет, любовь владычествует» (Скрижаль, 2, 41, 43, 2 об.). Авторы, по-видимому, очень хотели любви и мира в обществе.
Особенно ясно желание мира видно из издательских обращений к читателям ко «всему православному роду российскому» (Скрижаль, 18). Прямыми и косвенными призывами и пожеланиями о мире авторы буквально заполнили предисловия и послесловия: «Буди же вам, христоименитому достоянию, всем известно, яко да соуз мира церковнаго твердо в дусе кротости хранится и да не будет несогласия ради распри в церковном телеси» (Кормчая, 647); «и ничто же по сему нужнейши и краснейши есть человеком сего ино мнети по словеси божественаго Павла, пишуща к римляном: “Аще возможно еже от вас, со всеми человеки мир имейте”» (Служебник, 1 об.). Патриарх Никон в грамоте, опубликованной отдельной книжечкой, также обещал читателям время, когда «устремляющыяся на ны волны и бури утишит и мир сотворит» (25). Ср. такие же заверения в царской грамоте 1654 г.: «мир строится и, любя, тем присно на лучшее преуспевати… присно благих желающе и лучшее преспевающе» (330). Издатели не испытывали озлобления к тем, кто не принимал никоновских реформ.
Правда, издательские призывы и пожелания к читателям о мире имели существенный оттенок. Так, в предисловии к «Служебнику» провозглашалось: «Праведно есть и нам всякую церковных ограждений новину потребляти» (7). Этот призыв был взят из речи Никона, помещенной в том же «Служебнике» (16). Из контекста предисловия и, конечно, из речи Никона следует, что под «новиной» авторы подразумевали дониконовские порядки, а в качестве старого выдавали никоновские реформы. Все перевернуто с ног на голову! Подменой оценок автор предисловия стремился сбить упрямых читателей с панталыку. Авторские предложения мира и согласия читателям имели скрытое условие: принять сторону Никона. На таком скрытом условии основывались многочисленные воззвания к читательской массе о знаменующем общий мир единодушном почитании царя и патриарха: «Должно убо всем повсюду обитающим православным народом восхвалити же и прославити» царя и патриарха – за реформы; «да возрадуютъжеся вси живущии под державою их и да возвеселятся… да под едином их государским повелением вси повсюду православные народи живуще утешительными песньми славити имут» – никоновские реформы (Служебник, 40, 44). Иногда же повод для восхвалений назывался несколько яснее: «Елико же кто вас, православных читателей иафефороссийскаго народа, со благодарением сие дело от них приемше… хвалу… благодарение… молитвы воздадите» (Триодь, 2). Пожалуй, только однажды формулировка условия будущего мира вырывалась из пут двусмысленности: «аще чада Божия непорочна быти вожделеют… многокозненну зависть истребят, искреннюю любовь в сердце своем насадят, богомерзкое безчиние возненавидят, боголюбезное благочиние возлюбят и, самому первостолному церковнаго священноначалия чиноначалнику во всем благоумне покоршеся, досточестная воздадят о сем благодарения» (Скрижаль, 16–17). Издатели ставили читателям условия мира не жестко, но твердо. Подобная позиция не обостряла сложившуюся обстановку, но и не смягчала ее.
Затем, в старопечатных изданиях второй половины 1650-х годов, произошла смена акцентов. Прежде всего описания распрей и несогласий стали гораздо определеннее. Например, сам Никон в «Поучении» печатно объявлял: «мнози, купно и особь собирающеся, о нас глаголаху неподобная и грехи наша понимающе… Тии же которавшии на нас не удовлившеся сим, но и ложная от лукаваго сердца видения и сония пред очи простейших предлагаху. Простии же и ненаученнии… внимают баснем их крамолным и бесовским и ложным их пророчеством… и чюдо, како и сим таковым лживым сновидцом мнози ненаказаннии последуют» (23–24, 25–26, 38). Издатели уже не чувствовали некие «душевредные облака», а отчетливо видели толпы враждебно настроенных людей.
В старопечатных обращениях к читателю постоянно стала предусматриваться неприятная ситуация: «ащо… обрящеши яково в чесом сумнителное тебе», «аще где и случися яковому чесому привпасти поползновению» (Ирмологий, ненумерованн. 5, 6 об.); «аще ли суть нецыи, чтуще книги сия… и не хотят веровати», «аще кто не веровати сему хощет» («Слово» Никона, 51, 64). Издатели, которые обращались «всем, всякаго чина и возраста, мужеска полу и женска, православным христианом» («Поучение» Никона, 2), теперь постоянно ощущали присутствие сомневающихся или даже недружественных читателей. Все это вполне соответствовало реальной обстановке проведения никоновских реформ, начавшемуся общественному расколу.
Естественно, что печатные упоминания о будущем мире и согласии перестали быть такими частыми, как прежде. Издатели теперь не увлекали читателей к миру, а вежливо просили его, как, например, в послесловии к «Евангелию»: «Честностем вашим всех благих, наипаче же мира, любве… просим» (2 об.). Желание мира словно потеряло остроту. Издатели без прежней уверенности надеялись на наступление мира: «и вем, яко всяк от вас восхощет послушати Христа», – и призывали не столько к благополучному миру, сколько к общему плачу по поводу распри: «Но приидете убо вси… и восплачем, вси православнии народи, мужи, жены и отрочата, всякаго чина и возраста… возставим общь плачь… Возвысим глас моления вместо ненавидимаго… кричания» («Поучение» Никона, 44–45). В сознании издателей момент наступления общественного мира явно отдалился. Надежда на мир стала более холодной.
Будущее казалось иным. Авторы теперь раздавали только внешне примирительное, а на самом деле досадливое прощение инакомыслящим: «Буди им милость Божия и не постави им Господи, греха, аще ли живыя или отшедшия» («Поучение» Никона, 25); «буди им милость Господня, понеже немощь человеческую помышляють» («Слово» Никона, 51 об.). Авторы уже словно не могли справиться с читателями и пускали дело на самотек.
Но совсем отказаться от воздействия на читателей, конечно, было невозможно. Издатели переменили решительные призывы к читателям на сравнительно осторожные уговоры, вроде такого: «Не точию не внимати леть есть лжесловесию оных лживых сновидцов, но и блюстися их яко губителей» («Поучение» Никона, 35). Издатели понимали, что читатели вполне могут не «блюстися». Издатели перестали толкать читателей к немедленному нужному действию и вынуждены были побуждать их к размышлениям: «да искусит вещию… но иже искусом познав, уразумееть лучшее» («Слово» Никона, 64 об.); «судите сами, чада возлюбленная, кого вам требе послушати…» («Поучение» Никона, 40–41). Приходилось ждать, чего решит читатель.
Издатели отсылали к неким авторитетным советникам: «Тебе, православного читателя, с покорением любезно молим… да не предвариши осудити или укорити нас, но прежде… сведущим вникнув», «исправи умом своим, и не едиточию, но со множайшими мудрости сея достойными и искусными» (Ирмологий, ненумерованн. 5 об., 6 об.). Это был новый элемент в обращениях издателей к читателям и, следовательно, в сознании издателей. Между двумя сторонами – авторами и читателями – вдруг появилась третья сторона.
Неожиданно четкое отражение этого нового явления находим в рукописном сочинении одного монастырского краснобая – в огромном богословском послании влиятельного соловецкого инока Герасима Фирсова к архимандриту Саввино-Звенигородского монастыря Никанору, составленном не позднее 1658 г. (XXIV). Здесь немало говорилось об истолковании различных текстов, и в конце послания многознающий Герасим Фирсов вывел лапидарное правило осмысления сочинений: «Достоит… навыкнути истинное… не собою, но ходатайством посреде некако вышележащаго нас чина служебническаго» (130). То есть предполагалось, что теперь автор непосредственно не мог внушить нужное читателю; для этого требовался третейский суд.
На примере самого себя Фирсов пояснял должное поведение читателя: «Паче же бояся и никако же отнюдь веруя своему разуму когда, со многою боязнию и смотрением прилагаю се, яко, аще имать ин некий разум добрейший, от сих чтый да смотряет и разумевает…» (129). Ни авторы, ни читатели не мыслились у Фирсова главными сторонами; за главную силу выдавались какие-то мудрые истолкователи, примирявшие возраставшее расхождение писателей и читателей. Вот снова мирный выход из общественного конфликта, предложенный писателями, тяготевшими к российским верхам.
Издатели 1650-х годов даже несколько конкретизировали условия мирного улаживания разногласий. Судя по эпизодическим замечаниям, в качестве третьей, решающей, стороны авторы были склонны выбирать тех, «елико кто изообилует дарованием родоязычия», «аще сам искусен греческа диалекта», «яже аще кто усердие имея к писанию божественому и к сему поне малейшую часть греческа языка навыкновение» (Триодь, 1 об.; Ирмологий, ненумерованн. 5 об.; Евангелие, 2). То же с присущей ему определенностью заявлял Герасим Фирсов: «добро убо свершеным и обучена имущим душевная чювьства к разсуждению лучшаго и злаго» (115). Издатели фактически открещивались от «простых и ненаученных» читателей и слушателей: «простии же и ненаученнии не ведуще полезнаго» («Поучение» Никона, 26). Герасим Фирсов осуждал резче: «не добро же простым и еще сущим о Христе младенцем», от них «всяка бо прелесть и ересь сице введена бысть житию» (115, 128). Путь общественного умиротворения, понравившийся всем этим издателям и авторам, не был демократическим. У такого рода авторов имелся идейный ориентир. Ведь наиболее развернуто и резко «простии» осуждались в правительственных документах тех лет, например в царских грамотах: «Есть некие, именуются всуе православные христиана, розных всяких чинов люди, от препроста ума своего и своим неразумием и нерадением, гордости ради… без покаяния всегда пребывают» (царская грамота 1660 г. в Великий Новгород, 160). Издатели книг думали об умиротворении в интересах верхов.
Наметившаяся общественная позиция издателей получила законченное воплощение в книгах первой половины 1660-х годов. Тогда из четьих книг в свет выпускались издания преимущественно богословского содержания – «Анфологион, си есть Цветословие» (сборник переводов Арсения Грека), «Библия», толкования Иоанна Златоуста на Евангелие, сборник переводов Епифания Славинецкого из отцов церкви. Уже сам по себе подобный репертуар изданий предполагал подготовленного читателя.
Любопытна в связи с этим история сборника переводов Епифания Славинецкого. На титульном листе сообщалось, что книга была составлена еще в 1656 г., а издали ее только в 1665 г. – тогда, когда возобладала ориентация издателей на очень образованного читателя. Знаменательно, что из предисловий и послесловий исчезли упоминания о «простых» читателях. Издатель теперь упрекал своих современников за то, что они в учености отставали от Максима Грека: «Во всех благоискусен бе сый и много от человек ныняшняго настоящаго времене отстоящ мудростию и разумом во всяком остроумии» (Беседы 1664. Послесловие, 2–2 об.)110. При таких требованиях мало кто мог считаться достойным чтения книги.
Представления издателей об избранном читателе детализируются по тому предисловию к печатной «Библии», которое написал Епифаний Славинецкий. Эпитеты говорят сами за себя: «Читателю благочестивому и в писаниих люботщаливому», «иже дар по благодати Духа святаго родоязычия имеяй», «любомудрию твоему» – вот к какому знатоку в первую очередь адресовалась книга (2–2 об.). В наставлениях читателю уже не шло речи о советниках: «егда вникнув в сию божественную книгу… первее увеждь вину вещи… и тогда держай», «аще восхощеши, чтый изследити о сих», «веси и сам» – самому читателю доверялось разбираться в прочитанном (2–2 об.).
Разбираться же надо было в длиннейших, бесконечных фразах с массой вставных и придаточных предложений111. Например, о том, что царь повелел издать «Библию», сообщалось так (цитируем с большими сокращениями): «Сие ведение… возлюби и взыска… по некоего мудраго словеси, “невесту водити себе и любитель быти красоты ея”, благоверный… царь… и не себе единому, по Сираху, трудися о взыскании ея, но и всем ищущым наказания; …восхоте и сию божественную книгу, Ветхий и Новый завет, прежде не сущу зде в велицей России художеством типографства издану, ныне издати и миру даровати; паче же нам, роду славяно-российскому, благодатно преизбыточествова; юже ныне видев, благочестивый и православный читателю… не забывай достойна делателя мзды твоей, иже бо николи же никто же мимошедших времен от царей и благочестивых князей зде, в велицей России, сицевое великое сокровище, паче многих тысящ всяческих сокровищ мира сего, о нем же в начале тебе изъявлено, яково есть, церкви великороссийстей предложити усердствова типографии художеством, яко же…» и т. д. и т. п. (2). Подобное изложение было рассчитано на образованнейшего читателя, который легко бы следил за ходом мыслей, потому что все эти сведения и объяснения, похвалы и цитаты в более полном и систематизированном виде уже присутствовали в его памяти.
Издание «Библии» не предназначалось для широкой массы читателей. Недаром в предисловии Епифаний Славинецкий без обычных количественных определений «чтущего» народа отмечал, что книга издана «ради… зде в велицей России ищущих и хотящих имети я» и только (2 об.). Правда, в кратком и, надо сказать, шаблонном послесловии издатели обращались ко «всем же повсюду православным христианом, господием, и братии, и другом» (516); но это шаблонное обращение было использовано просто по традиции. Предисловие к «Библии» вернее, чем послесловие, указывало на реальный круг читателей, желанных издателям.
Прочие впервые изданные четьи книги первой половины 1660-х годов предназначались издателями для того же довольно редкостного, наученного языкам читателя, понимавшего «различна речения» и «с греческих и славенских различных преводов произволы» – варианты (Беседы 1665, 2; сборник Епифания, тит. об.). Стремление издателей замкнуться в сравнительно узком кругу «искусных» читателей проявилось во время резкого обострения споров из-за никоновских реформ. В посланиях, челобитных и грамотах тех лет открыто признавалось наличие раскола, «иже на Москве глаголетца от всемножественного народа»: «и учал быти раскол: в книгах речь, а в людех другая»; «брань бо сия лютейшая… смущение убо велие… распря и несогласие»; «ныне в народе многое размышление и соблазн, а и в иных местех и расколы» и др. (послание Никона 1662 г., 226; челобитная чудовского монаха Савватия около 1662 г., 40; челобитная Ивана Неронова 1660 г., 168, 170, 176; грамота Алексея Михайловича 1662 г., 243). То, что в этих условиях издатели книг еще не пошли на печатную полемику с противниками никоновских реформ, а как бы отгородились от них, свидетельствовало о прежней, мирной позиции издателей и их руководителей. Только возможности для сохранения мира все сужались и вот почти исчезли. Через год-другой тактика верхов была изменена. Появление Симеона Полоцкого на общественной арене помогло российским верхам начать и в печати ожесточенную борьбу с «простими», с «невеждами», с раскольниками.
«Повесть о Горе и Злочастии, какъ Горе-Злочастие довело Молотца во иноческий чинъ», при всей своей лиричности, отразила большой комплекс социальных представлений ее автора. Однако прежде чем заняться социальными воззрениями неизвестного автора, желательно поточнее датировать эту знаменитую «Повесть». Исследователи относят ее к XVII в., охотнее ко второй половине XVII в., чем к первой половине. Чтобы определеннее атрибутировать «Повесть», обратим внимание на некоторые ее реалии.
Главным для датировки в данном случае является следующее высказывание «Повести» о Молодце: «Крестил он лице свое белое… горазд он креститися, ведет он все по писанному учению (8)112. Упоминание крещения «по писанному учению» объясняется использованием в «Повести» традиционного фольклорно-былинного выражения. Если автор как-то соотносил привычное фольклорное выражение с современной ему действительностью, то тогда стоит подумать, когда в XVII в. могло и когда не могло употребляться выражение «крестится… по писанному учению». Патриарх Никон, как известно, заменил двухперстное крещение, завещанное «писанием», на трехперстное. Реформы Никона, включая перемену в способе крещения, широко, общенародно разъяснялись не «писанием», а печатными изданиями. Связь реформ Никона с печатным «учением» была в то времена общепризнанной: соответствующие никоновские документы ссылались прежде всего на печатные греческие и московские книги; противники реформ обвиняли Никона прежде всего в следовании «книгам латиногреческим печатным»113.
Ср. противопоставление «писания» и «печати» в песнопении о Никоне, приписываемом Аввакуму: «А како мы в писание слышахом, не вразумихомся… А како нас угодник антихристов прельстил… и всем даде свою богомерскую печать на челе и на десной руце. О, люте, злый Никоне… Не ты ли потоптал закон и книги пророческия, не ты ли поругал Троицу трисоставную, в ней же мы крещаемся и им же мы знаменаемся и кладем на лица своя?.. Не ты ли предал печать скверную всем человеком? О Господи, владыко, творец наш, помилуй нас от… его печати скверныя» (190–191).
Значит, можно предположить, что Молодец в «Повести о Горе-Злочастии» крестился по старому, «писанному учению»; автор сказал бы иначе, если бы дело происходило после окончательного утверждения никоновских реформ. Троеперстие было утверждено церковным собором 1656 г., но затем последовал десятилетний период разногласий, когда большинство населения крестилось двуперстно по-прежнему; только «заповедь» собора в июле 1666 г. положила начало резкому реальному разделению на старообрядцев, которые продолжали креститься «по писанному учению», и на «никониан», крестившихся по установлениям никоновских печатных книг114. Значит, «Повесть о ГореЗлочастии» появилась не позднее 1666–1667 гг. Это предположение, конечно, шаткое: если автор бездумно повторил привычное выражение о «писанном учении», то оно не имеет датирующего значения.
Второе датирующее высказывание в «Повести»: «Ты поиди, Молодец, на царев кабак» (14). Кабак в «Повести» упоминается неоднократно. Но в соответствии с царскими указами в период с 1652 г. до 1 сентября 1664 г. кабаки были переименованы в «кружечные дворы» (сокращенно «кружала»)115. Значит, «Повесть» могла быть написана или до, или после этого периода. Правда, такое предположение тоже шатко: в народе кружечные дворы могли по-старому называть кабаками и после царских указов; даже в официальных документах 1652–1654 гг. кружечный двор нет-нет и прозывался кабаком116. И все-таки доводы, хоть и шаткие, очерчивают некие хронологические рамки: «Повесть о Горе-Злочастии» могла появиться или не позднее начала 1650-х годов, или в середине 1660-х годов.
Дополнительные наблюдения позволяют указать предпочтительное время появления «Повести». Дело в том, что в «Повести» можно обнаружить множество косвенных связей с правительственными мероприятиями и требованиями конца 1640-х – начала 1650-х годов и с более поздними; притом не с самими постановлениями, а с их результатами, с привычными обстоятельствами, сложившимися после соблюдения таких постановлений. Так освещается в «Повести» история пьянства Молодца. Рассказывается, что, «как будет день уже до вечера, а солнце на западе, от сна Молодец пробужаетца» в кабацкой избе и покидает кабак (6–7). В упоминании того, что Молодец уходит из кабака именно вечером, возможно, отразился установившийся обычай, введенный царскими предписаниями 1652–1653 гг.: кружечные дворы (а затем и кабаки) «запирать за час до вечера» летом, а зимой еще раньше117. Совет Молодцу на случай пира – «не пей, чадо, двух чар за едину» (3) – тоже можно сопоставить с указами 1652–1653 гг.: «а продавать вино… по одной чарке человеку, а болши той указной чарки одному человеку продавать не велели»118. В кабаке Молодец «испивал чару зелена вина, запивал он чашею меду слатково и пил он, Молодец, пиво пьяное» (6). Но в кружечных дворах первоначально было запрещено торговать медом и пивом: «пива и меду продажного отнюдь бы не было»; правда, затем вроде бы разрешили завести мед и пиво на кружечных дворах, но, вероятно, не везде; и еще в 1660 г. документы осторожно оговаривались: «а буде на кружечных дворех изволит великий государь опроче вина быть пиву и меду…»; только с новым открытием кабаков в 1664 г. повсеместно разрешалось «пиво и мед продавать»119. Молодец действительно пил в кабаке, а не на кружечном дворе. Наконец, от соблазна пьянства «Молодец в монастыр пошел» (22); и тут нельзя не вспомнить череду строжайших церковных запрещений 1649–1652 гг.: «во всех монастырех хмелное питье, вино и мед и пиво, отставить»120. Эта россыпь бытовых деталей в «Повести» позволяет относить произведение не ко времени до начала 1650-х годов, а скорее к середине 1660-х годов. Наш хронологический выбор подтверждает еще одна реалия в «Повести»: Горе внушает Молодцу «убити и ограбить, чтобы молотца за то повесили или с каменем в воду посадили» (22). Повешение или утопление за разбой или иные преступления специально не оговаривалось «уложением» царя Алексея Михайловича 1649 г., но именно серия царских указов 1654–1659 гг. уточнила, за какие вины вешать121. Любопытно, что уточняющее указание на повешение за убийство содержит, кроме «Повести о Горе-Злочастии», также и «Сказание об убиении Даниила Суздальского и о начале Москвы», тоже сочиненное после 1652 г. (но до 1681 г.): «А тебе, княгина Улита Юрьевна, повешеной быть на воротех и зле ростриляной, или в землю по плечь жывой быть закопаной, что мы напрасно здумали зло на князя неправедно» (202–203. Говорят ее соучастники). И все-таки нельзя не отметить разницу. В «Сказании об убиении» ориентация на правовые нормы более ощутима: по «Уложению» 1649 г., закопание заживо действительно полагалось жене, убившей мужа. В «Повести о Горе-Злочастии» же оглядки на конкретные обычаи уголовного права, возможно, и не было; повешение Молодцу могло назначаться по традициям фольклора; ср., например, пословицы о разбойниках: «Дошол тать в цель – ведут его на рель», «жаль вора да повесить», «злое ремесло на рель занесло», «опочинь вор на рели» (сборник пословиц, 96, 100, 105, 130). Датировка «Повести о Горе-Злочастии» все-таки выходит предположительной.
Но тем нужнее для датировки возможные подтверждения с разных сторон. Вот совсем иная реалия в «Повести»: когда у Молодца в очередной раз «не стало деньги, ни полуденги», то «пришла ему быстра река, за рекою перевощики, а просят у него перевозного, и подать Молотцу нечево» (15); но за спетую песню перевозчики вдруг перевезли Молодца, «а не взяли у него перевозного» (19). Здесь вспоминается уставная царская грамота 1654 г., запрещавшая злоупотребления разными поборами на перевозах; грамота установила единую небольшую плату за перевоз: «На великих реках… в вешнюю полую воду… с пешаго человека по деньге… на меньших реках… с пешаго человека по полушке»122. Отсюда, возможно, и проистекала уступчивость перевозчиков в «Повести о Горе-Злочастии». Быть может, не случайно, что эпизод с перевозчиком и платой перевозного есть также в упомянутом «Сказании об убиении Даниила Суздальского», хотя перевозчик здесь жадный и коварный (201–202).
И еще несколько соответствий. В «Повести о Горе-Злочастии» подчеркнута необходимость соблюдения «вежества» в поведении: «люди… учнут тя чтить и жаловать… за вежество» (11); вопрос о «вежестве» постоянно вставал с конца 1640-х по начало 1660-х годов; и документы отмечали: «…невежливым обычаем пришли к государеву двору»; «в челобитной вашей писано с болшим невежеством»; «говорил с невежеством»; «учали бить челом с большим невежством»123. В «Повести о Горе-Злочастии» отмечается место детей купеческих на пиру: «место среднее, где седят дети гостиные» (8); датирующая зацепка здесь такова: именно в 1659 г. вспыхнул спор о месте купечества; некоторые купцы претендовали быть выше даже самих дьяков; спор дошел до царя; после разбирательства по царскому указу и боярскому приговору было велено, чтобы «гости были написаны дьяков ниже многими месты» – в месте среднем или ближе к среднему, потому что «ныне-де в гостином чину люди молодые и дети обычных отцов торговых людей»124. В «Повести о Горе-Злочастии» находим описание зажиточного двора: «Двор что град стоит, изба на дворе, что высок терем» (8); оказывается, в 1650-е годы шли споры и о высоте надворных строений, которые хозяева нередко делали высокими, затемняя свет соседям; последовал царский указ125.
Разумеется, не удается жестко приурочить «Повесть о Горе-Злочастии» к бытовым явлениям тех или иных десятилетий XVII в., потому что история русского быта изучена недостаточно подробно. А если у «Повести» украинские корни? Это усложняет датировку. Однако предварительные сопоставления, изложенные нами, свидетельствуют, пожалуй, в пользу предположения о середине 1660-х годов как о времени появления «Повести о Горе-Злочастии» в том виде, какой передал ее единственный дошедший до нас список.
Обратимся к социальным представлениям автора «Повести». Прежде всего показательно пристрастие автора к группировке людей. Автор эмоционально делил общество на две противоположные части: есть люди «мудрые», «мудрые и разумные», «мудрые и досужие» (то есть искусные) и есть люди «глупые», «глупые-немудрые» (3, 4, 9, 13).
Проводилось в «Повести» еще одно разделение людей: есть «государи люди добрые» (8—11, 18–19) и есть люди злые, плохие. Соотношение всех этих категорий людей было несложным. Оно подсказывается синонимами к слову «добрый». Например, в одной из фраз «Повести» синонимом к слову «добрый» было как раз слово «мудрый»; эти слова были поставлены автором в единый синонимический ряд прилагательных: «ты послушай пословицы добрыя, и хитрыя, и мудрыя» (3). Такие примеры не единичны. Все «доброе», хорошее означало у автора «мудрое», «разумное». И действительно, автор иногда прямо приравнивал эти определения в характеристиках людей. Например, «добрый Молодец» значил и «разумный Молодец»: «добро(й) еси ты и разумный Молодец» (11).
По «Повести» можно понять, отчего у автора возникло подобное приравнивание. В одном месте «Повести» автор мимоходом объяснял зарождение хорошего, «доброго» именно от разумного: почему Молодец запел «хорошую напевочку»? «Запел он хорошую напевочку от великаго, крепкаго разума» (18). Беглость такого разъяснения у автора свидетельствует о привычном сращении следствия и причины – понятий хорошего и разумного.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































