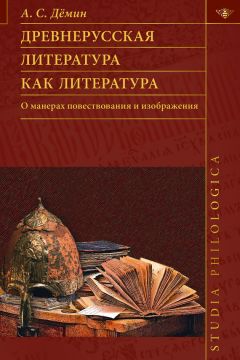
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 38 страниц)
Указанная уникальная литературная особенность «Сказания», сводившаяся к непривычной и тогда еще неясной идее о разнообразии и неожиданностях жизни, в которой может случиться все, возможно, сбивала с толку древнерусских книжников, которые поэтому и давали популярному произведению столь разные названия. Вообще же, описание чувств имело большое значение для развития традиционного литературного творчества на Руси и для перехода к творчеству новаторскому.
Примечания
1 Клосс Б. М. Избранные труды. М., 2002. Т. 2. С. 341–345.
2 Ср. начала разных списков ХVI–ХIХ вв.: Дмитриев Л. А. Описание рукописных списков Сказания о Мамаевом побоище // Повести о Куликовской битве. М., 1959. С. 480–509 (№ 1, 2, 3, 11, 12, 15, 19, 20, 23, 28, 30, 32–34, 36, 37, 40, 42–44, 47, 48, 53–56, 59, 60, 62, 68, 72, 77, 81, 84 и пр.); Клосс Б. М. Сказание о Мамаевом побоище (вариант Ундольского) // Памятники Куликовского цикла. СПб., 1998. С. 136 (№ 2), 137 (примеч. l, 1); Зимин А. А. Сказание о Мамаевом побоище Основной редакции по Ермолаевскому списку // Там же. С 224, 226.
3 Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 481 (№ 1). Список конца 1520-х – начала 1530 х годов. Его датировку см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 334–335.
4 Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 486 (№ 21). Список 1530-х годов. Его датировку см.: Клосс Б. М. Избранные труды. Т. 2. С. 335, 347.
5 Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 482 (№ 2). Список ХVI в.
6 Дмитриев Л. А. Указ. соч. С. 486 (№ 19, 20). Списки ХVII в.
7 Сказания и повести о Куликовской битве / Текст Основной редакции подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. С. 31. Далее страницы указываются в скобках.
8 Памятники Куликовского цикла / Текст «Летописной повести» под гот. В. А. Кучкин. С. 32. Далее страницы указываются в скобках.
Из истории литературных циклов в ХVI–ХVII вв. («Казанская история», «Летописная книжица», «Житие» Аввакума)
«Казанская история» как «сладостный» цикл
Вся «Казанская история» представляет собой единый сплошной цикл рассказов («повестей», как их называет автор), разделенных на 101 главу и объединенных не только одной животрепещущей темой, но и сквозными мотивами, преимущественно трагическими и нередко гиперболично выраженными.
Самый главный и частый – это настойчиво повторяющийся мотив горя, плача, скорби, печали персонажей, как татарских, так и русских. Приведем только некоторые примеры из великого множества. Так, например, Иван Грозный «зря плач, и рыдание, и погибель людей своихъ, люте печалуяся о них, яко оружиемъ уязвляшеся, и утробою мятяшеся, и сердцемъ боляше, стоняше … слезами своими постелю свою омакаше»1; в походе на Казань царь «не престанно же самъ о землю пометашеся, и главою бияшеся, и в перси свои часто руками ударяше, и захлепашеся, и слезами ся обливашеся» (508). Супруга Ивана Грозного Анастасия Романовна не отставала от царя в горестных проявлениях: «нестерпимою скорбию уязвися … и не може от великия печали стояти, и хотяше пасти на землю, аще не бы сам царь супружницу свою рукама своима поддержалъ; и на мног часъ она безгласна бывши, и восплакася горце» и пр. (452). Вся Русь горевала: «И бе скорбь велика в Руской земли, и велико стенание и рыдание, и везде произхождаше плач велегласен, и горек, и неутишим» (370).
Но особенно убивались казанцы – мужчины и женщины, цари и царицы. Например, Сумбека Юсуповна (Сююн-Бике): «сверже златую утварь з главы своея, и раздра верхния ризы своя, и паде на землю … власы своя терзающе, и ноготми лице свое деруще, и в перси биюще, и воздвигше умилный глас свой, и плакаше, горко вопия» и т. д. и т. п. (414).
Все эти частые упоминания и пространные описания горя отражали не столько трагическую настроенность анонимного автора «Казанской истории», сколько его стремление к театральности, красоте сцен плачей, содержащих к тому же яркие сравнения и метафоры. К той же зримой выразительности был склонен автор и при многочисленных описаниях других бурных чувств персонажей – страха, гнева, радости (например: казанцы «от страха силнаго … омертвеша и падоша ницъ на землю … и быша, акы камыцы безгласни, друг на друга зряще, яко изумлени» и пр. – 514; Иван Грозный «воздвиже пламень ярости своея … яко левъ, рыкание страшно испусти» – 506; в честь взятия Казани в Москве «начаша молебная совершати… и у всех реки слез от очию на брады и на перси проливахуся и на землю течаху. Небо, и земля, и вся твари тогда … радующися со человеки» – 542; и мн. др.). О себе автор писал в том же красочном стиле («и како могу сказати и исписати… Страх бо мя побеждаетъ, и сердце ми горитъ, и плачъ смущаетъ, и сами слезы текутъ изо очию моею» – 364).
Как известно, автор «Казанской истории» (и возможный его редактор, как предположил А. С. Орлов) был очень начитан в древнерусской книжности. Но автор использовал литературные традиции для своей цели – красиво повествовать о событиях. Оттого у автора все было красиво и у русских, и у татар. Красивы города. Особенно хвалил автор «предивную Казань»: «Казань … необычною красотою восия», «градъ Казань … хитръ строениемъ», «не обрестися другому такому месту … нигде же точному красотою» (300, 538, 392, 314). Упоминал автор и «о … красоте … града Москвы» (310). Вспомнился автору и град Владимир «со всеми его благими узорочьи … хитрыя его здания и красота его» (302). Новопостроенный Свияжск тоже был «град … красенъ … дивяшеся красоты его» (392). Девицы, женщины и дети обоих народов всегда были красивы – «красныя отроковицы и жены доброличныя» (526). Царица Анастасия – «яко красная денница» (552). Сумбека: «бе бо образом царица та зело красна … яко не обретеся таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах болярских и княжых» (416). Одеты все были красиво – и мирные, и ратные: «различно красуяся, другъ друга краснее» (332); «разное украшение их … красно нарядяся» (450). Вещи были красивы: «кони во утварех … красных» (450); «колымаги … красныя» (422); «красныя ковры срацынския» (550); «красный … шатер … с различными узоры красными … мусиею исписано красно … прехитръ бе видением» (340). Даже убитых автор обозначал как прекрасных: «мнози от обою страну падоша, аки цветы прекраснии» (468). Слышались «гласы прекрасно поющих» (394). Персонажи, естественно, хотели, «да токмо живы были вси и красный свет видели» (520).
Почему автор так напирал на красоту мира и событий, даже ужасных? Потому, что он хотел, чтобы его повесть была красивой, о чем и заявил с первых строк своего произведения: «Красныя убо и новыя повести сея достоит намъ радостно послушати, о христоимянитим людие» (300).
Больше того, автор хотел, чтобы его повесть была приятной для чтения и слушания – «сладкой»: «внимайте разумно сладкия сия повести» (300). «Сладостность» же повести заключалась не только в красивости описаний, но и в ритмичности авторского повествования, регулярно возникающей на протяжении всей «Казанской истории» («ритмическую организацию» текста вскользь отметила Н. В. Трофимова).
И действительно, ритмичность возникала оттого, что автор писал преимущественно короткими фразами, а четко ритмичным изложение становилось в случае равенства ударных слов в соседних фразах и при параллелизме их структуры. Самыми употребительными были пары фраз, каждая из пяти ударных слов. Например:
бе́ бо ца́рь по премно́гу мя́ любя́
и велмо́жи е́го паче ме́ры брегу́ще мя́ (302).
Или:
и обрати́ся боле́знь его́ на главу́ его́
и на ве́рхъ егó сниде́ непра́вда его́
Не менее часто в повествование вкраплялись параллельные фразы из четырех ударных слов:
и распуди́т, я́ко во́лкъ о́вцы,
и прида́вит, я́ко мыше́й горноста́й,
и прие́стъ, аки́ку́ры лиси́ца
Вряд ли автор на пальцах считал количество ударений во фразах, довольствуясь их относительной ритмичностью на слух. Поэтому в ритмическое изложение вкрадывались различные неправильности, а также неясности деления на фразы.
Но в некоторых случаях, особенно при описании красивых мест или роскошных вещей, поэтическая деятельность автора становилась вполне осознанной, что видно по величине ритмичных отрывков. Вот отрывок с четырьмя ударными словами в каждой фразе. Местность, где расположена Казань:
на се́й стране́ Ка́мы реки́
конце́мъ прилежа́щи х Болга́рстей земли́
а други́мъ конце́мъ к Вя́тке и къ Перми́
зело́ пренарочи́то, и скотопа́жно, и пчели́сто
и вся́кими земляны́ми семяны́ роди́мо,
и овоща́ми преизоби́лно, и звери́сто, и ры́бно,
и вся́кого уго́дия жите́йскаго по́лно (314).
Или вот редкое ритмическое описание с тремя ударными словами в каждой фразе:
тереме́цъ стекля́ничной взде́ланъ,
све́телъ, а́ки фона́рь,
злаче́ными дска́ми покры́т,
в не́м же цари́ца седя́ше,
на все́ стра́ны ви́дя (410).
Возможно, автор был в состоянии писать целыми строфами с меняющимся ритмом:
и поиде́ ца́рь, кня́зь вели́кий
чи́стымъ по́лемъ вели́ким х Каза́ни
и со мно́гими иноязы́чными слу́жащими ему́ —
с ру́сью, и с тата́ры, и с черка́сы, с мордво́ю,
и со фря́ги, и с не́мцы, и ля́хи, —
в си́ле вели́це и тя́жце зело́
тре́ми пути́на колесни́цех и на ко́нех,
четве́ртым же путе́мъ —ре́ками в ло́дьях,
водя́с собо́ю во́й
ши́ре Казáнския земли́ (464).
Даже заголовок «Казанской истории» выглядит как строфа (2–3–2–3–2–3–2):
Сказа́ние въкра́тце
от нача́ла ца́рства Каза́нского
и о бра́нех и о побе́дахъ
вели́ких князе́й моско́вских
со цари́каза́нскими,
и о взя́тие ца́рства Казáни,
еже но́во бы́сть (300).
Автор стремился к красивой «сладостности» своего повествования независимо от затрагиваемых тем и ценил сладкоречие других людей, прежде всего русского царя («сладокъ речию», «сладостная … словеса московского самодержца» – 360, 474) и русских и казанских вельмож («увещеваху … словесы сладкими» – 416).
Откуда у автора «Казанской истории» могла появиться столь необычная для древнерусской литературы почти что стихотворная манера исторического повествования? На влияние русского фольклора все это как-то не похоже. Рискнем выдвинуть одно предположение. Автор, по его признанию, провел 20 лет в казанском плену при казанском царе Сафа-Гирее и «часто и прилежно» расспрашивал «мудръствующих честнеишихъ казанцев» и слышал «слово изо устъ от царя … и отъ велмож его» об истории Казани и Руси (302). Это «слово» могло оказаться поэтическим, как было принято на Востоке. В связи с этим хорошо бы сопоставить с «Казанской историей» поэзию казанского поэта М. Х. Мухаммадьяра, смотрителя усыпальницы хана Мухаммад-Амина, а также поэзию Кулшерифа, главы мусульманского духовенства Казани. Оба «вельможи» погибли при взятии Казани в 1552 г.
Как бы то ни было, «Казанская история» родилась как невиданный спаянный «сладостный» литературный цикл, полупоэма на историческую тему.
Встает вопрос: почему только через десять с лишних лет после взятия Казани понадобилось так искусно воспевать это событие? Одно из возможных объяснений: именно в 1560-х годах в Москве стала формироваться официальная, даже, может быть, придворная литература, направленная и на просветительство народа в нужном духе. Автор «Казанской истории», побывавший казанским придворным, по-своему попытался участвовать в этом процессе и, пожалуй, оказался предтечей придворного поэта ХVII в. Симеона Полоцкого, его «сладостных» стихотворных циклов и пьес. Но между автором «Казанской истории» и Симеоном Полоцким зияло больше сотни лет, так как процесс формирования придворной литературы был прерван опричниной, кризисом царской власти и Смутой.
«Летописная книжица»: украшенный цикл
Это любопытное произведение внимательно исследовало немало ученых (особенно С. Ф. Платонов, А. С. Орлов, Н. К. Гудзий, О. А. Державина, а в последнее время И. Ю. Серова), которые приписывали «Летописную книжицу» разным авторам, но, кажется, остановились на С. И. Шаховском и на 1626 г. как времени создания произведения. Мы же займемся более поздней Краткой редакцией произведения, подправленного неведомо кем в конце 1620-х годов (этим временем датируется самый ранний из списков Краткой редакции) и превратившегося в отчетливый литературный цикл.
Краткая редакция «Летописной книжицы» делится на девять разделов, разных по величине: 1) начальное изложение, без заголовка: «Царство Московское, его ж именуют от давних векъ Великая Росия…» – 358; 2) «Повесть сказуема о томъ прозванномъ царевиче Дмитрее» – 366; 3) «Укоры и поносы оному проклятому Ростриге…» – 376; 4) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «Оставимъ ж сия и возвратимся на первая» – 378; 5) горестные восклицания и вопрошания: «Оле, великое падение бысть и убийство!..» – 408; 6) продолжение «Повести сказуемой», без заголовка: «И тако разрушенна бысть превеликая Москва…» – 410; 7) «Написание вкратце о царех московских и о образехъ ихъ…» – 422; 8) стихотворное «Двоестрочие» – 424; 9) автор о себе, без заголовка: «Изложена бысть сия книжица летописная … Семеном Шеховскимъ…» – 4262.
Основу «Летописной книжицы» составила «Повесть сказуема», что и засвидетельствовано в виршевом «Двоестрочии»:
Изложена бысть сия летописная книга
О похождении чюдовского мниха (424).
Вся «Повесть сказуема» составлена из эпизодов, обычно отделяемых друг от друга обозначениями последовательности событий («и посемъ», «и потом», «в то жъ время», «помалу ж», «малу ж времени минувшу» «последи же», «во един жь день», «в десятый же день» и т. п.), в том числе описаниями наступившего времени суток или времени года («наутро», «уже зиме прошедши»). Кроме того, эпизоды нередко отделены бывают упоминаниями о слышании вестей («слышано бысть сия», «вниде же сие во уши») и просто при переходе к уже упомянутым персонажам («той ж преждереченный», «впредреченныи ж»).
Все эти разнообразные, но лаконичные вступительные фразы свидетельствуют о старании автора Краткой редакции составлять единый связный рассказ, а не резко членить текст на эпизоды.
Исследователи уже давно отметили склонность С. И. Шаховского к литературному украшательству своего труда, что сохранилось и в Краткой редакции «Летописной книжицы». Украшений, действительно, множество; однако они скромны и не очень заметны. Автор часто использовал лишь одиночные усиления, редко когда заполняющие всю фразу или весь эпизод; вот редкий пример: «составиша брань велию зело. И тако бысть брань по двою дню непременно, много падения бысть и убийство великое… ополчениемъ жестоким нападоша … безчисленно людей побивают» и т. д. (388).
Исключительно часто автор употреблял рифмованные фразы, как правило, только двустрочные, с глагольными рифмами, но с разным количеством слов в строке, – как получилось сказать. Только иногда вдруг составлялось что-то похожее на силлабическое стихотворение. Так, уже в начале можно обнаружить наборы из трех-, четырех– и пятисловных двустрочий:
и в канбаны тяжкия бити,
и молебныя гласы приносити (364);
во уши его ложное приношаху,
радостно того послушати желаху (362);
уклони мысль свою на крестьянъское убиение
и простре десницу свою на несытное грабление (360).
Реже всего употреблялись сочетания определений, притом всегда только двойные, не больше, – типа «тихо и безмятежно», «здраво и весело», «злохищный и прелестный», «скверно и нечисто» и т. п.
Цель автора состояла в придании лишь легкой выразительности своему книжному изложению, и то лишь местами, потому что главной заботой автора была связность всех рассказов в непрерывное целое с начала и до конца. Поэтому все произведение пронизывали сквозные повторы различных выражений («семо и овамо», «никако сего ужасеся», «воздвигоша гласы своя», «простре руку свою», «повеле войску своему препоясатися на брань … и спустиша брань велию зело», «кровавыи мечи» и пр.).
Характерно, что автор не вдавался в подробности многочисленных сражений, а заменял их одним и тем же штампом (типичный пример: «И дань плитъ жесточайше … падают трупия мертвых семо и овамо … усты меча гоня… И покрыся земля нощною тмою, и тако преста брань» – 370. Ср. 372, 386, 388, 390, 396, 402, 416). С. И. Шаховской, судя по его биографии, был хорошо знаком с военным делом. Однако в данном случае он, по-видимому, предпочитал «кратким словомъ рещи» (ср. 360, 386, 426) только о главной последовательности событий Смуты.
Краткая редакция «Летописной книжицы» тем более усилила эту тенденцию к осмыслению именно общей истории Смутного времени в целом и превратилась в слитный нарядный литературный цикл, в своего рода праздничный стенд, посвященный прошедшим событиям, ведь исторический труд в то время не мыслился без традиционных экспрессивных украшений.
Заметки о циклах в «Житии» протопопа Аввакума и в «Пустозерском сборнике»
После почти столетней череды работ о литературном творчестве Аввакума (от исследований В. В. Виноградова, В. Е. Гусева, А. Н. Робинсона, Д. С. Лихачева, Н. С. Демковой, В. С. Румянцевой, В. В. Колесова, А. С. Елеонской, М. Б. Плюхановой и до сравнительно недавних работ Д. С. Менделеевой и О. А. Туфановой) осталась возможность вносить лишь небольшие добавления в характеристику Аввакума как писателя.
Что интересного может дать изучение циклов рассказов в «Житии» Аввакума? В том, что «Житие» (берем редакцию А) было составлено именно из циклов, сомнений нет. Большинство своих рассказов Аввакум выделял специфическими вступительными выражениями («егда», «таже», «в то же время», «посем», «потом», «после того», «тут же» и пр.) и нравоучительными концовками, поминая и восхваляя Бога и Христа или проклиная «никониан». Эти рассказы Аввакум называл «повестями». Рассказы-«повести» Аввакум группировал по темам, – то о затмениях солнца, то о преследованиях себя «начальниками», то о бедах в сибирской ссылке, то об исцелении «бешеных», то об уговорах его в Москве властями, то о казнях сторонников раскола и др. Рассказы внутри цикла связывались также сходными деталями и сходной, но варьирующейся фразеологией. Рассказы внутри цикла отделялись друг от друга и одиночными рассказами-отступлениями на иную тему.
Циклическая структура повествования видна уже с самого начала собственно «Жития» – например, в цикле из пяти рассказов об агрессивности Аввакумова окружения почти каждый рассказ имеет сравнительно четкие границы, начало и концовку: «А се по мале времени» – «а я молитву говорю в то время»; «таже … во ино время» – «благодать … да будет!»; «в то же время» – «так-то Бог строит своя люди»; «на первое возвратимся. Таже» – «и так-то Господь гордым противится, смиренным же дает благодать»; «после паки» – «везде от дьявола житья нет»3.
И главное, эти рассказы связывались в реальный цикл благодаря повторению сходных экспрессивных выражений: «начальник … воздвиг на мя бурю» – «дьявол и паки воздвиг на мя бурю»; «ин начальник … на мя рассвирепел» – «ин начальник на мя рассвирепел»; «велел меня бросить в Волгу» – «меня … бросили под избной угол»; «до смерти меня задавили» – «замертва убили»; «аз прибрел к Москве» – «аз же сволокся к Москве» и т. д.
Особенностью получившихся циклов в «Житии» была резкая неожиданность сюжетов внутри цикла, хотя рассказы Аввакум подбирал на одну общую тему. Так и в вышеприведенном цикле о нападениях на Аввакума: один начальник, по-видимому, насильник («у вдовы начальник отнял дочерь»); другой начальник – кусается, как пес; третий – сторонник «новизы» («велел благословить сына своего … бритобратца», имевшего «блудолюбный образ»); четвертый начальник – вдруг раскаивается и пр.
Не трудно убедиться, что прямых источников у Аввакума не было: в отличие от циклов в старых летописях, циклы в «Житии» Аввакума разнообразны, а в отличие от циклов в традиционных житиях с чудесами, рассказы Аввакума внутри цикла сюжетно неожиданны. Правда, начиная с ХV в. эпизодически уже появлялись повести с сюжетно неожиданными эпизодами из жизни героя («Повесть о Дракуле», «Повесть о Петре и Февронии», «Повесть о Горе-Злочастии»), но никакой непосредственной связи у Аввакума с этими повестями не было.
Главной причиной своеобразия Аввакума явилась небывало тесная близость к слушателям и читателям его «Жития», давно замеченная исследователями. Ведь писал Аввакум свое «Житие» в первую очередь для своего соседа в пустозерской ссылке старца Епифания и для некоего «раба Христова», а также для хорошо знакомых ему сподвижников.
Добавим, что Аввакум явно старался, чтобы его читателям и слушателям не становилось скучно («аще не поскучите послушать … и то возвещу вам» – 49), и потому регулярно сокращал изложение («аз кратко помянул»; «тово всево много говорить»; «много писано было»; «коечто было»; «говорить о том полно» и т. п.), а также извинялся перед слушателями при необходимости продолжить повествование (например: «простите… – еще вам… побеседую» – 67; «простите меня… а однако уже розвякался, – еще вам повесть скажу» – 72).
Каждый рассказ в цикле, как правило, был внутренне контрастен (склонность Аввакума к контрастам и противопоставлениям отметила Н. С. Демкова). Но все они, кажется, восходили к общей идее: течение жизни, по Аввакуму, неожиданно и непредвидимо (ср.: «что Бог даст, то и будет» – 43, редакция В; «то ведает Он, – воля Ево» – 56).
Но самое любопытное вот что: все циклы, все «Житие» пронизывали одинаковые сквозные словесные и фразеологические повторы. Укажем четыре самых частых экспрессивных мотива. Буквально все «Житие» «прошивает» мотив плача: от горя, от жалости или от раскаяния плачут и рыдают, «плачючи живут» почти все персонажи «Жития», даже некоторые «никониане», в том числе самые злобные. Плакали подолгу («часа с три плачючи» – 20; «часа с три плачет» – 57; «рыдав на мног час» – 68; «и ходит, и плачет, а с кем молыт … яко плачет» – 58; «плакать стала всегда» – 73; и пр.).
Другой сквозной мотив: персонажи «бредут» в прямом и в переносном смысле («побрели, амо же Бог наставит» – 24; «бредет-бредет, да и повалится» – 38; «и так далеко забрел» – 45; «бреду-таки впредь» – 56; и мн. др.).
Третий мотив: Аввакума все время «бросают» и «кидают» («в темницу … бросили» – 20; «на чепи кинули в темную полатку» – 28; «на беть кинули … кинули меня в лотку … в тюрьму кинули» – 32; «велел кинуть в студеную тюрьму» – 34; и т. д.)
Четвертый, патетически варьируемый мотив – смерть («отъиде к Богу … скончалися богоугодне» – 23; «скончались о Христе Исусе» – 58; «от земных на небесная взыде … пошел себе ко Владыке» – 62; «присвоит к себе жених небесный в чертог свой» – 54; «венец тернов на главу ему там возложили … и уморили» – 28; и т. п.).
За этими мотивами стояло у Аввакума ощущение «лютого времени», трагической обреченности «правоверных»4. Аввакум всех их жалел – все они у него «миленькие».
Но с точки зрения циклообразования «Житие» Аввакума превратилось, так сказать, в единый мегацикл с развивающимся сюжетом, разносторонне содержательный, где нашлось место разным иным сквозным мотивам, в том числе ободряющим и умиротворенным. Так, Аввакум постоянно обращался к теме людской «доброты»: «много добрых людей знаю» (57); «учинились добры до меня» (25); «каковы были добры!» (48); «и тогда мне делал добро» (29); «гораздо Еремей разумен и добр человек» (42); «доброй прикащик человек» (45); и др. Свои отчаянные рассказы Аввакум нередко завершал успокоительно: «на душе добро» (33); «да уж добро, – быть тому так» (63); «ей, добро так» (69); «ино и добро» (72).
Многолинейность рассказов «Жития» недаром навела некоторых исследователей (В. Е. Гусев, В. В. Кожинов) на сходство этого сочинения с романом. Однако цикличность как литературная форма получилась у Аввакума в известной степени еще неосознанно, и корни ее, наверное, надо искать в еще неисследованной манере устных повествований у старообрядцев того времени.
И вот что еще интересно: мегациклическое «Житие» Аввакума, в свою очередь, вошло в состав мини-цикла произведений в «Пустозерском сборнике», где вслед за «Житием» Аввакума (редакция В) следовали «Житие» Епифания» и комментарии Аввакума к библейской книге Бытие. Сочинения Аввакума и Епифания, несмотря на их несходство, все-таки связались в некий мини-цикл благодаря перекличке мотивов и выражений. Это особенно заметно в началах и концовках повествований об их жизни. Так, и Аввакум, и Епифаний начали свои сочинения с упоминаний о месте рождения, о родителях и их смерти, о переселении и о продолжительности церковной деятельности. Аввакум: «Рождение же мое … в селе Григорове. Отецъ ми… мати… Потом мати моя овдовела… Посем мати моя отъиде к Богу… Аз же от изгнания преселихся во ино место»5. Епифаний: «Родился я в деревне. И как скончалися отецъ мой и мати моя, и азъ, грешный, идох во град некий … и идох … во святую обитель Соловецкую»6.
Затем о продолжительности церковной деятельности. Аввакум: «Рукоположен во дьяконы двадцети лет з годом; и по дву летех в попы поставлен; живыи въ попехъ осмь летъ … тому дватцеть летъ минуло, и всего тритцеть летъ, как священъство имею» (18). Епифаний: «…возложили на мя святый иноческий образ. И в том иноческом образе сподобил мя Бог быти… пять лет, и всего двенатьцать летъ былъ у нихъ» (81).
Сходны и окончания обоих «Житий». Аввакум: «Ну, старецъ, моево вяканья много веть ты слышалъ … напиши и ты … слушай ж, что говорю … а мы за чтущих и послушающихъ станемъ Бога молить» (80). Епифаний: «А я, грешной, долженъ о васъ молитися – о чтущих, и о слушающих, и о преписующих сие» (окончание первой части, 91); «ну, чадо мое … сказано тебе мое житие … и ты твори тако же. Да и всемъ то же говорю … чтущии и слышащии сия вся» (окончание второй части, 137–138).
Переклички иных тем с их фразеологией также связывают оба «Жития». Вот оба узника в темнице. Аввакум: «Таже осыпали нас землею» (59). Епифаний: «осыпаша в темницах землею» (131).
Очень похожи рассказы о снах. Аввакум: «Время ж яко полнощи… И падох на землю … и забыхся лежа … а очи сердечнии при реке Волге. Вижу… Юноша светелъ … отвещал… И я … рассуждаю… И что будетъ, плавание?» (18–19). Епифаний: «мнитъ ми ся в полунощи, возлегшу ми опочивати … и сведохся абие въ сон мал. И вижю … сердечными очима… старецъ Ефросин… Аз же … помышляя в себе… Что хощет быти се?… Преподобный же Ефросин светлым лицем … рече ми…» (118). В «Житии» Ефросина не раз повторяются аналогичные рассказы о снах с теми же вопросами: «Что се бысть?» (123); «что се хощет быти?» (127); «что се будет видение?» (133).
Наконец, мелкие соответствия можно найти в разных местах обоих «Житий». Например, о бесах. Аввакум: «единъ бесъ в хижу мою вошед … и исчезе» (71); Епифаний: «внидоша в келию ко мне два беса … и не весть камо ищезоша» (86). О бесноватых – Аввакум: «Соблудилъ в велик день … да и взбесился. Жена ево сказывала» (65); Епифаний: «соблудил со женою своею… О сем сказа жена его последи. Бесъ же … до смерти удавилъ» (83). Моление к небу: «а я, на небо глядя, кричю: “Господи…”»; «и кричю: “Владычице…”» (Аввакум, 28, 32); «и начахъ вопити къ Богороице, зря на небо» (Епифаний, 85).
Как объяснить эти сходства? Вроде бы они указывают на зависимость Епифания от Аввакума. Ведь в «Житии» Епифания обнаруживаются параллели к разным редакциям «Жития» Аввакума. Так, только в редакции В у Аввакума находится рассказ со фразой: «А се согреяся сердце мое во мне, ринулся с места…» (74). У Епифания: «И возгореся сердце мое … и ударился три кона о землю» (129). Зато в редакции В нет, а в редакции А есть обращение Аввакума к единомышленникам: «Ну-тко, правоверне … вот тебе царство небесное…» (65–66). Сходно у Епифания: «Ну, чадо. Вот тебе сказано…» (121).
Однако в общей массе сильно различающихся текстов «Житий» Аввакума и Епифания отмеченные сходства настолько мелки и немногочисленны, да и не похожи дословно, что вернее было бы предположить лишь небольшое взаимовлияние агиографов друг на друга и, скорее, преобладающее воздействие некоей устной повествовательной традиции у старообрядцев на обоих авторов, которые и писали-то свои сочинения, в сущности, одновременно. Эта традиция (ее надо изучать на более широком материале) была порождена потребностью изъясняться просто и понятно, о чем в «Пустозерском сборнике» признавались и Аввакум, и Епифаний. Аввакум специально оговаривал после своего «Жития» и комментариев к книге Бытия, которые служили образцами простого стиля: «не позазрите просторечию нашему … виршами филосовскими не обыкъ речи красить… Я и не брегу о красноречии» (112). Епифаний придерживался той же позиции: «не позазрите … простоте моей, понеже грамотикии и философии не учился… А что скажу вам просто, и вы … исъправте» (81), «ну, чадо, … не позазри простоте моей, понеж азъ грамотики и философии … не учился… И что обрящеши просто и неисъправлено, и ты собою исправъ» (114. То есть в отличие от Аввакума Епифаний все-таки не всецело был предан совсем простому стилю – это и видно из его призывов «исправлять» написанное и из текста самого «Жития»).
В целом же, «Жития» Аввакума и Епифания в «Пустозерском сборнике» знаменовали появление циклов свободного типа, сознательно связанных в основном только тематически и идейно.
В общем, циклы в древнерусской литературе существовали всегда, но очень менялись социально.
Примечания
1 «Казанская история» цитируется по кн.: ПЛРД: Середина XVI века / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 370. Далее страницы указываются в скобках.
2 «Летописная книжица» цитируется по кн.: ПЛРД: Конец XVI – начало XVII / Текст памятника подгот. Е. И. Дергачева-Скоп. М., 1987. С. 426. Далее страницы указываются в скобках.
3 «Житие» Аввакума цитируется по кн.: Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Текст «Жития» под гот. В. Е. Гусев. Иркутск, 1979. С. 24–26. Далее страницы указываются в скобках.
4 Подробнее см. в монографии: Туфанова О. А. Творчество Аввакума: Поэтика трагического. М., 2007.
5 «Пустозерский сборник» цитируется по кн.: Пустозерский сборник: Автографы сочинений Аввакума и Епифания / Текст «Жития» Аввакума подгот. Н. С. Демкова. Л., 1975. С. 17–18. Далее страницы указываются в скобках.
6 Там же // Текст «Жития» Епифания подгот. Н. Ф. Дробленкова. С. 81. Далее страницы указываются в скобках.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































