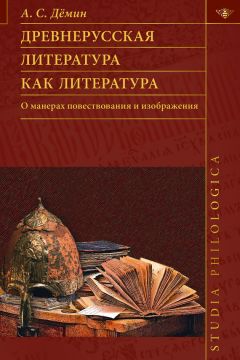
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Дела толикие вещи во веки не забываем…
Ум человечь нихто не может исповесть.
…Всяк бо чтый да разумевает
И дела толикие вещи не забывает.
Сие писание в конец преити едва возмогох
И в труде своем никоея же ползы обретох.
(«Повесть книги сея», 619, 624)
Призывы к читательской памяти имели теперь поучающе-сумрачный оттенок: «и содержим в себе всего память на всяк час, и розмышляем, и брежемся, и накажемся в них, да навыкнем прияти память…» («Повесть о Димитрии», 838). Предупредительность писателей и издателей по отношению к читательской массе поддерживалась уже не искренним теплым чувством, а чем-то иным, внешним.
Причины повышенной внимательности авторов к «простцам» и к читателям становятся ясными на фоне реальных исторических обстоятельств. После окончания Смуты правительство и верхи общества проявляли подчеркнутое внимание к средним и низшим слоям. Например, на земском соборе 1619 г. правительство подтверждало: «Московского государства всяким людям скорбь конечная»; правительство шло навстречу просьбам «простцов»: «велети от сильных людей оборонить»; по мнению Л. В. Черепнина, «в соборных решениях 1619 г. была сделана попытка найти формулу примирения запросов отдельных сословий и сословных групп»32. В 1620 г. многочисленные царские награды за верную службу во время Смуты раздавались крестьянам33. Еще любопытное свидетельство: «С ноября 1622 г. на весь период укрепления Филарета Никитича во дворце вводится новый и до времени Петра I, кажется, не повторявшийся потом обычай приглашать на праздники и к государеву столу многочисленный круг бояр, думных дьяков, несколько десятков, а то и сотню дворян московских, приказных дьяков, стрелецких голов и изредка также гостей московских… В это же время, при патриархе Филарете, появлялись на приемах у царя и патриарха гости и посадские торговые лучшие люди…» и даже донские казаки34.
Но с начала 1620-х годов знаки внимания правительства и верхов к низам получили иной характер и не окрашивались чувствами признательности и благорасположенности. Например, в 1620–1624 гг. последовала серия, казалось бы, благоприятных царских указов: но, «с одной стороны, указ дает привилегии посадским людям и волостным крестьянам, а с другой – ограничивает и сводит эти привилегии почти к нулю»35. В 1630-е годы «дворцовые приемы меняются в сторону большей чопорности и аристократичности»36. В 1630-е годы милости правительства имели уже преимущественно характер вынужденных уступок: то «выдачей головой церковных феодалов горожанам»37, то в виде уговоров «отстать от всякого дурна» и обещаний, то в форме амнистий провинившимся, а в целом «мы видим целую серию государственных актов, направленных к смягчению недовольства служилого военного сословия, низших слоев дворянского класса»38.
Главная причина уступок: в конце 1620-х – начале 1630-х годов «народные массы ожидали новую крестьянскую войну»; «правительство пасовало перед угрозой восстания в Москве»39, в первой половине – середине 1630-х годов, как отзывались русские и заграничные очевидцы, «делаетца-де на Москве нестройно – разделилась-де Москва натрое: бояря себе, а дворяне себе, а мирские всяких чинов люди себе ж», «на Москве учинилась в людях рознь великая» – «грозило вспыхнуть всеобщее восстание»40. В 1632 г. была прямо «выражена тревога правительства по поводу возможности возобновления донскими казаками “Смуты”»41. Один за другим возникали в Москве огромные пожары, особенно в 1626 и 1634 гг.: «И не бывал такой пожар над Московским государством николи и от начала Московского государства» («Бельский летописец», 268). «Весьма вероятно предположение, – считает Л. В. Черепнин, – что пожары не были случайными, причиной их явились намеренные поджоги как одна из форм классовой борьбы»42.
Нараставшее обострение социальной обстановки в России 1620-х – 1630-х годов наложило отпечаток на практические меры верхов по отношению к средним и низшим слоям общества, на тон упоминаний властей о «простых» и «бедных» людях в документах и даже на оттенки в высказываниях писателей, близких к верхам, о «простцах» и о читателях в литературных произведениях. Но пока развитие реальных обстоятельств опережало идейную жизнь общества. Настроения народного недовольства и возмущения еще не получили заметного и цельного идейного выражения и не образовали противоположной чаши весов в общественных настроениях. Внешне преобладало настроение благополучия, исходившее от верхов общества; знаки внимания, оказываемые «простцам» и читательской массе, внешне продолжали эту благополучную настроенность. Но кажущееся общественное согласие и спокойствие на самом деле уже были внешними, выхолощенными.
Конец 1630-х – 1640-е годы: благодушие верхов общества и назревание недовольства низов
Настроенность русского общества конца 1630-х—1640-х годов помогают охарактеризовать сочинения, связанные с российскими верхами. Прежде всего посмотрим, как в предисловиях и послесловиях издатели старопечатных книг рисовали российское общество. Самым большим из печатных послесловий тех лет и, пожалуй, самым содержательным явилось послесловие к первому на Руси изданию «Трефологиона», а именно послесловие к третьей книге «Трефологиона», на март – май. Оно же было перепечатано в четвертой книге «Трефологиона», на июнь – август. В первых книгах «Трефологиона» послесловия иные и менее содержательные.
Послесловие к третьей книге «Трефологиона» в целом оригинально, хотя некоторые выражения заимствованы из послесловий к «Букварю» В. Ф. Бурцева (М., 1634) и «Канонника» (М., 1636). Составителей оригинального послесловия к третьей книге «Трефологиона», конечно, могло быть несколько. Но условно мы будем говорить об одном авторе послесловия, так как он здесь иногда упоминал о себе в единственном числе: «Премину же многое… Премину же долготы ради словес…»43 В центральной части послесловия автор рассказывал об истории русского книгопечатания и описал Русскую землю, заполненную многочисленными духовными «лепотами», в том числе рукописными и печатными книгами. Однако воспоминания о рукописных книгах заставили автора осознать недостигнутость полного духовного благополучия на Руси: «И прежде убо много лет писавахуся книги письменными начертаньми, но не до конца было лепо таковое изображение… не несмутно и не несумненно» (408). Примерно ту же мысль повторил автор, повествуя о распространении печатных книг в современной ему России: «наипаче многое число обретеся печатнаго дела книг разными имены… и еще не удовлеся тем… но по разньственым книгам не тако будет лепо» (408 об. – 409). В рассказе об истории русского книгопечатания подчеркивалась неполнота духовного благополучия на Руси.
Если мы обозрим всю композицию послесловия к «Трефологиону», то увидим, что фразы с непременным «но» повторялись неоднократно. Мысль о недостигнутом духовном благополучии на Руси подготовлялась уже в начальной части послесловия, когда автор рассуждал о всемирном неблагополучии: Бог «вся премудростию своею сотвори и состави… но… мнози языцы тмою неверия омрачишася… яко же и ныне вси агаряне… латыни, и лютори, и калвини, и прочии» (405–406 об.). Ту же мысль об ускользающем духовном благополучии автор выразил в общем виде, перейдя к размышлениям о судьбах российского народа: «Нас же помилова Господь своим милосердием… но кождо нас сам от своея похоти влеком и прельщаем» (407). После рассказа о российском книгопечатании намек на недостигнутость полного благоустройства сквозил даже в похвалах царю Михаилу Федоровичу, всетаки далекому от завершения благих дел: он «многи церкви Божия воздвиже… и еще не престая распаляяся» (409 об.).
Однако основное настроение автора не было раздраженным или сумрачным. Представление о недостигнутости окончательного благополучия на Руси выражалось автором местами даже в стихах, с бодрой верой в лучшее будущее: «Святое сие крещение прияхом и держим, и льстиваго врага своего и миродержьца бежим, аще льщением его и своею слабостию и поползаемся, но от творца своего и Бога не отчаяваемся, но надеемся на его премногия щедроты» (407; ср. еще 407 об.).
Точно такие же мысли о пока не достигнутом полном духовном благополучии варьировались во всех печатных послесловиях конца 1630-х – начала 1640-х годов: Бог даровал людям законы, но «сим же не вси удобь покаряющися»44, на Руси принялись за размножение рукописных книг, но возникло «многое некое различие… разгласие… яко ничим же менее в житейских вещех истине быти»45, начали исправлять и печатать книги, но еще ими «недоволне исполнены»46; царь Михаил Федорович хоть и много сделал для духовного благоустройства, но «обаче не престая горя»47 на дело еще не завершенное. Таким же оптимистическим было и общее настроение издателей: при царе Михаиле Федоровиче «мрак же нечестивыя злобы тем да обличится и буря противных ветров да отогнана будет»48.
В течение всех 1640-х годов, вплоть до начала 1650-х, официальнопокойные темы в старопечатных предисловиях и послесловиях даже усилились. Авторы стали противопоставлять относительно благополучную Россию резко неблагополучному внешнему миру: еретики «возъмутиша всю вселенную» – «и нам тому их еретическому учению не подобает внимати», «стояти бы нам крепце»49; в мире «лютое сие волнение… гонящих церковь сих папистов и симониат», а в России, устремленной «к лучшему и изряднейшему правлению», «преплавают удобно и легце пучины и заверты, от нечистых духов возмущаемыя»50.
Смягчилась рисуемая в предисловиях и послесловиях картина отношений авторов и читателей. Авторы стали обещать читателям легкость в усвоении книг: «Аще кто восхощет, яко дверию, благолепотне и безтрудне возшествие сотворит»51. Авторы обещали читателям сладостное умиление: «Кто бо… не умилися и не прослезися?… Аще бы и варварскую кто душю имыи, и той… не умягчится ли? Сице сладостна… наказания послушающим»52. Авторы ласково называли читателей «любезными» и даже своими «сверстниками»53. Так тоже выражалось представление о наступающем полном благополучии.
Еще более заглаженную картину рисовали некоторые рукописные сочинения конца 1630-х – 1640-х годов, авторы которых были близки или тяготели к верхам российского общества. Например, справщик Савватий в стихотворном послании царю Михаилу Федоровичу заверял: «У вас же, государей наших царей, благочестивно во всем… Светла и высока престольна ваша царская держава, преизобилует бо в ней благодатная слава» и т. д.54
К рукописным памятникам подобной настроенности, возможно, примыкала «Повесть о Марфе и Марии», сочиненная между 1638 и 1651 гг.55 каким-то церковником по заказу рязанского и муромского архиепископа. «Позволяет считать это произведение принадлежащим к литературе верхов» то обстоятельство, что «это произведение чисто книжное, “сконструированное”», «написано без опоры на сформировавшееся ранее устное предание»56.
Учеными давно замечена в «Повести» «строгая, но наивная симметрия» «в духе миролюбия»57. Неблагополучия в «Повести» присутствуют лишь как начальное обстоятельство: две родные сестры разлучены в России далеко по разным городам из-за местнической ссоры их мужей; родня сестер недоверчива. Но огорчительные явления сразу же оттесняются за горизонт. «Повесть» рассказывает о том, как вдруг все улаживается и наступает полное, гармоничное духовное единство: после того как у сестер в одинаковый день и час умерли мужья, обе сестры, ничего не зная друг о друге, одновременно решили друг друга проведать; в один день выехали навстречу; в одном и том же месте остановились на ночлег; обе не узнали друг друга, а потом вместе плакали и вместе радовались; один и тот же ангел одновременно явился им во сне; в другом одновременном сне они услышали один и тот же глас свыше; занялись одним благочестивым делом; все окружающие прониклись благоговением и т. п.58. Если припомнить замечание исследователя о проникнутости этого произведения «ярко выраженной историчностью»59, то можно предположить, что в «Повести о Марфе и Марии» предстало в художественном воплощении характерное для тех лет стремление авторов к подчеркнутой благополучности описываемой обстановки.
В самом начале 1650-х годов появились сочинения, восхвалявшие российское благополучие как идеальное. Сам царь Алексей Михайлович в своих посланиях восхищался: «Благодать Божия… в нашем царстве присно изобильствует и несть уже днесь в… пастве никотораго разделения… но ныне вси единомышленно…»; «и ныне реки текут чудес… Даровал нам, великому государю, и вам, боляром, с нами единодушно люди… разсудити в правду, всем равно… и о всех христианских душах поболение мы имеем»60.
И все-таки во всех упомянутых рукописных и печатных сочинениях присутствует нечто, мешающее считать их точным отражением действительности. Для этого послания молодого, 23-летнего царя, Алексея Михайловича слишком восторженны; «Повесть о Марфе и Марии» искусственна; стихотворные послания к царю панегиричны. Старопечатные же предисловия и послесловия и того больше настораживают одной своей любопытной особенностью. С одной стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х – 1640-х годов указывали на гораздо более широкую, чем раньше, массовую предназначенность издаваемых книг. Печатные книги предназначались теперь не только для церковного, но и для домашнего употребления: «исполняя… не точию… церкви… но и домы»61. Книги были рассчитаны на все слои населения: «Наказательна же всякому роду, возрасту и сану – царем и князем, начальником и простым, богатым и убогим, иноком и мирским, мужем и женам, юным и престаревшимся, – безчислено всем»62; «во всем царствующем граде Москве и по всем градовом и по обителем, по малым же и по великим, и по селом и прилежащим к ним жилищам, – кто восхощет по всей России»63. С другой же стороны, авторы старопечатных предисловий и послесловий конца 1630-х – 1640-х годов хотя вежливо и ласково обращались к этой расширившейся читательской массе, но как-то слепо. В предисловиях и послесловиях не встречалось ни явственных свидетельств единодушия авторов с читателями, ни полемического нажима авторов на читателей, ни каких-либо иных знаков живого впечатления авторов от читателей.
Создается ощущение, будто авторы предисловий и послесловий, формально признавая существование читателей, не принимали в расчет реальные настроения читательской массы.
Наши подозрения в тенденциозности указанных литературных источников подтверждаются историческими данными. Судя по документам тех лет, а также по разысканиям ученых, реальная обстановка второй половины 1630-х – 1640-х годов разительно отличалась от успокоительных характеристик, даваемых писателями. Сошлемся только на самые яркие свидетельства. Документальные источники тех лет постоянно осуждали «мятеж и соблазн», «многих православных колеблющихся народов безчиние и смятение», «междуусобие от всех черных людей»64. По предположению исследователя, «может быть, соляной налог 1646 года, вызвавший бурный народный протест, отозвался в пословице: “Пошло было на хлебы, да соль своротила”»65. По выводу историка, «последние годы правления царя Михаила… были временем общественного упадка и правительственной прострации», «настроения разочарования и озлобления должны были охватить к концу царствования Михаила тех», кто вскоре поднял восстания 1648–1650 гг.66 В части населения возникло движение капитоновщины, в котором «явно преобладали эсхатологические мотивы, настроения отчаяния, безысходности»67.
Как возможное отражение обеспокоенности обстановкой интересно одно издание тех лет, звучащее диссонансом среди всех прочих изданий. Это книжечка из двух поучений патриарха Иосифа, напечатанная, по-видимому, при возведении его в патриархи в 1642 г. или вскоре после того. Иосиф сурово обращается к «народом во еже исправити благочестие», «яко время убо обуреваемо есть, и дние лукави суть, и люди на зло уклонишася»; «тех бо ради грех – нестроения, рати, труси, пагубы, и воздуха тление, морю нестояние, земли неплодие, скоту и плодом изгибель, в самех болезнь и смерть», «страны на ны смущаются, хулою о нас низводятся» и т. п.68 Правда, необычную резкость слов Иосифа можно объяснить тем, что тексты поучений почти целиком, дословно и без особой умелости были заимствованы из рукописных «Кормчих» XVI в. и иных старинных традиционных сочинений69. Но известно также, что Иосиф не очень пришелся ко двору и говорил не всегда то, что было нужно…
В общем, есть основания думать, что писатели конца 1630-х – 1640-х годов, ориентировавшиеся на верхи общества, попытались выдать желаемое общественное благополучие за действительное и отвернулись от преобладавших неблагополучных настроений большей части общества. Косвенное указание на такую ситуацию можно обнаружить в «Повести о внезапной кончине царя Михаила Федоровича», написанной в 1647 г. неким московским монахом для какого-то «рачителя божественного писания»70. «Повесть» начиналась мрачно: «Богу убо не хотящу, ничто же благо составляется»; «доволно же начаястася быти добру, обаче сотворилося зло и презло»; датский королевич, неудачно сватавшийся к дочери царя, «тщету велию сотвори царьстей казне и всей земли нанесе тяготу велию же зело… всей Рустей земли»; от горестных переживаний внезапно умер царь, а за ним и царица и т. п.71.
Имея в виду верхи общества, автор «Повести» отметил: «Ничто же им требе, токмо единем овому от них гордитися и величатися и во уме своем мыслию своею превозноситися, другим же чрево своя наполняти и насыщати и гортани свои услаждати…» (18). Вот эти-то люди не хотят, чтобы писалось или сообщалось о чем-либо неблагополучном, и досадуют: «Почто сия писати и нелепая воспоминати?» (16). Автор же не согласен с умалчиванием и негодует: «Не везде есть полза мудростно, и витийно, и потаенно писати и ведомостныя дела закрывати, но достоит явственно и просто начертовати, да всяк знает и разумеет… Мы же за что ленимся или боимся или страмляемся писати или печатати, что у нас в рустей земли случится быти?..» (18). Верхи общества вместе с их писателями и издателями, очевидно, действительно отвернулись в 1640-е годы от настроений средних и низших общественных слоев.
Подтверждением существования такой ситуации является ошеломительный и достоверно установленный факт общероссийского многолетнего обмана челобитчиков властями, когда «вся процедура подачи и приема челобитных, милостивых государевых указов по ним, помет думных дьяков с необходимыми распоряжениями – все это было сохранено, так что челобитчики ничего не могли заметить. Но вся процедура царской милости и государевых указов теперь работала, так сказать, на холостом ходу и потеряла свое обычно-обязательное для приказных дьяков значение… в приказах по ним никаких дел не вершили»; «дьяк мог безошибочно понимать… и он угадывал, что государева милость и государевы указы пишутся для отвода глаз, что механизм челобитья-указа работает на холостом ходу, что от него требуется волокита; и волокита грандиозная, кажется, еще небывалая даже в московской практике, возникала и расцветала в 1645–1648 гг.»72
Благодушное равнодушие издателей и писателей к читательской массе и соответственно равнодушие верхов к обществу, вероятно, объясняются тем, что читатели, масса как идейная сила пока «молчали». «Молчание», конечно, трудно изучить по источникам. Но некоторые догадки исследователями общественной мысли уже высказаны: после Смутного времени, «даже отвыкнув пассивно подчиняться властям, московский народ отнюдь не выдвигал таких требований, которые хоть немного шли бы вразрез с основами вотчинной монархии»73; в 1640-е годы «антицарские настроения снова сменились некоторыми иллюзиями и новый подъем народного движения был связан с менее развитой антифеодальной идеологией… народная политическая мысль вернулась к своему исходному пункту, и вызревание новых антифеодальных идей началось сначала»74. За внешним благополучием и единством таился раскол.
Так называемая поэтическая «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков» внушает надежду на обильное отражение в ней общественных казачьих настроений: ведь автор написал ее от имени всего казачества. Поэтому данную «Повесть» мы просто обязаны рассмотреть специально, тем более в связи с темой социального недовольства.
Общую характеристику «Повести», думается, повторять не нужно: текстология и основное содержание этой, вне всяких сомнений, «воинской повести» достаточно подробно изучены в работах А. С. Орлова, Н. И. Сутта, А. Н. Робинсона, В. П. Адриановой-Перетц, Д. А. Гарибян. В силу гораздо меньшей изученности нас интересуют социальные представления автора «Повести».
Социальные представления автора «Повести» выразились лишь попутно при развертывании его главной, воинской, темы, притом выразились косвенно: не в прямых рассуждениях, а в языке художественного произведения. Мы будем излагать не систему ясно высказанных взглядов автора «Повести», а по оттенкам высказываний воссоздавать его социальную настроенность.
Рассмотрим, каково было отношение автора «Повести» к социальному статусу казаков. Мы начнем с анализа высказываний о казачьей одежде – зипунах. Зипуны в «Повести» упомянуты трижды, и все три раза – в большой речи осажденных казаков к туркам.
Казаки дразнили турок: «А се мы у вас взяли Азов город своею казачьею волею, а не государьским повелением, для зипунов своих казачьих да для лютых пых ваших»75. Какой смысл здесь имело словосочетание «взяли для зипунов своих казачьих»? По толкованию всех комментаторов «Повести», слово «зипуны» означало казачье богатство, имущество. И действительно, в отписках донского и сибирского казачества XVII в. в аналогичных глагольных словосочетаниях типа «зипуна взяли», «зипунов порадели», «за зипунами ходили», «для зипунов ходили» и т. д. слова «зипун», «зипуны» безусловно имели переносное, собирательное значение: «достаток», «добыча», «трофеи», «богатство»76. Переносное значение слова «зипуны» было настолько распространенным, что использовалось даже в казачьей песне: «уже нельзя нам, братцы… по синю морю гулять, зипунов-то доставать»77. Мы можем сделать вывод: казаки в «Повести об осадном сидении» утверждали, что они взяли Азов для своего казацкого приобретения, обогащения. Однако такое истолкование смысла фразы вступает в противоречие с общим содержанием «Повести», в которой казаки неоднократно подчеркивали, что они взяли Азов не корысти ради, а для вящей своей славы. Значит, привычное истолкование приведенной фразы не совсем верно.
Присмотримся ко всей структуре цитированной фразы: «взяли… волею, а не… повелением, для зипунов… да для… пых…» Слово «зипуны» включено здесь в цепь слов, обозначающих волеизъявление: «воля» – «повеление» – «зипуны» – «пыхи» (то есть угрозы, запреты). Зипуны в этом «волеизъявительном» контексте имели переносный смысл, но означали не столько «имущество, добычу», сколько «интересы, стремления». Казаки заявляли, что они взяли Азов своею казачьею волею, то есть из своих интересов, для потребностей своих казачьих. Утверждения с подобным смыслом в «Повести» не редкость. Например, рассмотренному высказыванию немного ранее предшествовало близкое по смыслу высказывание казаков: «Азов мы взяли… для опыту… а сели в нем для опыту» (556). Так что словосочетание «взять для зипунов» и ему подобные надо толковать не по документальному шаблону, а исходя из контекста самой «Повести»: казаки не прибеднялись и не скромничали.
Перейдем к другому упоминанию о зипунах. Казаки издевательски недоумевали перед турками: «Где полно ваш Ибрагим, турской царь, ум свой девал? Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал под нас, казаков, для кровавых казачьих зипунов наших, четырех пашей своих, а с ними, сказывают, что прислал под нас рати своея турецкия 300 000?» (555). Султан не просто «прислал для зипунов», а «для кровавых казачьих зипунов». В документах XVII в. эпитет «кровавый» означал цвет, разновидность окраски. Но вот, например, в былинах о сражении русского богатыря Сухана с татарами и в рукописной повести первой половины XVII в. о том же Сухане употреблялось словосочетание «кровавые раны» уже в эмоционально-предметном смысле «окровавленные раны». Вспоминается еще фольклорное сочетание «кровавые уста» в значении «окровавленные уста». Подобные примеры показательны, потому что «Повесть об осадном сидении», как известно, ориентировалась на фольклор. «Кровавые зипуны» в «Повести» означали «окровавленные зипуны». Автор «Повести» в сочиненной им речи казаков выразил свое ощутимо предметное и эмоциональное представление об окровавленных казачьих зипунах; и оно не было мимолетным, ибо вслед за данным упоминанием зипунов сразу следовало опять предметное, телесное, «плечистое» упоминание: «И то вам, туркам, самим ведомо, што с нас по се поры нихто наших зипунов даром не имывал с плеч наших»78. Нет, зипуны в «Повести» имели прямое, вещественное, эмоциональное значение.
Но был дополнительный смысловой оттенок в упоминании «кровавых зипунов». Любопытным образом здесь связывались зипуны и султан. Казаки спрашивали: «Али у… царя не стало… серебра и золота, что он прислал… для кровавых казачьих зипунов наших?..» У вопросительных оборотов в форме «али – что» вторая часть обычно обозначала какой-либо недостаток называемого лица, неблагоприятную ситуацию, что видно, например, по пословицам XVII в.: «Аль я виновата, што рубаха моя дировата?»; «Али моя денга щербата, что нихто ее не возмет?»79 В «Повести об азовском сидении» вопросительный оборот типа «али – что», по-видимому, восходил к фольклорному и указывал на недостойный для ранга султана поступок: турецкий царь прислал за кровавыми казачьими зипунами. «Кровавые зипуны» здесь выступали не просто как окровавленные, но еще и как запачканные кровью, грязные, неприглядные, бедные зипуны, внимание к которым роняло достоинство султана.
От этого выигрывали казаки. Речь казаков, где упоминались зипуны, служила в «Повести» ответом на речь турок, уговаривавших казаков сдаться и обещавших им богатую одежду от турецкого султана: «Пожалует… вас, казаков, он, государь, многим неизреченным богатством… Во веки положит на вас на всех, казаков, платье златоглавое и печати богатырские с золотом, с царевым клеймом своим» (554). Ответ казаков в «Повести» по всем пунктам был противопоставлен предложениям турок80, и окровавленные неприглядные зипуны открыто противополагались обещанному золотому платью как нечто равноценное.
Упоминание зипунов содержало и иные смысловые оттенки. Казаки спрашивали: отчего бы это султан турецкий «прислал под нас… для… зипунов наших?» (555). Здесь не безразличным для смысла было сочетание «под нас – для наших». Словесная группа «мы – наши» или «вы – ваши» обычно вносила эмоциональный оттенок типичности, главности, постоянности чего-либо для кого-либо. Вот более ясный пример из той же «Повести об осадном сидении». Турки в речи к казакам употребляли форму «вы – ваши»: «рыкаете… вы… разбойницы непощадные, несытые ваши очи, неполное ваше чрево» (552–553); турки тем самым выставляли несытые очи, неполное чрево характерными свойствами казачества. В рассматриваемом упоминании зипунов форма «под нас – для наших» тоже выражала, хоть и вскользь, мысль о типичности зипунов для казаков. Эта мысль в той же форме повторялась и последующей фразой: «с нас… наших зипунов… не имывал». Бедные, неприглядные зипуны как бы обозначали самих осажденных казаков81.
В подобном обозначении было заключено еще не проросшее зерно художественной типизации. С одной стороны, воюющие казаки действительно одевались скромно. Известно, например, свидетельство, правда в конце XVII в., голландского адмирала Орнелия Рюйса о том, что донские казаки, отправлявшиеся «на морской промысел», надевали на себя «старые ветоши» в противоположность туркам, которые наряжались «в драгоценные платья» и обвешивались «золотыми и алмазными вещами»82. Но с другой стороны, рассматриваемая фраза в «Повести» неявным образом указывала на абсолютное постоянство одежды осажденных казаков – всегда и все в зипунах. Вот тут-то и ощутим элемент художественного преувеличения. О казацкой одежде в «Повести» больше не сообщалось дополнительных подробностей. Однако авторские жалобы в конце «Повести» на то, что «от всяких лютых нужд… отягчали мы все», что «от беспрестанной стрелбы глаза наши выжгли… стреляючи порохом», что «многих нас… опаливали» (562), а также описание сидения казаков в земляных ямах в совершенно разрушенном городе заставляют предполагать, что с начала и до конца «Повести» автор представлял-таки всех азовских казаков поголовно и постоянно в окровавленных, потрепанных, запачканных, прожженных зипунах. Типичная одежда превратилась во всегдашнюю, застывшую, приросшую к казакам, но еще и почетную.
Автор «Повести» вообще был склонен выводить своих персонажей в почетных, раз навсегда данных опознавательных одеждах. Как только автор начал «Повесть» с извещения о приходе турецкого войска, то он тут же описал турецкое снаряжение: «И платье на них: на всех головах яныческих – златоглавое; на янычанях на всех – по збруям их одинакая, красная, яко зоря кажется… А на главах у всех янычаней – шишаки, яко звезды кажутся» (552). Затем, когда автор перешел к рассказу о казаках, то, как мы уже знаем, упомянул их зипуны. Когда в повествовании появились новые персонажи – святые, помогавшие казакам, – то автор обязательно указал и их одеяния: «мужа древна власы, в светлых ризах»; «мужа храбра и млада, в одеже ратной»; «два мужа леты древны, на одном одежа иерейская, а на другом власяница мохнатая» (564, 565). Короче говоря, бедные, неприглядные зипуны действительно мыслились автором «Повести» как неотъемлемая почетная часть облика Азовских казаков.
Мы не исчерпали всех нужных нам смысловых оттенков упоминания зипунов в «Повести». Неприглядные казацкие зипуны неожиданно соизмерялись с султанским серебром и золотом, когда казаки спрашивали у турок: «Али у нево, царя, не стало за морем серебра и золота, что он прислал… для кровавых казачьих зипунов наших?..» (555). Если автор «Повести» намекал, что зипунами можно заменить серебро и золото, то возникает противоречие: в одной и той же фразе автор представлял казачьи зипуны бедными и одновременно драгоценными. Однако это противоречие чисто формальное. Очевидна гротескность приравнивания зипунов к золоту. Автор, конечно, не утверждал дороговизну зипунов. вспомним, что в фольклорных произведениях золото служило мерилом материальной ценности, но чаще – мерилом общественной престижности объекта. Приравнивая зипуны к серебру и золоту, автор «Повести» выражал представление о высокой ценимости казачьих зипунов турками и косвенно об авторитетности казаков для турок.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































