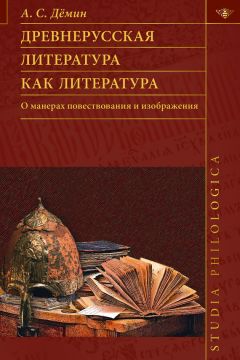
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 38 страниц)
«Казанская история»: двуликий автор
Во второй половине XVI в. традиционное литературное творчество оказалось сопряжено с появлением невиданных феноменов. Один из таких любопытных памятников, который предстоит рассмотреть на этот раз целиком, называют по-разному: «Сказание», «Повесть», «История о Казанском царстве», «Казанская история», «Казанский летописец». Сочинение посвящено взятию Казани Иваном Грозным и является очень дельным и подробным обзором исторических событий, слегка приправленным соответствующей риторикой. Творение это огромно и содержит 101 главу, которым предшествует небольшое авторское вступление. По косвенным данным памятник удается датировать 1564–1565 гг., но автор его так и не установлен1.
Уже сразу со вступления выделяется тема, одна из главнейших и самая интересная в «Казанской истории», – изображение Казанского царства и казанцев. Во вступлении автор дает общую характеристику Казани, обращая свои взоры «на презлое царство сарацынское, на предивную Казань»2. Может озадачить совершенно откровенная противоречивость харктеристики: Казань – одновременно и «презлая», но и «предивная». Эта положительная оценка Казани как «предивной» (не «дивной», а «предивной») тем более необычна, что дана она, так сказать, по высшему разряду: ведь эпитетом «предивный», не таким уж частым в древнерусских произведениях, обозначалось нечто, из ряда вон выходящее в области христианских ценностей, – предивные чудеса, предивные знамения, предивные чудотворцы (именно таково словоупотребление от «Успенского сборника» XII–XIII вв. до «Степенной книги» XVI в.), а иногда так обозначались предивные строения Царьграда (например, в «Повести о взятии Царьграда турками в 1453 г.», послужившей, кстати говоря, одним из источников «Казанской истории»). И этот-то «христианский» эпитет в «Казанской истории» вдруг оказался примененным к мусульманской Казани.
Еще более ясен подобный перенос «хорошего» символа на «плохой» объект в последующей общей характеристике Казани. Автор следующим образом говорит о расцвете Казанского царства как наследнике Золотой Орды: «И паки же возрасте царство и оживе, яко древо измершее от зимы солнцу обогревшу и весне. От злого древа, реку же, от Златыя Орды, злая ветвь произыде – Казань» (326, гл. 11). Казань – злая ветвь – это понятно. Но вот сравнение с весной всегда прилагалось к явлениям только положительным; да и в «Казанской истории» автор только что сходным образом выразился о Руси: «И тогда наша Руская земля освободися от ярма и покорения бусурманского и начатъ обновлятися, яко от зимы и на тихую весну прелагатися» (310, гл. 5). И вдруг «весна» перенесена на Казань.
Этот феномен не так-то прост и не охватывается каким-либо одним объяснением. В столь странном словоупотреблении нельзя только видеть отмеченное Д. С. Лихачевым «разительное нарушение литературного этикета» в «Казанской истории»3, потому что разрушение это произошло не стихийно, не механически, но и не из-за стремления автора к парадоксам. Разрушение этикета очень даже целенаправленно: на казанцев автор чаще всего переносит то, что пишет именно о русских. Так, например, «Казанская история» в разных ее главах содержит внешне не связанные друг с другом характеристики двух выдающихся воевод – казанского воеводы Аталыка и русского воеводы Симеона Микулинского. Хотя характеристика казанского воеводы, конечно, в общем, отрицательна, но она при всем том неожиданно пронизана массой положительных мотивов, перекликающихся с возвышенной характеристикой русского воеводы. Автор начинает характеристику казанского воеводы с особого эпитета – упоминания «силнаго» Аталыка (352, гл. 19), как потом и Симеон предстает «силенъ» (384, гл. 26); автор вспоминает «похвалнаго воеводу казанского» (352), и так же им оценен потом «прехвалны… воевода князь Симеон» (492, гл. 67). Подобные эпитеты можно было бы принять за объективные, не экспрессивные оценки качеств персонажей, если бы не совпадали и явно экспрессивные детали в их характеристиках, выражающие даже восхищение автора. У обоих воевод кони летают, словно крылатые: Аталыка «понесе конь его… аки крилатъ, конь его реку прелете» (352); у Симеона «коня его мнети, аки змия крылата, летающи выше знаменъ» (492). Обоих воевод автор хвалит за меткость: Аталык «стреляше версты дале в примету (попадал в цель больше чем за версту)» (354); и Симеон мог «на обе руки стреляти в примету и не погрешити» (384). Обоим воеводам никто не может противостоять: Аталык таков, что обычный «руский воевода или воинъ противъ его выехати и с нимъ дратися не смеяху» (354); Симеон тоже таков, что «противнии же… не могуще ни мало стояти противу его» (492). Обоих воевод страшатся: от Аталыка «страх наших обдержа» (357); от Симеона казанцы «страхом одержими» (492).
Однако автор «Казанской истории» вовсе не подчеркивал специально сходство Аталыка и Симеона. Напротив, эти воеводы в конечном счете получились противоположны обликом: у Аталыка «очи же его бяху кровавы» (354), а Симеон «радостенъ очима» (384); Аталык напоминает «буявола» (354), а Симеон – «аггела Божия» (492) и пр. Автор «Казанской истории» ввел в характеристику Аталыка специфические мотивы, напоминавшие не столько о Симеоне персонально, сколько о типично русских богатырях, вроде тех богатырей, которые изображены в «Повести о разорении Рязани Батыем», тоже использованной в «Казанской истории». Аталык в «Казанской истории» «наезжал… на сто человекъ удалых бойцов… и, многихъ убивъ… разсецаше надвое и до седла… Величина же его и ширина, аки исполина» (354); все это созвучно «Повести о разорении Рязани», где каждый из дружинников Евпатия Коловрата «ездя, бьяшеся един с тысящею», а сам Евпатий Коловрат, «исполин силою», «богатырей Батыевых побил, ових на полы пресекоша, а иных до седла краяше»4.
Если автор все же и находил общие черты у Симеона и Аталыка, то вовсе не обязательно было так повторять сходные детали и выражения в их характеристиках. Причина подобной манеры повествования, то есть переноса «русских» мотивов на казанцев, заключалась не в слепом разрушении литературного этикета, а в двуликости автора, в новизне представления автора о некоем сходстве русских и казанцев. Отражения этого представления многочисленны в повести. Поэтому некоторые положительные черты воеводы Симеона (да и прочих русских персонажей) автор не менее настойчиво отмечал хотя и не у Аталыка, но у казанцев тоже. Симеон «силенъ в мужестве» (384), «ратникъ бе велий и мужественне зело» (494, гл. 67); но и казанцы – «мало таковых людей мужественых… во всей вселенней обреташеся» (472, гл. 59). У Симеона красиво блестят доспехи и оружие: его видят «аки огненна всего яздяща на коне своемъ и мечь и копие его, аки пламень, метающися…» (492); но и казанцы предстают «со блещащимся оружиемъ» (376, гл. 25). И, напротив, некоторыми отрицательными чертами Аталыка и казанцев хотя и не Симсон, но русские обладают тоже. Аталык и казанцы свирепы, вид у Аталыка «аки у зверя или человекоядца» (354), казанцы выглядят «яко зверми… ис пустыни пришедшими» (368, гл. 23); но свирепы и русские воины, которые «рыскаху, яко зверие по пустынямъ» (524, гл. 83). Казанцы на войне грешат пьянством: «запивахуся до пияна и спяху сномъ крепким», это свойственно и Аталыку: «упившуся виномъ и не успевшу ему скоро от сна востати» (354); но и русские воины не прочь «упиватися без воздержания… и спати, яко мертвы» (336, гл. 14).
Представление автора повести о сходстве казанцев и русских не ограничивалось военной сферой. Фразеологически сходно и со сходными деталями описывал автор и совсем не воинских персонажей, казанских и русских, например, казанскую царицу Сумбеку (Сююн-Бике) и русскую царицу Анастасию (первую жену Ивана Грозного). Обе они горюют из-за ужасов войны, и в непосильном горе их поддерживают под руки: Сумбека «поддержима под руце рабынями ея» (412, гл. 38); Анастасию «сам царь супружницу свою рукама своима поддержалъ» (452, гл. 52). Обе царицы горько плачут. Обоих цариц пытаются утешить: Анастасию царь «утешив… своими словесы» (452); Сумбеку тоже «увещеваху… ласковыми словесы» (416, гл. 39), «едва отлияша ю водою и утешаху ю (ее)» (412). Кстати, эпизод отливания рыдающей казанской царицы, которую «похватиша… от земли… мало не мертву», скорее всего, восходит к «Повести о разорении Рязани», где рязанского князя, от плача «лежаща на земли, яко мертвъ… едва отльеяша» (194). И тут «русский» мотив также перенесен автором на казанского персонажа.
Далее обе царицы обращаются к «драгим» своим мужьям. Сумбека, хотя говорит и причитает «речью варварскаго языка своего» (412), но, в передаче автора, совсем по русской традиции: «Кто… горкия слезы моя утолит…?» (414, гл. 38); так же плачет Анастасия: «хто ми утолитъ мою горкую печаль?» (452). Обе царицы мечтают о почтовой птице, приносящей вести. Сумбека: «где возму птицу борзолетную… да возвестит случившаяся…?» (420, гл. 40); Анастасия: «кая птица во един час прилетит… и возвестит ми…» (452). Обе царицы не хотят видеть дневного света: Сумбека «в дому сидела… света дневнаго не зря» (420); Анастасия «припокрывся в полате своей… света дневнаго зрети не хотя» (452). Каждая из этих цариц напоминает птицу в гнезде: Сумбека напоминает «яко смирну птицу въ гнезде… в полатах ея» (410, гл. 38); Анастасия «возвратися в полаты своя, аки ластовица во гнездо свое» (452). Женщины казанские вместе с Сумбекой плачут, «яко многия горлицы» (412, гл. 38); но и Анастасия плачет, «яко печалная горлица» (552, гл. 95). И т. д.
Представление автора о сходстве казанцев и русских распространялось на самые разные области, подчас неожиданные. Например, в повести сходно описывались редкостные события у казанцев и у русских. Так, о небывало дорогом изделии – о шитом золотом и драгоценностями шатре казанского царя автор сообщил, что «велицыи купцы заморстии… дивяшеся хитрости его, глаголюще, яко: “Несть в наших заморских странахъ… узорочия такова, не слышено и не видено ни у коегождо царя или кроля”» (340, гл. 15). Но и о небывало торжественном шествии русского царя и его вельмож, одетых в золотые украшения и драгоценные наряды, автор сказал примерно то же: «вси послы же и купцы тако же дивляхуся, глаголюще, яко: “Несть мы видали ни в коих царствах, ни в своих, ни в чюжих, ни на коемъ же царе, ни на королех сицевыя красоты”» (548, гл. 93).
Автор «Казанской истории» время от времени и логически довольно прозрачно выражал свое представление о сходстве обеих сторон – казанцев и русских: «страшно бе видети обоих храбрости и мужества» (518, гл. 80); «мнози от обою страну падоша, аки цветы прекраснии» (468, гл. 58). Чаще всего это сходство понималось автором как некое равновесие сторон: «овогда убо мало державнии (правители) наши побеждаху казанцевъ, овогда же сами от нихъ болши сугубо побеждаеми бываху» (362, гл. 22); «яко не токмо спомогает Богъ христианомъ, но и поганымъ способствуетъ» (324, гл. 10). Казанский персонаж, в трактовке автора, мог обращаться за поддержкой к обеим верам вместе: так, казанский царь «втай небеснаго бога моляше по вере своей, но и русских святыхъ на помощь призываше» (376, гл. 25); другие мусульманские персонажи ссылались на учение обеих вер, на то, как сходно «пишют бо наши книги и христианския» (424, гл. 41). Иногда автор и сам не знал, чья вера воздействовала на события: «или Богъ тако сотвори, или волхвование казанских волхвовъ сие бысть, – не вемъ» (388, гл. 27).
Казанские персонажи, по утверждениям автора, дорастали до русских: наши могут посочувствовать врагу-правителю, впавшему в несчастья, но «милуетъ бо и варваринъ, видя державнаго (русского правителя) злостражуща» (328, гл. 11); русские верно служат своему самодержцу, но ему же может быть так же верен и иноверный: «много добра и велику помощь сотвори, служа и помогая самодержцу своему, аще и поганъ есть» (426, гл. 42).
Больше того, в отдельных случаях, по оценке автора, казанцы даже превосходят русских в верности: «и неверный варваръ паче (лучше) нашихъ верных сотвори» (346, гл. 17). Превосходят, бывает, и в военном искусстве: «учени бо суть измаилтяне от начала своего бранем, учатся от младенства сицевым… Темъ (поэтому) силно не можемъ противитися и много смиряемся пред ними» (364, гл. 22); ведь было и так, что «разгневася Господь на руских вой, отъят от них храбрость и мужество и даде поганымъ храбрость и мужество» (336, гл. 14). Наконец, еще одна область казанского превосходства – женская красота: так, казанская «царица та зело красна и в разуме премудра, яко не обрестися таковой красной в Казани в женах и в девицах, но и в руских во многих на Москве во дщерях и в женах болярских и княжых» (416, гл. 38).
Столь высокое и открыто высказываемое мнение автора об иноверных, о казанцах, и о взаимном сходстве казанцев и русских, особенно сходстве положительных черт у обеих сторон, совершенно необычно для древнерусской литературы и, в свою очередь, объясняется несколькими причинами. Одна причина – биографическая. Автор каким-то образом попал в плен к казанцам, долгое время, 20 лет, в привилегированном положении жил в Казани, о чем он не без удовольствия сообщил сам: «Грех же моихъ ради случи ми ся пленену быти варвары (то есть казанцами) и сведену в Казань. И данъ бысть в дарех (в подарок) царю казанскому… И взятъ мя к себе царь с любовию служити во дворъ свой и сотвори мя пред лицемъ своимъ стояти. И удержану ми бывшу тамо у него двадесятъ (двадцать) летъ в пленении… часто и прилежно от царя вопрошахъ (распрашивал царя) в веселии (при развлечениях) и при беседе со мною и мудръствующих честнейшихъ казанцев. Бе бо царь по премногу и меня любя, и велможи его паче меры брегуще мя» и пр. (302, гл. 1). Читал автор, вероятно, принявший ислам, и казанские летописи. Все это, надо думать, способствовало многочисленным благоприятным его оценкам Казани и казанцев.
Но авторские похвалы казанцам отнюдь не чрезмерны в произведении, которое гораздо больше осуждает иноверных, чем их хвалит. Автор, по его дальнейшему признанию, после взятия Казани возвращенный из плена, вновь принявший православие, определенный на царскую службу и пользовавшийся покровительством и любовью воеводы Симеона Микулинского, явно следил за соотношением акцентов в своем произведении и временами оправдывался перед читателями: «Да никто же мя осудит от вас о семъ, яко единоверных своих похуляюща и поганых же варваръ похваляющи» (492, гл. 67). То был слуга двух враждующих господ, обязанный уважительно говорить об обеих сторонах.
Похвалы Казани и казанцам допускались в большей степени всетаки не по биографической, а по идейным причинам. Ведь Казань и казанцы – это своего рода богатейший военный трофей Ивана Грозного, есть чем похвалиться: «в лета православнаго, и благочестиваго, и державнаго царя и великаго князя Иоанна Васильевича… всеа великия Росии самодержца, ему же дарова Богъ… предивную Казань» (300). Богатство этого трофея автор всячески живописал. Например, во время штурма Казани один из русских «некий же юноша воинъ… оружие наго держа в руках своих, кровию варварскою красеющися» вбежал «в мерское святилище Махметово, в мечеть цареву (то есть казанского царя)… чая тамо некое собе налести (обнаружить) богатство, еже и бысть. И… виде по стенамъ златотканныя запоны (занавеси), на царских гробех – покровы драгия, саженыя жемчюгомъ и камениемъ драгимъ… до верха наставленых великих ларцевъ и коробей с рухломъ (добром) драгих (богатых) казанских велмож» и т. д. (528, гл. 85). Эти и иные дивные богатства Иван Грозный похвалил, «яко велика бе слава и красота царства сего», и лично осмотрел «очима своима самъ», велел переписать и «печатью своею запечатати» и поставил охрану (534, гл. 87). Хваленый трон казанского царя отослан в Москву, прекрасная Сумбека – тоже.
Еще одна идейная причина допущения положительных оценок в характеристики Казани была более широкой, чем прямолинейное любование автора военными трофеями, и относилась уже к авторским историческим взглядам. Автор и без обращения к теме трофеев восхвалял Казань, потому что это прекрасное место, по его мнению, исконно находилось на Русской земле и лишь затем было захвачено «погаными»: то «место на Волге, на самой украине Руския земли… зело пренарочито (совершенно исключительное) – и скотопажно (пастбищно), и пчелисто, и всякими земляными семяны (злаками) родимо, и овощами преизобилно, и зверисто, и рыбно, и всякого угодия житейскаго полно – яко не обрестися другому такому месту по всей нашей Руской земли нигде же точному (похожему) красотою, и крепостию (целебностью), и угодием человеческим» (314, гл. 7). И далее в произведении неоднократно повторялась та же идея географической русскости Казани. Например: «И уведа царь и великий князь Иоанъ Васильевичь, яко издавна стоить на Руской его земли царство срацынское Казань, по рускому же языку – Котелъ златое дно… казанстии царие тоя страны много Руския земли отъемше до сего нашего самодержца» (362, гл. 22).
Можно также предположить, что автор «Казанской истории» исходил из какого-то кодекса рыцарственности, который он распространял на обе стороны – казанцев и русских – в рассказах о делах воинских (эта догадка Э. Коннана5).
Однако в «Казанской истории» автором все же так густо, но не нарочито и без привязки только к рыцарственным или к иным определенным темам или лицам, использованы фразеологические параллели в рассказах о казанских и о русских персонажах, что объяснить такое всепроникающее явление лишь биографическими, политическими или сословными причинами оказывается недостаточно. Сходство казанских и русских персонажей ведет к более широкому явлению в мировоззрении автора повести, к его своеобразному «человековедческому» подходу к описываемым событиям, к его представлению о единой человеческой природе поведения всех людей вообще. Вот суть двуликости автора. Сходство казанцев и русских явилось у автора самым частым, однако как бы частным случаем общего человеческого сходства, которое составляют еще и упоминаемые в повести черемисы, ногайцы, турки, «фряги» (западноевропейцы), поляки, литовцы, немцы, датчане, шведы, англичане, греки, вплоть до совсем уж «иноземцев далних».
Автор и в самом деле постоянно думал об общечеловеческой основе поведения своих персонажей, неважно – русских или казанцев, и оттого он регулярно насыщал свое повествование о тех же русских или казанцах множеством философских сентенций о людях вообще. Хотя в подобной сентенциозности изложения у автора «Казанской истории» были серьезные предшественники, вроде «Хронографа 1512 г.», но всетаки эти обильные сентенции автор сочинял, цитировал или пересказывал, применяя к нужным случаям, сам. Автора интересовали преимущественно две, как сказали бы мы сейчас, проблемы человеческого поведения.
Первая – это проблема верности или же, напротив, предательства. У автора даже царь Иван Грозный возвещает общечеловеческий принцип: «Сладко бысть всякому человеку умрети за веру свою, паче же кому за християнскую святую» (446, гл. 48), – то есть поощряется благородная верность каждого человека своей вере, причем, не обязательно вере христианской, хотя, конечно, лучше бы христианской. Сюда же относятся и использованные автором сентенции о верности вроде такого высказывания: «И болши сея любви несть ничто же, еже положити душю свою за господина своего или за друга» (382, гл. 25), – показательно, что эта мораль выведена автором из изложения внутриказанских дел, но по существу касается всех людей, включая и русских, и казанцев.
Немало сентенций автор направляет против всех русских и казанских предателей и изменников; например: «всемъ изменникомъ, с лестию (коварством) и неправдою служащимъ государемъ своимъ, – им же да буди вечная мука» (534, гл. 86). Автор выясняет универсальные мотивы предательства, касающихся и русских, и казанцев, – это женская хитрость и подкуп: «И всегдашняя капля дождевная и жестокий камень пробиваетъ вскоре, а лщение женское снедаетъ премудрыя человеки» (330, гл. 12). Имеются в виду «премудрыя человеки» как у русских, так и у казанцев; «и намъ мнится, яко силнейши есть злато вой безчисленых, жестокаго бо умяхчеваетъ, мяхкосердое ожесточеваетъ, и слышати глуха творитъ, и слепа – видети» (354, гл. 19), опятьтаки, хотя и неявно, речь идет о всех людях вообще. Предательство и усобицы ведут к гибели государства; тут автор ссылался на Евангелие: «Божие слово рече во Евангелии: “Аще кое царство станетъ само на ся, то вскоре разорится”» (382, гл. 26), – автор подразумевал любое царство, подчиняющееся этому всеобщему закону. Однако надо сказать, что предательство автор осуждал не абстрактно, а переживал, конечно, больше по отношению к Руси и христианству и общечеловеческие истины чаще выводил на основе русских обстоятельств: «несть мочно и лзе просту человеку со змием дружитися, и кормити его от руку своею всегда… и приучити в пазусе (за пазухой) носити и не снедену быти от него… Тако и от злаго слуги своего, невернаго раба иноязычнаго, не мочно есть ухранитися и убрещися у него» и пр. (428, гл. 43).
Вторая проблема, которой автор посвятил многие свои сентенции, – это общие основы деятельности всех людей. В делах главное – угодить Богу. Автор снова ссылается на святые книги: «Писано во святых книгахъ: “Во всяком языце творяи волю Божию и делаяи правду, приятенъ ему есть”» (428, гл. 42); «но что может человекъ сотворити, аще не Богъ попустит его» (498, гл. 69), – речь опять идет о любых народах и любом человеке, но, правда, Бог подразумевается христианский.
По автору «Казанской истории», общечеловеческая основа поведения – прежде всего христианская. Но в этих пределах находится большое поле общности самых разных народов и людей: «всяк бо человекъ, иже в скорбехъ возрасте и в бедахъ множественых, всемъ искусенъ бывает и можетъ многостражущим в напастех спомогати» (360, гл. 22); «и весте сами боле мене: кто венчается (ублаготворяется) без труда? Земледелец убо тружается с печалию и со слезами, жнетъ бо веселиемъ и радостию. И купец тако же…» и т. д. (490, гл. 66). Деятельную жизнь всех людей пресекает смерть: «Но, о прегоркая смерти злая, не милующа красоты человеча, ни храбра мужа щадящи, ни богата почитающи, ни царя… но вся равно от жития сего поемлющи и в трилакотнемъ (трехлокотном) гробе темнем полагаше» (492, гл. 67), – все это верно для всех, но упоминание именно гроба свидетельствует опять-таки о христианах.
Автор «Казанской истории» не только писал большой исторический труд, но многое видел, много читал и размышлял по поводу событий; эти размышления привели его к некоей несистематизированной «философии» общечеловеческого сходства, тем не менее определившей беспрецедентные литературные особенности его произведения – смелое преобразование литературного этикета и этническое расширение содержания традиционных сентенций и символов6.
За сто лет до автора «Казанской истории» тоже надолго оказавшийся в иноверной среде Афанасий Никитин лишь метался в своем «Хождении за три моря» от православного отрешенного взгляда на чуждые народы и веры к высказываемой им по-тюркски более дружественной точке зрения на буддистов и мусульман и, кажется, склонялся к смутной идее единого бога для всех народов. На этом фоне видно, насколько изощреннее в литературном отношении, опытнее, зрелее был автор «Казанской истории», который хорошо вписался в начавшийся с XV в. на Руси процесс литературного приятия явно чуждых, даже враждебных нам правителей и народов поездившими за рубеж, бывалыми людьми, состоявшими на царской службе («Сказание о Дракуле, воеводе мутьянском» Федора Курицына, «Сказание о Магмете-Салтане» Ивана Пересвета). На «Казанской истории» в XVI в. этот процесс не закончился (ср. «Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков»). Нараставшая активность контактов, по-видимому, способствовала упрочению в России XVI в. писательских представлений о том, что страшные иноземные злодеи и отвратительные иноверцы в чем-то такие же люди, как и мы.
Примечания
1 См.: Волкова Т. Ф. Казанская история // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Л., 1988. Вып. 2. Ч. 1. С. 451.
2 ПЛДР. Т. 7 / Текст памятника подгот. Т. Ф. Волкова. М., 1985. С. 300. Далее страницы указываются в скобках.
3 Лихачев Д. С. Избранные работы: В 3 т. Л., 1987. Т. 1. С. 365, 369. Современная исследовательница отмечает в «Казанской истории» «ценностные оксюмороны» и «проявление несогласованного многоголосия» (Плюханова М. Б. Сюжеты и символы Московского царства. СПб., 1995. С. 179, 199).
4 ПЛДР. Т. 3 / Текст памятника подгот. Д. С. Лихачев. М., 1981. С. 192.
5 См. об этом: Лихачев Д. С. Указ. соч. Т. 1. С. 368–369; Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 180–181.
6 Ср. подразумеваемый автором «символический статус Казани как источника русского царения» (Плюханова М. Б. Указ. соч. С. 188).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































