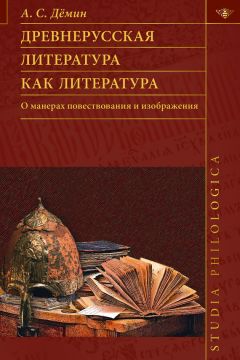
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 38 страниц)
Никогда еще в произведениях не было такого потока благодарностей Богу за спасение Русской земли. Каждый автор, рассказывал ли он о несчастьях или только упоминал их, обязательно переходил к благодарениям: «Еще же воспомяну его Божие к нам милосердие и щедроты…» («Сказание» о книгопечатании, 201); «Господь за милость же свою много возлюби и помилова… и от бед наших избави нас» («История», 212); «нашь же християнский род помилова Господь своею милостию и почте нас славою и честию паче всех язык» (Азбука 1634, 2–2 об. послесловия). Дело не в благочестии авторов. Благодарности намекали на установившееся наконец российское благополучие, и чем пространнее выражались авторы, тем определеннее они утверждали картину благополучия России.
Новые события только сильнее обнадеживали авторов. Шах персидский прислал в Москву ценность – ризу якобы самого Христа. Последовали благодарности Богу, «изъволившему… нам подати стену необориму и неблазно утвержение»: «аково Божие дарование Русъстей земли даровася!»; «тверды покров… нам християном даровася риза твоя»; «ризу нам яко стену и покров даровал еси» (стихиры о ризе, 1 об., 15, 15 об., 17, 18); «таковую преславную благодать видети во благочестивом царствии…» («Иное сказание», 138). Русская земля представлялась авторам отделенной стеной от несчастий, уже обладающей воплощением благодати и пр. Если даже происходили события неприятнейшие, например грандиозные пожары в Москве, то и в них разыскивалось хорошее начало и благодарности Богу все равно воздавались: «Премилостивый же Бог милостиво наказуя человеки, и отводя от греха, посылая милостивое наказание…» («Новый летописец», 152); «Господь Бог наш, не хотя создания своего до конца погубити… всячески отвращая нас, соотводя от всяких неподобных дел… и воспрещая с милостивым наказанием» («Иное сказание», 141). Россия мыслилась авторами под надежным покровительством Бога: «Русъскую страну нашу назираеши» (стихиры о ризе, 15 об.).
С небывалым энтузиазмом писатели 1620-х – 1630-х годов принялись превозносить «царство Московское, его же именуют от давных век великая Росия» («Повесть книги сея», 559); авторы подчеркивали величие «великия державы всея великия Русия Московскаго царства», «великия державы всея славно именитыя Русии Московскаго государьства» (Шестоднев 1625, 14 второго счета; Учительное евангелие 1629, 593 и многие другие издания); авторы говорили о «славнем и преименитом царствующем граде Москве», о значительности «славнаго града каменной Москвы» и пр. (стихиры о ризе, 23; песня о Филарете, 9). В общем, авторы были теперь самого высокого мнения о России.
Авторы не ограничивались только общими словами, а конкретизировали картину благополучия России. Внешний, психологический признак благополучия – это всеобщая радость после преодоления бед: «Зрадовалося царство Московское и вся земля святоруская» (песня о Филарете, 7); «многия убо слезы тогда от радости быша» («Мазуринский летописец» под 1619 г., 158); «уставиша праздник торжественный празновати о таковой дивной победе; даже и доныне празнуют людие» («Повесть книги сея», 618); «всяк град радуется, празднуя верно» (стихиры о ризе, 16) и т. д. На радость, ликование, веселие, на «обрадованну нашу душу» (память 1636, 403) памятники теперь обращали внимание повсеместно. Даже прошлое становилось повышенно радостным, и, например, составитель «Есиповской летописи» мог выражаться о походах Ермака так: «…по всей Сибирстей земли ликоваху стопами свободными» (124).
Авторы обрисовывали и более существенный признак благополучия России – широкое «устроение». Сообщений об «устроениях» следовало немало. Так, в предисловии к «Московскому летописцу» составитель провозглашал царя Михаила Федоровича исключительно плодотворным «устроителем»: уже «в начале царствия его просветися вера, просия благочестие, уставишася церковнии чинове и царствия синклиты, и царствующий град Москва возградися, и места уселишася, воинство охрабреся, и купцы своя промыслы возприяша, – комуждо как милость Божия поспешествуя» (222). Обнадеженность и удовлетворенность писателей российским «устроением», возможно, побуждали их выделять «устроение» и других, вымышленных царств: когда царь «станет лготу давать и дани поубавит – и государьство опять полно наполнитца, селища опять жили будут… И от тех мест стал царь милостив, и льготу стал давать, и дани поубавил – опять стало все жило» («Повесть о разуме», 327). Довольство российским «устроением» приводило авторов к особенно уверенной мысли о мировой благоустроенности, введенной Богом: «вся бо той созда видимая же и невидимая… убо всяко здание сотворил есть той. Все же содержит, и снабдит, и промышляет о всем, и… устрояет, и вся люди своя священными своими законы и правилы и уставы и богодухновенными писаньями вразумляет и просвещает и… обращает… и… призывает… и … умудряет» и т. д. (Триодь 1630, 638).
Венчающий признак благоустроенности России в сочинениях писателей 1620-х – 1630-х годов – красота «устроений». Вот хотя бы одна из несколько перегруженных похвалами картин украшения Руси Михаилом Федоровичем: «являя того… еже по вселенной созидати и украшати божественыя храмы и разсеявати божественная словеса, яко бисер или, реку, злато… Чюдными лепотами… иконами и многоценными… сосуды и ризами и инеми по благочинному слову приличными вещми любезне украшая… еже благословными священными книгами, яко же некими благоцветущими крины, божественная храмы исполняти… и не точию Христовы церкви и… обители, яко многосветлыя звезды в тверди небеснеи сияющии, но и домы благочестивых пребогатне и пресветле преисполнив… всея своея царьския Русъския державы…» (Канонник 1636, 76 об. – 78 об. второго счета); все делается, чтобы «по всей бы своей велицей Русии разсеяти, аки благое семя в доброплодныя земли», чтобы был от «божественных догмат яко бы неких благовонных аромат» (Азбука 1634, 5–6 об. послесловия).
Результат благоустроения – мир и покой в государстве: «мир и тишину и правду утвержающа» (Учительное евангелие 1629, 593); «печалным веселие, тружающимся упокоение, насилуемым отдохновение… покой дарова» (память 1636, 403). Людей многонародного государства памятники теперь неоднократно и благосклонно называли смиренными, благочестивыми овцами: «В Рустей же земли не токмо веси и села мнози сведоми, но и грады мнози суть единаго пастыря Христа едина овчата суть, и вси единомудрствующе» («Словеса», 530). Авторы считали, что много «есть разумичных людей в великом государстве» (послание Стефана, 406).
Авторы не только представляли благополучным настоящее, но и надеялись на всегдашнее благополучие в будущем: «…да соуз мира… твердо в дусе кротости хранится, да не будет несогласия ради распря…» (Требник 1623, 618 об.); «да сияет благочестивое царство… святолепным просвещением всегда, да пребывает во светлей и божественней славе… святая же соборная церковь… да цветет и славится всегда… украшается… и не на поколебимем основании да пребывает» (Учительное евангелие 1629, 593–593 об.; Триодь 1630, 639 об.; Октоих 1631, 475), «да множится и ростет благочестие во всей… Русьстеи земли» (Азбука 1634, 7–7 об. послесловия). Говорилось и в формах, обозначавших еще большую «всегдашность» благополучия: «град Москву… ограждаеши… от безъбожных иноплеменник, от глада же, и труса, и междоусобныя брани присно..» (стихиры о ризе, 5); «радуйся, церковная красота и обогащение; радуйся, боговерным царем на сопротивных пособие и в нашедших печалех утешение; радуйся, отеческому своему граду утвержение и неусыпно хранение… радуйся, многонародному граду Москве ликование…» («Повесть о мнисе», 873–874).
Жажда устойчивого благополучия, благополучия «навсегда», определяла уже знакомый нам ход мыслей. Даже сомнительные явления истолковывались как благие предзнаменования. В «Мазуринском летописце», например, рассказывалось, что в 1619 г. над Москвой встала комета: «Мудрые же люди о той звезде ростолковаху, что та звезда над Московским государством стоит к доброму делу… в том государстве подает Бог вся благая и тишину и никотораго мятежу в том государстве не живет» (158). Другое следствие желания благополучия – мечта о распространении его на весь мир: «моления творити должны есмы о умирении всего мира», «дабы отныне и впредь… утвердитися и укрепитися, яко же солнцу под небесем сияющу и во вся окрестныя страны луча свои простирающу… и ко всякому благочинию во веки неподвижно утвержающе» (Канонник 1636, 80; память 1636, 404). Представления о наступившем российском благополучии составили вескую часть умонастроений писателей 1620-х – 1630-х годов.
Подумаем, для какого общественного слоя были характерны отмеченные представления. Данные у нас только косвенные. Судя по памятникам, представления о благополучии были свойственны писателям, близким к верхам, и, наверное, самим общественным верхам. Однако резко ограничивать круг бытования подобных представлений нельзя. Для наших предположений имеет значение гармония отношений писателей с читательской массой. В 1620-е – 1630-е годы изменились преобладающие эпитеты, прилагаемые авторами к читателям. Читатели теперь были «благочестивии и истиннии делателие винограда Христова» («История», 243): «разсудителнии… имыи премудр смысл и чюден» («Повесть о Димитрии», 847). К читателям авторы теперь обращались так: «О, чада светообразная… хотех убо вашей любве благо глаголати… вашей души прекрасней достойно есть… праводелателное» («Словеса», 530).
В 1620-е – 1630-е годы изменилось и содержание более развернутых высказываний писателей о читателях. Писатели настаивали на близкой, наступающей, наступившей читательской благочестивости. Вот разные формы подобных высказываний. Самая общая: все ведет к «полезному жительству и ко спасению душам человеческим» (Служебник 1623, 477 об. и многие другие издания); модальная форма высказывания о прикосновенности к благочестию: «Сице хощет создавыи нас Бог и нам тем ревнителем быти»; «нам… подобает… везде тщатися яко от себе самех вносити по силе нашей» (Канонник 1636, 80; «Повесть о Димитрии», 856); повелительная форма высказывания об обязательном усвоении благочестия: «Имеим убо, возлюбленнии, промысл Божий на уме… и содержим в себе всего память на всяк час и розмышляем и брежемся и накажемся…»; «зрим же, братие, и в мире суща добродетелныя человецы» («Повесть о Димитрии», 838, 843); форма высказывания в настоящем и будущем времени как выражение неотвратимости благочестия: «и аки по лествице, от нижния степени на вышнюю восходят и потом паки вящее учнут разумевати» (Азбука 1634, 8–8 об. послесловия). В благочестии читателей, ныне и навсегда, писатели были уверены с определенностью.
Особенно часто писатели демонстрировали свою уверенность в приверженности читателей к благочестивому чтению: «И ныне, братие, отверзем умныя зеницы сердца своего и искусно разумеем…» («История», 249). Издатели насыщали предисловия и послесловия всех издаваемых книг рассуждениями и пояснениями о содержании, составе, композиции, истории и предыстории создания предлагаемых книг, порядке их чтения и пр. (необычайно много, например, в «Триоди» 1630 г., стихотворном наставлении в «Азбуке» 1637 г.). Это делалось для того, чтобы удовлетворить читательскую любознательность. Читатели и слушатели, по мнению издателей, теперь охотно усваивали «въкупомудрено и изрядно удобряемое учение» (Октоих 1631, 475 об.). И действительно любознательность читателей и слушателей писатели упоминали неоднократно: «людие православнии… яко гладни… поучения и жития не слышаще» (память 1636, 402); «аще кто имый премудр смысл и чюден, да навыкнет от божественных писаний…»; «хотяй навыкнути о сяковых да прочита в летописных историях…»; «и аще кто восхощет о смятении Росийския земли широко и пространно уведати, и той да прочти себе великую “Историю” Палицына» («Повесть о Димитрии», 847; «Повесть о мнисе», 871; «Хронограф» 1617, 1313).
Показательно у издателей 1620-х – 1630-х годов обилие похвал каждой предлагаемой книге, тому, «яко же есть зримо в книзе сей полагаемо». Издатели выражали перед читателями восхищение от «сладко гласнаго гласа» книги (Октоих 1631, 475 об.), слышали в ней «прехвалныя и громогласныя десятострунныя гусли» (Псалтырь 1619, ненумерованн. 335 об. и многие другие издания). Издатели восхваляли содержание книг, подчеркивая, например, что книга «о страшных, великих, предивных чюдесех» «исполнь радостотворнаго умиления» (Триодь 1630, 640). Издатели восхваляли авторов или составителей книги: «мнози бо древле чюднии ритори и премудрии творцы грамотическим слогням и дивнии ветии… составиша… чюдныя… хвалы и песнословия… начальницы же и творцы красоты слова… всепречудныи… мнози предивнии. Чюдными и предивными сими творцы… объявлена суть» данная книга (Минея 1619, 4 об. – 6 и другие издания). В тех же выражениях писатели восхваляли свои сочинения: «Сказую же вам повесть дивну…» («Повесть об Улиянии», 284). Все это делалось, чтобы героям и событиям дивились сами читатели: «Бяше же по истинно чюдно видети яже по Бозе житие их»; «о дивьства дивнее таковое житие и аггелы чюдимо пребывание!» («Повесть о Димитрии», 839, 841); «всем дивитися разуму ея», «вси дивляхуся разуму ея» («Повесть об Улиянии», 277); «да кто о сем не почюдится?»; «дива слышание достойно» («История» 108, 191); «мы же сему бывшему делу писание предлагаем и предъидущий род воспоминанием удивляем» («Повесть книги сея», 622–623). Соответствующими эмоциональными оценками насыщалось повествование о героях или событиях отрицательных (например, в «Хронографе» 1617) и тоже для того, чтобы читатели разделяли авторские чувства: «смеху достойно сказание, плача же велико дело бысть», «кто же сему не посмеет ся безумию?» («История», 118). Авторы исходили из представления не вообще о благочестивых читателях, а о читателях душевно чутких, испытывающих благочестивые чувства.
И последнее. Читатели у писателей 1620-х – 1630-х годов представали тихими и мирными: наступило «любително исправление… еже бы вложити любовь в душу вашу» («Словеса», 530); «притецем любезно и воспоем умильно» («Повесть о мнисе», 873); «ныне же, отцы и братие, койждо нас… да пребудем в любви… милостыню и нищелюбие койждо нас да покажем… и во благоденьствии и в тишине поживем» («История», 247).
Столь явно выраженное в памятниках согласие писателей и читателей является косвенным подтверждением нашего предположения о том, что представление 1620-х – 1630-х годов о наступившем российском благополучии разделялось и верхами общества, и более широкими общественными слоями. В России тех лет господствовали настроения благонамеренности. Исследователи общественной мысли недаром отмечают, что с конца 1610-х годов «наступает некоторое затишье, связан ное, вероятно, как с утомлением страны… так и с иллюзиями, которые возникли с началом царствования Михаила Романова»; популярной стала обнадеживающая «мысль о необходимости справедливого правления, полного милостей и льгот», популярным стал «образ сказочного “укротевшего” царя… близкий и понятный посадским и крестьянским массам, не освободившимся еще в это время от царистских иллюзий»24.
Но неужели источники 1620-х – 1630-х годов уже нигде и никогда не упоминали об общественных недостатках? Такие упоминания делались. Например, в конце 1610-х – начале 1620-х годов осуждалось неистребимое лихоимство: «конечно, все зло на ся привлекохом, от него же даже и доселе не исцелехом»; «се бо зло в нас и доныне всеми зримо деется, иже славы и богатства желают вскоре, без разсмотрения обогащаются неправдами… ко единому тщащимся, еже бы своя им влагалища вся лихвами изообильне исполнити» («Временник», 69, 122); «мнози убо мы и до днесь в скверне лихоимства живуще, и кабаками печемся, и граблением…» («История», 125); «зри ж и сего: и в приказех лукавии действують, ваше государьское и земское дело на корысть свою променяют, и многие мздою, надеяся на лукавыя понаровки, накупаются… оторые и прежде для своей корысти и тщеславия разоренье вере и попрежение вере чинили, те же и ныне ухищрением и за мзду понаровлением дерзновение имут, у православных крестьян последнее богатство всячески имат, тем жратвы своя простират. А иные, завидя на лукавых… мир продают немерным мъздоимством» (послание о мздоимстве, 190). Но подобные признания делались очень редко и лишь довольно рано, потом они потеряли обличительную остроту и исчезли. Например, в предисловии к «Слововещаниям» Иван Хворостинин жаловался: «Коея не приах беды? …многи скорби от владык, множайши ж от властей, тако ж и от церковник неученых, туне поставленых» (38). Однако тут он больше упрекал власти Смутного времени, чем власти, современные его сочинению. В официальные документы также изредка проникали довольно смутные обвинения: «в людех многую смуту чинил»; «…смущается ум и скудеет вера, потому что вожди ослепоша леностию и нерадением» (грамота 1632, 284; память 1636, 402).
По поводу единичности упоминаний неблагополучных явлений в 1620-е – 1630-е годы один из историков – Б. Ф. Поршнев – пишет: «Но историка обескураживает отсутствие прямых сведений в русских источниках о каком бы то ни было политическом кризисе в это время». И не без оснований предполагает, что в это время были произведены чистка, «систематическое истребление» неугодных документов25.
Но обратимся к произведениям менее подвластным цензуре. В двух «покаянных» стихах прямо говорилось об общероссийском неблагополучии:
…прелесть вражия…
прелстиша владомых и многоразумных началников
Руския державы,
ругающеся нашей православной вере.
…И ныне убо, братие, восплачем вси…
…и всем добродетелем потребление,
но и паче же православной вере посрамление
и от всех язык различных вер посмех и укоризна.
Слышат бо языци нашу неправду…
(«Покаянны» о Кремле и о Шеине, 146, 147)
Оба стиха записаны позже – в одном и том же сборнике третьей четверти XVII в., и больше открытых отрицательных высказываний о 1620-х – 1630-х годах не известно ни в «покаянных», ни в фольклоре. Скорее не столько чистка архивов тому виной, сколько преобладавшее в то время иное общественное настроение: ублаготворенность и надежда на крепнущее благополучие.
И все-таки если к произведениям присмотреться внимательнее, то можно заметить нередкие, но скупо выраженные несоответствия господствовавшему благополучному настроению. Например, в «Хронографе» редакции 1617 г. цитировался текст некоего письма, враждебного официальной точке зрения, и письмо сопровождалось такой оговоркой составителя «Хронографа»: «Се списание малое некто от мятежник написа, хулу и лож сказуя во истории сей… и мы писание не извергохом, зане во многых се неправое писание распростреся…» (1310). Однако здесь могли иметься в виду «мятежники» и согласные с ними «многие» люди предыдущего времени Смуты. Но вот более поздний документ, который снова предполагал наличие дерзких инакомыслящих и недовольных: «Аще ли ж нецыи малоумнии хотят рещи, яко не подобает согрешающих человек и непокоряющихся истине мирским казням подлагати и таковое повеление немилостиво наречет кто… Аще ли же нецыи не хотяще послушати пастырскаго словесе…» (грамота 1622, 250–251).
У авторов повестей 1620-х – 1630-х годов наряду с читателями благополучными также маячили читатели недовольные и недоверчивые. Авторы предусматривали это реальное обстоятельство: «Помышляю, егда како… не угодно явится писание мое во ушию вашею» («Повесть о Димитрии», 846); «яже во инех местех сложений оних сомнитися кто…» («Временник», 17); «аще ли нецыи слышаще и высоте словес дивящеся и не восхотят веровати… тии бо немощь человеческую помышляют и неприятно творят глаголемо о человецех» («Повесть об Улиянии», 323).
Историки действительно указывают на небезоблачность социально-политического горизонта России 1620-х – 1630-х годов, в частности на многочисленные «простонародные политические преступления конца 20-х – начала 30-х годов: “непригожие”, “неподобные” слова о царе или патриархе, сомнения в законности, “прирожденности” нынешнего царя или царевича…» – и вообще на «грозные беседы московского трудового люда»26. Какие-то неудовольствия отразились в факте составления сборников переписки Андрея Курбского с Иваном Грозным: «послание Курбского, обличавшее царский произвол, было близко общественно-политическим настроениям 20—30-х годов XVII в.»27.
Но любопытно, как авторы относились к неверящим, недовольным, ропщущим, провинившимся и тому подобным людям. Авторы с разной степенью настойчивости упрашивали таких читателей: «Молю же вас прилежно послушати, без всякого сумнениа, вне всякиа суетныя молвы себе сотворше»; «молю же вы, да не позазрите ми» («История» 227, 238); «и да никто же мя о сих словесы уловит иже о любославнем разделением…» («Временник», 56); «вы же, братие и отцы… не мните: ложно се… но… не лжу…» («Повесть об Улиянии», 309); «веру имите ми…» («Повесть о мнисе», 871). В официальных документах предписывалось, дабы власти со всевозможной мягкостью уговаривали несогласных и недовольных: «проповедуй… настой, понуди… обличи, запрети, умоли со всяким долготерпением и учением»; а неисправимо упрямых и деятельных, которых вроде бы нельзя «пощадевати же никако же», все-таки «смотрительно же повелеваем о таковех разсуждати» (грамота 1622, 252, 250). Подобные грамоты велено было читать всенародно с явной целью не обострять конфликты и с явной надеждой народ «в мале времени исправити». До поры до времени тучи народного недовольства не вставали сплошной наползающей стеной в относительно чистой панораме общественной уверенности в российском благополучии.
Но это еще не все. В «благополучных» памятниках 1620-х – 1630-х годов можно заметить еще одну особенность, которая оказывается чрезвычайно важной. Авторы повестей и официальных документов усиленно стали упоминать «простцов», «бедных и нищих и обидимых», «все народное множество», обязательно говорить об «убозих» и «простых человецех» («Соборное изложение», 403; «История», 125, 231; стихиры о ризе, 16; память 1636, 402 и др.). В официальных документах сочувственно объявлялись беды, например, «убогих работных людей» и осуждались насильства над ними: «а бедные люди от таких законопреступных людей бедне насилуеми и оскверняеми и порабощаеми бывают и ниоткуда ж избавления приемлют»; властям советовалось выслушивать «простую молву» (грамота 1622, 246, 247, 253)28. Авторы часто поминали заповедь «еже нища и убога помиловати»; они приветствовали «полагающа душу свою за овца стада его» (Минея 1619, 3 и другие издания).
Тема «простых» людей стала выделяться у авторов 1620-х – 1630-х годов и когда они вспоминали о прошлом. Так, автор «Повести об Улиянии Осорьиной» с удивительной регулярностью возвращался к одной и той же теме: во время Смуты Улияния «вдовами и сироты печашеся и бедным ко всем помогаше… даяше нищим милостыню…» (280); автор ставил в образец постоянство и безотказность помощи: помогая «убогим», Улияния «дойде же в последнюю нищету, яко ни единому зерну остатися в дому ея, и о том не смятеся… и не изнеможе нищетою» (281–282). Авраамий Палицын же в своей «Истории» не только обращал внимание на помощь бедным во время смуты («о бедных и нищих крепце промышляше… и таковых ради строений всенародных всем любезен бысть» – 104), но и ставил деяния «простцов» выше усилий «мудрых» бояр: «Похвалное же что содеяся, и то не урядством, но последнею простотою… В таковой простоте никто же никогда погибе… И зрят простцы мужа храбра и мудра нестроение… И по обычаю простоты немощнии бранию ударивше и похищают мудрых от рук лукавых… Немощных и бедных не нарицают овец, но львов, и не сирот, но господей… и в простоте забывше бегати, но извыкше врагов славно гоняти» (191–192).
Авторы 1620-х – 1630-х годов подчеркивали заслуги «простых» людей, обращаясь и к более отдаленному прошлому. Противопоставление «простых» людей знатным отмечено, например, в «Есиповской летописи»29. О Ермаке говорилось так: «Избра Бог и посла не от славных муж, ни царска повеления воевод… но от простых людей избра бог и вооружи славою и ратоборством и волностию атамана Ермака Тимофеева сына Поволскаго и со единомысленною и предоброю дружиною» (164–165, ср. 122–124).
«Бедные» люди специально упоминались и в сочинениях о вымышленных царствах: вельможи «обиды творили, а на силных бедным и беспомощным управы не давали…» («Сказание о Петре Волосском», 348)30.
Внимание писателей 1620-х – 1630-х годов к людям «простым» и «бедным» объяснимо по крайней мере двумя причинами. С одной стороны, некоторые писатели, пережившие Смутное время, отдавали должное, как мы сказали бы сейчас, роли народа и искренне жалели народ. Однако так было, пожалуй, только в конце 1610-х – начале 1620-х годов, например у Авраамия Палицына. С другой же стороны, похвалы «простым» людям затем вовсе не стали популярными; советы оказывать вспомоществование бедным стали настойчивее, но суше, как, например, в «Повести об Улиянии Осорьиной»; забота о «простых человецех» диктовалась желанием искоренить в них «велик соблазн», как, например, в патриаршей памяти 1636 г.; и поэтому Семен Шаховской настаивал, чтобы писатели шли навстречу «простцам»: «наития же святых и мучения и доблести их ясно да сказуются, яко же и не книжным мочно и простым глаголемая внимати» («Повесть о Димитрии», 846). Внимание писателей к «простцам» поддерживалось уже не искренним, глубоким сочувствием, а чем-то иным. Какая-то вынужденность ощущается в этих упоминаниях о «бедных» и «простых» людях.
У нас мало материала, чтобы явственно убедиться в принужденности внимания авторов первой половины 1620-х – 1630-х годов к пресловутым «убогим» людям. Но тогда посмотрим, как авторы относились к читательской массе, куда входили также и «бедные» и «убогие». Отношение писателей к читателям стало небывало предупредительным. Авторы обильно предупреждали читателей о тематике произведений: подробнейшие оглавления или сжатое изложение содержания предшествовали сочинениям. Четко обозначалось начало сочинения: «сему же сказанию начало сицево…» («История», 101); «время уже есть к повести приближитися» («Повесть о Димитрии», 845); «яко же зде явственно повесть предложити вам хощу» («Повесть о мнисе», 858). Текст сочинений дробился авторами на небольшие части со своими подзаголовками, и почти каждый автор в каждом отрывке предварительно называл читателям «дело, о нем же ныне слово предложити хощу» («Хронограф» 1617, 1293), «о нем хощу словеса рещи» («Повесть о Димитрии», 847), «о сем убо ныне нам слово предлежит» («История», 203), «сие дело», которое «настоит… с великим изобилованием начинати» («Житие Димитрия», 890) и т. д. и т. п. Очень часто подчеркивалось: «чти», «зри», «виждь», «чтый да разумеет». Внутри изложения следовали постоянные перекрестные отсылки. О том, что будет сказано после: «О прочем же о всем впреди писано», «о нем же впреди реченно будет» («Хронограф» 1617, 1276, 1282); «о сем пространнее впреди слово», «о нем же множае предъидый слово скажет» («Временник», 16, 18 и др.); «въпреди слово изъявит», «последи объявлено будет» («История», 187, 205 и др.); «о них же в конце книжицы сея написано суть» (Азбука 1637, 2 об.). Постоянны были напоминания читателям и о сказанном раньше: «…яко же и выше рехом» (Азбука 1637, 6); «яко же и прежде рехом» («Сказание» о книгопечатании, 201). Необычайно часто авторы исправляли ход своего изложения и напоминали о возврате к главной теме: «Мы же к первым словесем начатое навершити нудимся, от иде же стахом» («Временник», 51 и др.); «сие же дозде: не убо о нем повесть сказуется» («История», 211 и др.); «оставим же сия и возвратимся на первая» («Повесть книги сея», 580 и др.); «о сих убо зде да станем и паки на первословную вину возвратимся» («Повесть о Димитрии», 850); «зде да станем и паки о настоящем побеседуем» («Повесть о мнисе», 870); «сия же до зде прекратим, настоящее да глаголется» («Житие Димитрия», 895). Четко отмечался и конец сочинения или его частей: «сему писанию конец предлагаем… словеса писанию превосходят в конец» («Повесть книги сея», 619); «словеса же вещающая достизают конца» («Житие Димитрия», 884). Авторы проявляли необыкновенную заботу о том, чтобы читатели не запутались.
Забота писателей об удобствах читательского восприятия вначале проявлялась многогранно. Так, Иван Тимофеев хотел даже, чтобы читатели получали от излагаемого впечатление, будто всё в жизни увидено ими самими: «чтущим познается, елицы сего в жизни зрети и о нем слышати не получиша» («Временник», 74). Но, чтобы впечатления и знания приобретались без непосильного труда, Иван Тимофеев давал читателям передышку: «И нам убо в далных словес путишествие естества немощию утружшимся и, яко в небурне пристанище мало отдохнутие приимше… подщимся, в прямный путь устремившеся» (15). Иван Тимофеев предоставлял право читателям самим перекраивать композицию «Временника», как им удобно: «еже не по ряду или месте своем чему вписатися… елико кто ускорит, ли по своему хто чину хощет изрядно уставити, – власть имат от своея воли…» (17–18). Задумывался автор и об использовании сравнений для более удобного восприятия изложения читателями: «Се чтущим ото образа вещи свойство ея знатно есть» (13). Сам необычный язык «Временника», быть может, воплощал авторскую попытку (неудачную!) по-новому рассказать читателям о Смуте.
И Авраамий Палицын тоже думал, «како рещи» поудобнее для читателей: «Но не вемы убо како рещи… но колико познаваем, сиа о том и сплетаем» («История», 206). Авраамий Палицын старался не удлинять главы и эпизоды, заботясь о памяти читателей и слушателей: «Их же немощно исписати и изглаголати продолжениа ради немощных слуха к забытию» (110). Он вообще все время не терял из виду память читателей, современных и будущих: «История в память предидущим родом», «сие же изъясних писанием на память нам и предъидущим по нас родом» (101, 128 и др.). Авраамий Палицын приноравливал свою «историю» к читательской воле: «вы же… всякого чина христоименитыи людие, сию книжицу прочитающе, приимете, яко же хощете…» (249). Это была проникновенная забота о читателях и слушателях. Писателей интересовала не только психология изображаемых героев31, но и психология читателей. Потрясения Смутного времени побудили писателей следить за реакцией массы «простых» и «убогих» людей и за реакцией читательской массы.
Так было в конце 1610-х – начале 1620-х годов. Позже обходительность писателей по отношению к читателям исчезла. Частые обращения к читателям сохранились, но стали суше и формальнее. Краткое изложение или перерывы в изложении сопровождались теперь сухими отговорками: «…некоея ради настоящия вины, о ней же не у время ныне изрещи» («Сказание» о книгопечатании, 204); «не у время писати, токмо зде настоящее слово да рцем» (Азбука 1634, 5 послесловия). Надежды на благодарную читательскую память омрачились теперь каким-то разочарованием:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































