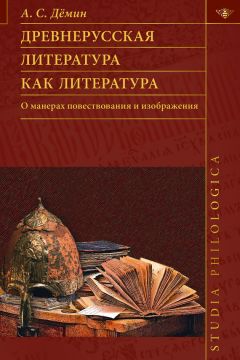
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 38 страниц)
Чувство потрясения у летописца от ночных событий постоянно порождало представления о световых контрастах. Так, под 1091 г. летописец рассказал о раскопках мощей Феодосия Печерского; была изображена летописцем целая ночная иллюминация, своего рода извещение о находке мощей, далеко видимое персонажами: в августе «до полуночья… 2 брата в манастыри… видеста 3 столпы, ако дугы зарны, и, стоявше, придоша надъ верхъ церкве, идеже положенъ бысть Феодосии»; другие два зрителя вдалеке от монастыря ночью «виде чрес поле зарю велику надъ печерою», а когда приблизились к монастырю, «видеста свеще многы надъ печерою», – и тут вдруг последовало эффектное исчезновение света: «придоста к печере и не видеста ничто же» (201–211). Летописец лично участвовал в тайной ночной эксгумации тела Феодосия Печерского и помнил, какое чувство он испытал («обдержашеть мя ужасть»). По-видимому, от «ужасти» летописцу привидилась впечатляющая иллюминация той ночи.
Если же летописец с опасением рассказывал о ночной деятельности бесов, то такая ночь представлялась и совсем фантасмагорической. Например, под 1074 г. летописец описал, как киево-печерскому монаху Исакию глубокой ночью «внезапу свет восья, яко от солнца, восья в печере, яко зракъ вынимая человеку» (192). Этот ослепляющий свет ассоциировался у летописца не только с сиянием солнца, но и с казнью ослепления (ср. фразу о реальной казни под 1097 г.: «взялъ еси зракъ очью моею» – 270). «Картинку» летописец усилил световым контрастом до предела: ведь Исакий «затворися в печере… въ кельици мале, яко четырь лакотъ», где мог только сидеть, а не лежать; сидел в тишине и в абсолютной темноте в полночь, к тому же «и свещю угасившю»; тут-то в полной тьме ему внезапно воссиял болезненно ослепительный свет, и каким-то образом по пещерке «поидоста 2 уноши к нему красна, и блистаста лице ею, аки солнце». Представление о пещерке, залитой ярчайшим светом, появилось у летописца благодаря ощущению ошеломительности той ночи (ведь даже богомольный Исакий от растерянности «не разуме бесовьскаго деиства, ни памяти прекреститися»).
В общем, от ночи летописец не ожидал ничего кроме беспокойств и переживаний.
Следующий объект окружающей среды, изображаемый в летописи, – это небо, дневное небо (а не ночное небо и не божественные небеса). Оно, в представлении летописца, содержало вещественные предметы, до поры невидимые, которые вдруг падали сверху на землю. Например, под 1091 г. летописец сообщил: «спаде превеликъ змии отъ небесе, и ужасошася вси людье; в се же время земля стукну, яко мнози слышаша» (214). Видимо, упал метеорит. Но летописец не уточнил, что то был змей огненный или дымный. Существо это представилось вполне телесным, весомым, скрытым на небе и внезапно, вызывая ужас, с грохотом обрушившимся на землю. Страшно, оттого и изобразительно.
Ощущение пугающей удивительности неба не раз вело летописца к представлению о странных явлениях. Так, под 1114 г. (в третьей редакции летописи)5 летописец рассказал о выпадении из туч не только массы бусинок, но даже множества маленьких белок и оленей – живых и разбегающихся по земле («егда будеть туча велика, находять … глазкы стекляныи, и малыи [и] великыи, провертаны… Спаде туча, и в тои туче спаде веверица млада, акы топерво рожена… и расходится по земли. И пакы бываеть другая туча, и спадають оленци мали в неи … и расходятся по земли» – 277). Летописец слышал этот рассказ от очевидцев-ладожан, но пересказал с изобразительными деталями, потому что поражался материальной плодовитости туч («сему же ми ся дивлящю»).
Мотив падения предметов с неба был очень древним. Он встречался уже в Ветхом и Новом заветах: с неба на землю падали, например, камни и хлеб. Летописец выписал из «Хронографа» подходящие сведения о падении с неба съедобной пшеницы, серебряных вещей, трех громадных камней и железных клещей (третья редакция, 278, под 1114 г.). Так что в данном случае летописец продолжил литературную традицию.
Кроме того, летописец представил что-то вроде материальных предметов, не падавших, но как бы висевших в небе или в воздухе над персонажами: вырисовывался тот же змей («знаменье змиево явися на небеси, яко видети всеи земли» – 149, под 1028 г.); нависали кресты («мнози человеци благовернии видеша крестъ над … вои, възвышься велми» – 270, под 1097 г.); над земными воинами парили небесные войска («ездяху верху васъ въ оружьи светле и страшни» – третья редакция, 268, под 1111 г.).
И этот мотив нависания был тоже древним и традиционным, на что указывают, в частности, многочисленные выписки летописца из «Хроники» Георгия Амартола (например, о конном войске, рыщущем «на вздусе» – 164, под 1065 г.). Небо у летописца, вслед за его предшественниками, представало средой отнюдь не пустой, но даже богатой разнообразными телесными предметами и существами, словно некое загадочное хранилище, иногда что-то выбрасывающее на землю. Ощущение таинственности неба выражалось у летописца еще и в описаниях небесных знамений с солнцем, представлявших интригующие световые фигуры.
Даже сравнительно небольшой обзор некоторых летописных «картинок» окружающей среды позволяет утверждать, что изобразительность, пусть в зачаточном, неразвернутом, неотчетливом виде (обычно в форме застывших «картинок»), была свойственна древнерусской литературе с самого начала ее существования. «Повесть временных лет», действительно, можно считать предтечей художественной литературы. Порождали картинность летописного изложения авторские ощущения загадочности событий, но чаще – чувства опасности и страшности окружающего мира. Экспрессия – мать образа. Видимо, в начале ХII в. историческая действительность вокруг летописца была вовсе не умиротворяющей, а напротив, чрезвычайно драматичной. Недаром в написанном почти одновременно с летописью «Поучении» Владимир Мономах так много места посвятил темам беспокойств и опасностей. «Золотого века» не было.
Другие произведения ХII–ХIII вв.
В течение ХII в. объекты окружающей среды редко когда упоминались авторами, включая поучения плодовитого проповедника Кирилла Туровского. Даже в знаменитом описании весны в «Слове по пасце» Кирилл, в сущности, нарисовал не картину окружающей среды вокруг человека, а мыслил человека как рядовой элемент картины природы наряду с другими ее элементами. В «Слове о раслабленемь» Кирилл хоть и представил человека пользователем дарами природы, но логически, без какой-либо «картинки». Вот и всё.
На материале немногих произведений ХII в., все-таки содержавших «картинки» окружающей среды, не выстраивается связной истории развития изобразительности и писательских настроений. Можно лишь предположить, что начали ухудшаться настроения писателей, иногда все же затрагивавших мотивы бытовой окружающей среды. Так, например, если благостный игумен Даниил в своем «Хождении», пожалуй, поровну выражал ощущения («чюдно» или «страшно») об удобстве или неудобстве виденных им мест для обитания, то затем в сумрачном «Молении Даниила Заточника» объекты окружающей среды совсем захирели: углы у дома завалились, трава растет чахлая, идет пронзительный дождь, река с каменными берегами – нельзя напиться, даже птица поет уродливо и надоедливо.
Любопытный случай: в «Киевскую летопись» под 1161 г. было вставлено необычно подробное описание лунного затмения, очевидцем которого, возможно, был сам летописец (хотя этого он прямо не утверждает). Описание луны содержит яркую художественную деталь: «посреде ея, яко два ратьная секущеся мечема; и одиному ею, яко кровь, идяше изъ главы, а другому бело, акы млеко, течаше» (516)6. Двух сражающихся воинов на луне различил летописец под влиянием его постоянных интересов – описывать бесконечные сражения и стычки. Ср., как в той же «воинской» манере летописец рассказал о буре под 1143 г.: «бысть буря велика … и розноси хоромы, и товаръ, и клети, и жито из гуменъ, – и спроста рещи, яко рать взяла» (314).
Но вот откуда у летописца взялся цвет в характеристике двух воображаемых «лунных» воинов? Скорее всего, как продолжение цветового описания затмения луны: «бысть образъ ея, яко скудно черно; и пакы бысть, яко кровава; и потом бысть, яко две лици, имущи одино зелено, а другое желто». Такая цветовая картина совершенно нетрадиционна. И главное – предполагает некую борьбу луны с болезнью: поэтому меняются ее лица – почерневшие, окровавленные, позеленевшие, пожелтевшие. Одновременно на луне разворачивается сценка поединка между уже раненными в голову до крови или до мозга воинами. Все это, возможно, свидетельствует о том, что в данном случае цветовые явления на небе представлялись летописцу как признаки больного или страдающего неба, ведь «идяше бо луна через все небо». Такое представление появилось, конечно, благодаря эмоции летописца: «бысть знамение в луне страшно и дивно».
К сожалению, в «Киевской летописи» больше нет цветовых картин небесных явлений, но есть огненные: «солнце бо погибе, а небо погоре облакы огнезарными» (655, под 1167 г.); «летящю по небеси до земля, яко кругу огнену, и остася по следу его знамения въ образе змья великаго» (314, под 1144 г.), – эпизодические мотивы пожара и агрессии, по-видимому, тоже выражали у летописца смутное представление о болезненности неба как части неблагополучного мира.
Но прошло два-три десятилетия, и появилось иное, оптимистическое по авторскому настроению «Слово о полку Игореве», судя по авторскому представлению об окружающей среде. Нужно учесть, что природа в «Слове» служила не столько средой, окружающей человека, сколько символом тех или иных обстоятельств. Однако как попутная тема собственно изображение окружающей среды все-таки присутствовало в «Слове».
Окружающая среда, то есть природа, в «Слове» была изображена автором в двух основных видах. Первый вид: вводя персонажей в повествование, автор «Слова» представлял героя перед уходящей вдаль объемной перспективой и тут же показывал его двигающимся в этом пространственном объеме. Например, Боян «растекашется мыслию по древу, серымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ подъ облакы … пущашеть 10 соколовъ на стадо лебедеи … скача, славию по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы … рища въ тропу Трояню чресъ поля на горы» (43–44). Здесь символическая характеристика пения Бояна имела попутный изобразительный смысл. Глаголы «растекаться», «пускать», «скакать», «летать», «рыскать» обозначали передвижение в земном и воздушном пространстве то ли самого Бояна, то ли мысли Бояна или распространение его пения. Так вырисовывалась некая объемно-пространственная, почти бесконечная перспектива, где никто никому не мешал «растекаться». Это свойство окружающей среды в «Слове» уже заметил Д. С. Лихачев и назвал его «панорамным зрением» и «быстротой передвижения в больших географических пространствах»8.
Но чем объяснить подобную «картинку» у автора «Слова»? Общая ссылка на распространенный тогда (по терминологии Д. С. Лихачева) «стиль исторического монументализма» не дает ответа на вопрос о том, почему же в данном конкретном случае автор «Слова» представил Бояна в широкой пространственной перспективе. Какой-либо литературной традиции здесь не прослеживается. На «картинку» окружающей среды с Бояном, скорее всего, повлияло ощущение автора «Слова», для которого Боян выглядел свободным в своих действиях человеком: он ведь был «вещим», и в своих «припевках» выносил нелицеприятные приговоры князьям, и, конечно, двигался свободно.
Возможно, и вообще певцов автор ощущал раскованными. В «Слове» есть еще один в некотором роде певец – это Ярославна, которая «кычеть» и перед которой расстилается тоже обширная объемная перспектива. С городской стены Ярославна собирается полететь по Дунаю, она видит облака над синим морем, и каменные горы, и ковыль в степи, и ослепительное солнце над далеким иссушенным полем и пр. «Картинка» просторной окружающей среды, вероятно, тоже была связана у автора с ощущением свободности Ярославны, которая безбоязненно обращается к мощным силам природы – ветру, Днепру, солнцу.
Это ощущение свободности певцов, возможно, зависело от социального самоощущения самого автора «Слова». Вот кто чувствовал себя свободным и всепроникающим: перед ним вся Русская земля и зарубежная степь; автор «Слова» свободно и без экивоков, напрямую, обращался к влиятельным князьям; намеревался свободно оценивать исторических деятелей («отъ стараго Владимера до нынешняго Игоря» – 44); легко допускал, что можно следовать Бояну («начяти старыми словесы»), а можно и не следовать («не по замышлению Бояню» – 43), можно цитировать Бояна, а можно менять стиль. Предполагаем, что ощущение своей свободы автор «Слова» перенес на героев и на окружающую их объемную среду.
Но, пожалуй, преобладал в «Слове» второй вид изображения окружающей природы – не объемной, а, так сказать, линейной, стремительно стелющейся по земле вокруг или вдаль. Такой средой автор обычно сопровождал князей и их воинов. Например, великий князь киевский Святослав Всеволодович стремительно, как вихрь, «наступи на землю половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рекы и озеры, иссуши потоки и болота. А поганаго Кобяка изъ луку моря, яко вихръ, выторже» (50), – почти все движется понизу. При более медленном, но опять-таки беспрепятственном передвижении князя с войском автор «Слова» включал и животных в окружающую среду: когда «Игорь къ Дону вои ведетъ», то присутствует множество «птиць по дубию, влъци грозу въсрожатъ по яругамъ, орли клектомъ на кости звери зовутъ, лисици брешутъ на чръленыя щиты» (46). Взбудораженных животных или части ландшафта автор «Слова» выстраивал преимущественно в горизонтальный ряд по пути свободного следования героев.
Нужно сказать, что у автора «Слова» не проводилось резкого различия между «картинками» объемной или горизонтальной окружающей среды. Иногда природа сопровождала персонажей только сверху, но затем переходила только на низ. Так, войско Игоря как бы нагоняет природа сверху: «кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ нихъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому, итти дождю стрелами» (47). Но тут же ландшафт подстилается под Игоревы полки: «Земля тутнетъ, рекы мутно текуть, пороси поля прикрываютъ».
Главное заключалось в другом: регулярное повторение как линейных, так и объемных или смешанных, линейно-объемных «картинок» представлений о «дальнозримости» окружающей среды в повести объясняется предполагаемым ощущением пространственно-социальной свободы у автора «Слова». Правда о своем эмоциональном мироощущении свободы действий автор нигде не сказал прямо, но все же, как нам кажется, не раз выразил его косвенно. Автор был вездесущ: он вникал в пространственное положение персонажей, как бы наблюдая за их удаляющимся передвижением (повторяя восклицания: «о, Руская земля! Уже за шеломянемъ еси!» – 46, 47; «хороброе гнездо… далече залетело», «о, далече заиде соколъ..!», «ти прелетети издалеча» – 47, 49, 51); автор как бы лично слышал, что происходит («что ми шумить, что ми звенить далече..?» – 48); автор свободно проникал в душу князей (Игорь «истягну умь крепостию своею, и поостри сердца своего мужествомъ, наплънився ратнаго духа… Спала князю умь похоти» и пр. – 44; «жаль бо ему мила брата» – 48–49; «Игорь мыслию поля меритъ» – 55; Яр-Тур Всеволод в битве «забывъ чти, и живота … и своя милыя хоти» – 48; у Всеслава «веща душа въ дръзе теле» – 54).
Авторское ощущение свободы, возможно, сказалось и в одном из последних описаний окружающей среды в «Слове»: «О, Донче!.. лелеявшу князя на влънахъ, стлавшу ему зелену траву на своихъ сребреныхъ брезехъ, одевавшу его теплыми мъглами под сению зелену древу. Стрежаше è гоголемъ на воде, чаицами на струяхъ, чрьнядьми на ветрехъ» (55). В этом описании (если ранее в тексте не произошло перестановки фраз), в сущности, следуют два изображения. Первое – линейное, земное: волны – серебряные берега – зеленая трава – зеленое древо – тень под ним. Обозначен свободный путь Игоря. Второе изображение – объемное – отражает торжественную встречу Игоря природой. В представлении об умиротворенной окружающей среде, по-видимому, выразилось у автора «Слова» ощущение облегчения и своей душевной свободы: «страны ради, гради весели» (56).
Если верна наша предположительная трактовка умонастроения автора «Слова о полку Игореве», то это может означать, что представления об окружающей среде в памятнике и ощущения автора соответствовали более позднему времени после поражения Игоря, а именно самому концу ХII в., когда уместно стало говорить о череде побед русских над половцами и о беспрепятственности передвижения русских по чужой земле. Так, в «Киевской летописи» под 1193 г. рассказывалось о том, как будущий великий князь киевский Ростислав Рюрикович «победивъ половеци славою великою» (678). В так называемой «ВладимироСуздальской летописи» под 1199 г. упоминался победоносный поход великого князя владимирского Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на половцев, причем в рассказе появился мотив легкого передвижения по земле половцев: «князь же великыи ходивъ по зимовищемъ ихъ и прочее възле Донъ, онемъ безбожным пробегшим прочь» (414)9. А в «Галицко-Волынской летописи» под 1201 г. мотив быстрого передвижения по земле половцев уже стал художественным: галицкий князь Роман Мстиславович «устремих бо ся бяше на поганыя, яко и левъ … и прехожаше землю ихъ, яко и орелъ» (236)10.
Отзвук этого ощущения пространственной свободы, возможно, находим в речи игумена Моисея в «Киевской летописи» под 1199 г. (люди «мняться, яко аера достигше … яко златомъ власомъ поверзена есть церкви от небесе» – 714, 715); и еще: в самом начале другого произведения – в «Слове о погибели Русской земли» – упомянут просторный ландшафт вокруг городов с князьями, боярами и вельможами – озера, реки, источники, горы, холмы, дубравы, поля и пр. Но это благополучие, как можно понять, существовало, пока не разразилась некая «болезнь» христианам.
Таким образом, художественным настроением автора «Слова», пожалуй, подтверждаются мнения тех исследователей, которые на основании исторических данных относят время создания «Слова о полку Игореве» к самому концу ХII – началу ХIII в. (Н. С. Демкова, Б. И. Яценко, А. Н. Ужанков)11. «Слово о полку Игореве», несмотря на его символичность, стало в древности самой яркой предтечей свободолюбивой художественной литературы, за что мы его так ценим.
Перейдем к беглой характеристике ХIII в. В литературе ХIII в. изображение окружающей среды очень обеднело и в некоторых произведениях прямолинейно (но патриотично) разделилось на тесную среду вокруг врагов и просторную среду вокруг русских людей. Так, в «Галицко-Волынской летописи» этот принцип разделения был даже сформулирован: «крестьяномъ пространьство есть крепость, поганым же есть теснота» (318, под 1251 г.). И действительно, польский город Калиш, который пыталось взять русское войско, был изображен летописцем как утесненный природой: «бе бо городъ обишла вода, и сильная лозина, и вербье, и не сведущимся самемь, идеже кто биаше» (270, под 1229 г.). Представление о тесноте касалось и других врагов: «собрашася вси ятвязе … мнози зело, яко и лесомъ ихъ наполълнитися» (316, под 1251 г.). Представление о тесноте распространялось даже на мертвых врагов: например, литовцы «тако погрязаху… и нагряже озеро труповъ, и щитовъ, и шеломовъ» (342, под 1258 г.). Даже враждебное для русского войска знамение в небе представлялось тесным: «и бывшу знамению сице надъ полкомъ сице: пришедшимъ орломъ и многимъ ворономъ, яко оболоку велику» (308, под 1249 г.).
Напротив, местность, обозреваемая русскими персонажами в отсутствие врагов, отличалась просторностью: «виде место красно и лесно на горе, обьходящу округъ его полю» (344, под 1259 г.); «осмотреша, оже нетуть рати, но пáря идяшеть со истоковъ, текущихъ из горъ, зане морозе бяхуть велице» (368, под 1274 г.).
Все отмеченные мотивы в «Галицко-Волынской летописи», как правило, были мимолетными, пространственные представления неотчетливыми, излагались они летописцем, возможно, с ориентацией на традиции ХII в., но почти что без эмоций.
В противоположность тому север стал мрачнее юга, и в так называемой «Владимиро-Суздальской летописи» единичные и краткие зримые «картинки» окружающей среды относились только к катастрофам или мистическим явлениям, в которых уже именно русские люди представлялись утесненными и растерянными (например, засуха с пожарами: «мнози борове и болота загорахуся, и дымове силни бяху, яко недалече бе видети человекомъ» и пр. – 447, под 1223 г.; видение: «и виде насадъ единъ гребущь … гребци же седяху, аки мглою одени» – 479, под 1283 г., это «Житие Александра Невского», включенное в летопись; затмение: «всем зрящим бывшю солнцю месяцемъ, явишася столпове черлени, зелени, синии оба полы солнца, таче сниде огнь с небеси, аки облак велии … людямъ всем отчаявшимъся своего житья, мняще уже кончину сущю» и т. д. – 455, под 1230 г. Однако сами авторы не проявляли впечатлительности и оставались спокойными.
Все эти мелкие «картинки» можно причислять лишь к рассеянным в памятниках ХIII в. слабым «искоркам» изобразительности, а не к заметным предтечам художественной литературы.
В заключение, можно вспомнить о полупереводном «Сказании об Индийском царстве» (второй редакции), в котором, казалось бы, должно быть много «картинок» окружающей среды. На самом же деле здесь таких «картинок» нет, а есть лишь множество локальных предметных мотивов или фантастических сюжетов, изобразительность которых достигалась за счет их нелепости или гиперболичности. Например, человеку невозможно дойти до границы Индийского царства, так как там смыкается небо с землею; невозможно увидеть вершины гор – настолько они высоки; в этом царстве волнуется непреодолимое песочное море и течет подземная река с драгоценными каменьями; в горах по многим местам пылает огонь, в котором живут черви, а женщины этим огнем очищают загрязнившиеся одежды и т. д. и т. п. Подобное далекое царство, несмотря на его хаотические богатства и чудеса, ощущалось неуютным и даже подавляющим человека.
В итоге нашего (конечно же, очень неполного) обзора соответствующих «картинок» и авторских умонастроений надо признать, что в течение ХII–ХIII вв. изобразительность «экологических» тем в древнерусской литературе неуклонно беднела. Заботы авторов становились другими, суровыми, – начальный путь к художественной литературе не отличался ни предначертанностью, ни силой, ни простотой, ни быстротой, он был стихийным, но не исчезающим.
Примечания
Все цитаты из древнерусских текстов приводятся с упрощением орфографии. Страницы или столбцы изданий памятников указываются в скобках в самой работе.
1 «Повесть временных лет» второй редакции цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Явно испорченные чтения Лаврентьевского списка исправляются по другим спискам.
2 См.: Лихачев Д. С. Комментарии // Повесть временных лет. 2-е изд., испр. и доп. М., 1996. С. 536.
3 См.: Лихачев Д. С. Комментарии. С. 428–429; Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 70–71.
4 Успенский сборник ХII–ХIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971.
5 Третья редакция «Повести временных лет» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.
6 «Киевская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов.
7 «Слово о полку Игореве» цитируется по изданию: Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967.
8 Лихачев Д. С. «Слово о полку Игореве» и культура его времени. 2-е изд., доп. М., 1985. С. 40–42, 51.
9 «Владимиро-Суздальская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 1.
10 «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПЛДР: ХIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981.
11 Кстати, именно под 1190 г. «Киевская летопись» сообщила об аналогичном, вовсе не осуждаемом побеге галицкого князя Владимира Ярославовича из венгерского плена с помощью двух венгров («онъ же изрезавъ шатеръ, и свисобе ужище, и свесися оттуду доловь от сторожии же его, – бяста ему два во приязнь» – 666).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































