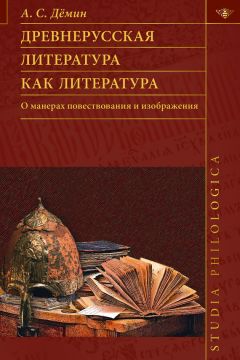
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 38 страниц)
Вариации очень старой традиции находим в «Волоколамском патерике»22: больному монаху ночью, но не во сне, а наяву явился «мужь светелъ» – мученик Никита Готский, – но не сообщил, как обычно, когда благочестивый болящий умрет, а, напротив, пообещал монаху еще 25 лет жизни за то, что тот не лечился у «чародеев» (85–86). Никита «язде на коне», кроме того этот «мужь светелъ» появился в контрастном сопровождении «человека черна зело», летящего на коне и пытавшегося огненным мечом «посещи» монаха. Но все эти детали ничего принципиально нового не прибавляли к традиционному представлению о предвидении будущего святыми, внося лишь некоторую драматичность в рассказ, что и являлось некоторой новацией.
Прочие предсказания в оригинальных произведениях ХVI в. еще менее интересны. Например, в «Истории о Казанском царстве» предсказания о скором взятии Казани Иваном Грозным повторялись однообразно и не выходили за пределы формальной традиции.
В целом, бедность предсказаний в произведениях ХVI в не позволяет пока сделать решительный вывод о преобладавшем однообразии литературы этого периода, хотя такое впечатление все-таки складывается.
Вопреки ожиданиям богатая и пестрая литература ХVII в. (если брать непереводные произведения) демонстрирует почти полное забвение предсказаний. Из тех же предсказаний, что все-таки упоминаются, почти все традиционны, кратки и случайны. Любопытна только «Повесть о Горе-Злочастии»23. Горе-Злочастие предсказало Молодцу:
Быть тебе от невесты истравлену,
еще быть тебе от тое жены удавлену,
из злата и сребра бысть убитому (429 об.).
Здесь обращают внимание три фактора. Во-первых, предсказывать пыталось некое уродливое, даже нечеловеческое существо. Так продолжилась сравнительно новая традиция представлять именно ущербных персонажей (от больных до мертвых) способными предвидеть будущее.
Особенность Горя-Злочастия в том, что это не то чтобы сама Смерть (хотя «Горе пришло с косою вострою», но не как смерть, а как косарь – 433), а злодейское существо, помогающее насильственной Смерти (отсюда его постоянные похвальбы и угрозы: «люди… до смерти со мною боролися… они во гробъ вселилис, от мене накрепко они землею накрылис» – 429; «до смерти с тобою помучуся» – 432 об.; «умереть будетъ напрасною смертию… Горе… научаетъ… чтобы молотца за то повесили или с каменемъ въ воду посадили» – 433 об.). И все же знаменателен для ассоциации Горя со Смертью эпитет, прилагаемый к Горю, – «неминучее» («а что видит молодец неменучюю, покорился Горю нечистому, поклонился Горю до сыры земли» – 431 об.).
Второй фактор, который обращает на себя внимание: все предсказания и советы Горя молодцу – лживые, насмешливые, вредительские, что соответствует давней традиции обличать вредоносность предсказаний отрицательных персонажей. Но один раз Горе, действительно, помогло молодцу, когда он пожаловался: «Ахти мне, Злочастие горинское… уморило меня, молотца, смертью голодною… Ино кинус я, молодецъ в быстру реку» (430 об.). Горе его отговаривало («и не мечися в быстру реку» – 431) и успокоительно предсказало:
И ты будешъ перевезенъ за быструю реку,
напоятъ тя, накоръмят люди добрыя (431 об.).
И это предсказание сбылось! Но не потому, что Горе пожалело молодца, а потому что, по его мнению, оно завербовало себе сторонника или слугу («того выучю я, Горе злочастное… Покорися мне, Горю нечистому» – 431). Но, когда молодец попытался отделаться от Горя, игра со смертью возобновилась.
Третий уже совсем необычный фактор в предсказаниях Горя: все его предсказания и советы о будущем – сугубо бытовые (ср. и далее: «Быть тебе, травонка, посеченои… Быть тебе, рыбонке, у бережку уловленои, быть тебе да и съеденои» – 433–433 об.).
Отмеченные особенности предсказаний «Повести о Горе-Злочастии» независимо от «Повести» с той или иной степенью сходства повторялись в древнерусской литературе второй половины ХVII в. Так, в «Житии» Аввакума24 возник ущербный тип предсказателя – волхв (на этот раз сибирский), – карикатурно связанный со смертью, но уже не человека, а барана («волъхвъ же той, мужикъ… привел барана живова в вечеръ и учалъ над нимъ волъхвовать, вертя ево много, и голову прочь отвертелъ и прочь отбросилъ» и т. д. – 370). Предсказание волхва-шамана отряду русских казаков, конечно, оказалось ложным («с победою великою и с богатъствомъ большим будете назадъ» – вместо этого «войско… побили, все, без остатку» – 370, 372).
Если нечистая сила и помогала герою произведения, то имея свой интерес, как например, бес помогал Савве Грудцыну за его душу в продвижении по службе в «Повести о Савве Грудцыне».
Сугубо бытовой характер предсказанного будущего, видимо, также стал обычен в литературе второй половины ХVII в. Так, в «Житии Варлаама Керетского»25, от которого ждать каких-либо новаций не приходится, встречается следующее «чюдо»: лодью некоего купца затерло во льдах; во сне купцу явился святой Варлаам и завел разговор, как простой встречный («далече ли путь вашъ, братие?» – 308); затем предсказал: «Богъ дастъ вамъ путь чистъ»; и, что наиболее интересно, сам, как простой матрос, «начат лды роспихивати». Купец проснулся и увидел уже наяву: «бысть яко дорога сквозе льда».
В общем, если ограничиваться предсказаниями, литература ХVII в., конечно же, отличалась от литературы ХVI в. большим разнообразием и большей смелостью в обновлении традиций.
Цельная же (но предварительная) картина эволюции предсказаний в древнерусской литературе ХIII–ХVII вв. свидетельствует о своего рода плавности в соотношении явлений однообразия и разнообразия: оба процесса развивались, не слишком опережая друг друга.
Примечания
1 Под летописцем мы подразумеваем всех составителей «Повести временных лет» вкупе, не проводя между ними различия. Летопись цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1997. Т. 1: Лаврентьевская летопись / Изд. подгот. Е. Ф. Карский. Столбцы указываются в скобках. Все древнерусские тексты здесь и далее передаются с упрощением орфографии.
2 См.: Шахматов А. А. «Повесть временных лет» и ее источники // ТОДРЛ. М.; Л., 1940. Т. 4. С. 41–61. См. также: Демин А. С. Поэтика древне русской литературы (ХI–ХIII вв.). М., 2009. С. 163–164. «Повесть временных лет» и «Хроника» Георгия Амартола.
3 «Хроника» Георгия Амартола цитируется по изданию: Истрин В. М. Книгы временьныя и образныя Георгия Мниха: Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Пг., 1920. Т. 1. Столбцы указываются в скобках.
4 О времени перевода см.: Мещерский Н. А. История Иудейской войны Иосифа Флавия в древнерусском переводе. М.; Л., 1958. С. 15, 97–121. Текст перевода «Истории Иудейской войны» цитируется по названной книге Н. А. Мещерского. Страницы указываются в скобках.
5 Н. А. Мещерский (с. 110–112) отметил стилистическое и фразеологическое сходство между «Повестью временных лет» под 1024, 1054, 1068–1071, 1073 гг. и переводом «Истории» Иосифа Флавия. Добавим, что еще есть явное фразеологическое сходство между «Повестью временных лет» под 971 г. (речи Святослава перед войском, 69, 70) и переводом «Истории» Флавия (речь иудейского царя Ирода I перед войском, 201–202), а также между летописью под 988 г. (описание болезни Владимира, 111) и переводом «Истории» Флавия (описание болезни иерусалимского царя Александра, 175); см. также сообщения о давании дани (летопись, 17, и «История», 252). Разумеется, речь может идти не о взаимозависимости двух текстов, а о их принадлежности к общему стилистическому фонду того времени.
6 «Сказание о Борисе и Глебе» и «Чтение о Борисе и Глебе» цитируются по изданию: Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Изд. подгот. Д. И. Абрамович. Пг., 1916. Страницы указываются в скобках.
7 «Житие Феодосия Печерского» цитируется по изданию: Успенский сборник ХII–ХIII вв. / Изд. подгот. О. А. Князевская, В. Г. Демьянов, М. В. Ляпон. М., 1971. Столбцы указываются в скобках.
8 «Киево-Печерский патерик» цитируется по изданию: ПЛДР: XII век / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1980. Страницы указываются в скобках.
9 См.: Демин А. С. Поэтика древнерусской литературы: (ХI–ХIII вв.). М., 2009. С. 15–38, 69–85, 113–136, 186–229.
10 См.: Истрин В. М. Александрия русских хронографов: Исследование и текст. М., 1893. С. 135, 139. Текст памятника цитируется по тому же изданию, по разделу «Приложения». Страницы указываются в скобках.
11 Летописная повесть цитируется по изданию: ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст памятника подгот. А. А. Шахматов. Столбцы указываются в скобках.
12 Слово о полку Игореве / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачев. Л., 1967. Страницы указываются в скобках.
13 О вставке см.: Соколова Л. В. К характеристике «Слова Даниила Заточника. (Реконструкция и интерпретация первоначального текста) // ТОДРЛ. СПб., 1993. С. 244, 247, 251. Текст вставки цитируется по названной работе, страница указывается в скобках.
14 «Житие Авраамия Смоленского» цитируется по изданию: ПЛДР: XIII век / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. Страница указывается в скобках.
15 «Галицко-Волынская летопись» цитируется по изданию: ПСРЛ. Т. 2. Столбцы указываются в скобках.
16 «Задонщина» цитируется по изданию: «Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла: к вопросу о времени написания «Слова» / Тексты памятника подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1966. Страницы указываются в скобках. За основу взят список Ундольского.
17 «Сказание о Мамаевом побоище» цитируется по изданию: Сказания и повести о Куликовской битве / Текст памятника Основной редакции подгот. В. П. Бударагин и Л. А. Дмитриев. Л., 1982. Страницы указываются в скобках.
18 «Житие Сергия Радонежского» цитируется по изданию: ПЛДР: ХIV – середина ХV века / Текст памятника подгот. Д. М. Буланин. М., 1981. Страницы указываются в скобках.
19 Первая редакция «Жития Михаила Клопского» цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина ХV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. М., 1982. Страницы указываются в скобках.
20 Рассказ о смерти Пафнутия Боровского цитируется по изданию: ПЛДР: Вторая половина ХV века / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Страницы указываются в скобках.
21 «Видение хутынского пономаря Тарасия» цитируется по изданию: ПЛДР: Конец ХV – вторая половина ХVI века / Текст памятника подгот. Р. П. Дмитриева. М., 1984. Страницы указываются в скобках.
22 «Волоколамский патерик» цитируется по изданию: Древнерусские патерики / Изд. подгот. Л. А. Ольшевская и С. Н. Травников. М., 1999. Страницы указываются в скобках.
23 «Повесть о Горе-Злочастии» цитируется по факсимильному воспроизведению рукописи в издании: Симони П. К. Повесть о Горе-Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин, по единственной сохранившейся рукописи ХVIII века // СОРЯС. СПб., 1907. Т. 83. № 1. В скобках указываются листы рукописи.
24 «Житие» Аввакума цитируется по изданию: ПЛДР: ХVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Н. С. Демкова. М., 1989. Страница указывается в скобках.
25 «Житие Варлаама Керетского» цитируется по изданию: ПЛДР: ХVII век. Кн. 2 / Текст памятника подгот. Л. А. Дмитриев. Страница указывается в скобках.
«Зверскость» злодеев в древнерусской литературе XII–XVII вв.
Мы предлагаем краткое обозрение одного небольшого мотива «зверскости» злодеев в некоторых оригинальных (непереводных) древнерусских памятниках, наиболее известных – от «Повести временных лет» до «Жития» Аввакума. Какова его роль?
Произведения ХII–ХVI вв.
Самые ранние «зверские» злодеи в древнерусской литературе – это язычники. В начале «Повести временных лет» летописец изобразил звериную хищность деревлян: «древляне живяху звериньскимъ образомъ, живуще скотьски: убиваху другъ друга, ядяху вся нечисто, и брака у нихъ не бываше, но умыкиваху увóды девиця» (13)1.
Представление о зверской хищности деревлян, по-видимому, было свойственно именно летописцу, а не заимствовано им откуда-то. Так, хотя сходный фразеологический элемент присутствовал в характеристике язычников в «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона, но Иларион, в отличие от летописца, имел в виду идейное невежество язычников: «прежде бывшемъ намъ, яко зверемь и скотомъ, не разумеющемь деснице и шюице, и земленыих прилежащем, и нимала о небесныих попекущемся» (24)2.
Летописец и далее писал о «зверскости». Так, он выписал характеристику иных язычников из «Хроники» Георгия Амартола, но в «Хронике» говорилось не о зверской хищности язычников, а об их «скотскости» и дикости: индийцы «убиистводеици… человекъ ядуще и страньствующихъ убиваху; паче же ядять, яко пси. Етеръ же законъ халдеемъ и вавилонямъ: матери поимати, съ братними чады блудъ деяти, и убивати… Амазоне же мужа не имуть, но и, аки скотъ бесловесныи, но единою летомъ къ вешнимъ днемъ оземьствени будуть и сочтаются съ окрестныхъ имъ мужи» (15–16)3. Летописец добавил «зверскость» к скотскости.
Далее в «Повести временных лет» летописец обвинил в «зверскости» и другие языческие племена: «и радимичи, и вятичи, и северъ одинъ обычаи имяху: живяху в лесе, яко же и всякии зверь, ядуще все нечисто» (13–14). Резкость высказываний летописца несомненна. Язычество еще было живо.
Однако все-таки о тактичности обличения язычников свидетельствует то, что по отношению к «поганым» половцам летописец избегал прямых обвинений в «зверскости». Понятна подобная осторожность летописца в обрисовке половцев, с которыми русские то воевали, то мирились и заключали военные и брачные союзы.
Прочие летописные упоминания «зверскости» злодеев относятся уже к злодеям из христиан, но эти характеристики совершенно традиционны. Так, в летописной статье «О убиеньи Борисове» (под 1015 г. и под 1019 г.) упоминание о зверской хищности относилось к убийцам Бориса: «и се нападоша, акы зверье дивии, около шатра, и насунуша й копьи, и прободоша Бориса и слугу его» (134, под 1015 г.). Сравнение нападавших злодеев с дикими зверьми было традиционным эталоном свирепости. Сравнение это встречалось, например, и в переводной «Повести о святом Авраамии» Ефрема («яко зверие дивии, устремиша ся на нь, и биюще» – 4774); в «Житии Феодосия Печерского» Нестора («устрьмиши ся на ня, акы зверие дивии» – 1045); в «Чтении о Борисе и Глебе» Нестора же («рикающе, акы зверие дивии, поглотити хотяще праведьнаго», «акы зверие дивии, нападоша на нь», «устремишася по немь, акы зверие дивии» – 10–126). Таких эталонов-символов было множество (см. работы В. П. Адриановой-Перетц).
В произведениях после «Повести временных лет» мало что прибавилось нового; авторы ограничивались только мелкими единичными новациями. Повествовательная книжность оставалась элитарной.
Владимир Мономах в «Поучении» для своих детей использовал образ волчьей хищности половцев: «ехахом сквозе полкы половьчские не въ 100 дружине и с детми и с женами, и облизахуся на нас, акы волцы, стояще» (249)7. Сопоставление половцев именно с облизывающимися волками было очень живым, явно нетрадиционным и отражало охотничий опыт наблюдательного Мономаха. О своих охотничьих «ловах» Мономах подробно повествовал в «Поучении».
Летописи ХII–ХIII вв. совсем не внесли ничего нового в традицию изображения злодеев, постоянно сравнивая их со свирепыми зверьми, насыщающимися кровью и борзо передвигающимися. Встречается лишь одно исключение. Во «Владимиро-Суздальской летописи» под 1169 г. (а в Галицко-Волынской летописи» под 1172 г.) содержится ругательный рассказ о владимирском епископе Феодоре, подвергнутом казни за жестокие муки неугодных ему людей, «от звероядиваго Феодорца погыбающим от него» (357)8. Летописец постарался собрать всевозможные положенные проклятия злодею против «злаго, и пронырливаго, и гордаго лестьца, лжаго владыку Феодорца» (255. В рифму сказано!), «безъмилостивъ сый мучитель» (356) и пр. Но необычно обвинение злодея в бешеной, нечеловеческой энергии, даже не зверской, а адской: «именья бо бе не сытъ, акы адъ … яко и сего доведоша беси, възнесше мысль его до облакъ, и устроивше в немь 2-го Сотонаила, и сведоша и въ адъ» (356). Откуда явилось это сравнение злодея с адом, не ясно. Безумная энергия являлась признаком злодейских персонажей.
Прочие произведения разных жанров ХII–ХVI вв., говоря о злодеях, тоже повторяли в разных вариантах традиционные выражения о зверях и волках, об аспидах и ехиднах, ядовитых змеях и львах. Разве что в «Житии Авраамия Смоленского» Ефрема встречаем новое сравнение: местные попы «хотеша бес правды убити» Авраамия, и на суде «бе-щину попомъ, яко воломъ, рыкающимъ» на блаженного (82)9. Рычащих зверей, в том числе львов, заменили волы.
Причиной этого единичного отступления от традиции, скорее всего, было влияние бытовых представлений автора, эпизодически проявлявшееся в «Житии» (вот некоторые бытовые детали, использованные автором: Авраамий «черну браду таку имея, плешиву разве имея главу» – 78; «яко птица, ятъ руками» – 80; «языкъ, яко затыка, въ устехъ бяше» – 86; «скупи ограды овощныя» – 90; «онъ рогоже положи и постелю жестоку» – 98; и т. п.). Влияние хозяйственного быта на литературу как раз возросло именно с ХV в.
Сходное явление встречаем и через 200 лет в «Житии Евфросина Псковского» Василия: на псковских монахов горожане «яко осы или яко пчелы сотъ, разсверепевше, наскакаху … уязвляюще» (92–93)10. Пчелы из символа книжной премудрости оказались переосмыслены в то, чем они являются в реальной жизни. Связи между Василием и Ефремом в данном случае не было никакой. Исподволь влиял быт.
Зримые детали прибавились в описания «зверскости» злодеев в повестях ХV–ХVI вв. о восточных нашествиях на Русь. Все враги пребывали в дикой ярости. В так называемой пространной летописной Повести о Куликовской битве Мамай «сеченыа свои видевъ, възьярився зраком, и смутися умомъ, и распалися лютою яростию, аки аспида некаа, гневом дышуще … преступааше, аки змиа къ гнезду, … на крестьяньство…» (19)11, – обратим внимание на зримое описание зверского гнева Мамая: «възьярився зраком».
В других повестях о Куликовской битве такой детали нет. Ее появление объясняется некоторой склонностью автора к изобразительности, в частности, к упоминанию лиц персонажей («бился с тотары в лице», «лице свое почну крыти» – 22; «отврати, Господи, лице свое от них» – 18; «очи нашы не могут огненыхъ слез источати» – 21); кроме того, автор указывал внешнее состояние оружия и доспехов («беаше видети всь доспехъ его битъ и язвен» – 22; «поострю, яко молнию, мечь мой» – 18; «пошли … на остраа копьа» – 19); автор как бы лицезрел окружающую обстановку («бысть тма велика по всей земли: мьгляне бо было беаше того от утра … бе бо поле чисто и велико зело … и покрыша полки поле» – 20; «прольяша кровь, аки дождева туча, … паде трупъ на трупе … видеша полци – тресолнечный полкъ и пламенныа их стрелы» – 21; воины «оступиша около, аки вода многа, обаполы» – 22). По-видимому, пространная летописная повесть была составлена гораздо позже Куликовской битвы (см. об этом цикл работ М. А. Салминой), оттого автор уже в новом стиле украсил повествование небольшими картинками и изобразил злодея с яростным лицом.
Манера изобразительного украшения воинских повестей, написанных гораздо позже описываемых событий, распространилась в ХVI в. Так, в «Повести о разорении Рязани Батыем» среди частых упоминаний о зверской ярости врага сказано, что «окаяный Батый и дохну огнем от мерскаго сердца своего» (188)12. Эта «огненная» деталь своеобразна и связана с тут же развертывающимся рассказом о сожжении Рязани: «приидоша погани … с огни … священическый чин огню предаша, во святй церкве пожегоша … и весь град пожгоша» (190).
В другом произведении – «Сказании о Мамаевом побоище» – обуреваемый зверской же яростью Мамай, обещавший убить Дмитрия Донского, почему-то срывается на крик – деталь тоже редкостная: «Онъ же нечестивый царь, разженъ диаволом на свою пагубу, крикнувъ напрасно, испусти гласъ: “Тако силы моа, аще не одолею русскых князей, тъ како имамъ възвратитися въ своаси?…”» (38)13. Причина упоминания крика (восклицания) заключалась в том, что у автора повести Мамай всегда во всеуслышание объявлял о своих злодейских планах и опасениях.
Но зримые предметные детали еще тонули в риторике. Например, бесконечные украшения речи, риторические компиляции и распространения традиционных выражений о «зверскости» и «скотскости» врагов и недругов в изобилии содержала так называемая московская «Повесть о походе Ивана III на Новгород»: «мужие новгородьстии лукавствомъ своея злыя мысли възгордевшеся»; «яко волкъ, чрезъ ограду хотяше влезти ко овцамъ…»; «яко же аспида глуха, затыкающи уши свои»; «мечющеся … на лесъ, яко скотъ, бредяху» и мн. др. (3, 6, 8, 11)14.
Таким образом, традиция изображения злодеев древнерусскими писателями сочетала обязательное единообразие схем и символов с разнообразием небольших новаций.
Более крупное отступление от традиции произошло в «Повести о Тимофее Владимирском», сюжет которой был совершенно уникален: молодой православный священник бежал в Казань, стал воеводой у казанского царя и, «бусарманскую срацынскую злую веру приятъ … золъ гонитель бысть и лютъ кровопийца христианескъ пролияти кровь неповинных руских людей» (48, 60)15; но через 30 лет злодей раскаялся, и автор повести вдруг увидел, как выглядел раскаявшийся злодей: «верстою бы онъ в пятьдесят летъ бывъ» (64); если перед раскаянием он еще взирал «ярыма своима очима звериныма», то после раскаяния так «плакася от полудне того до вечера, донеле гортань его премолча и слезы исчезосте от очию его» (60). Автор очертил позы раскаявшегося предателя: «сшед с коня, о землю убивашеся» (60); «свержеся с конех своихъ долу на землю» (64); «спа до утра на траве» (62); и умирая, «нози свои, яко живъ, простре» (64). Одежды персонажа также обозначил автор: мятущийся Тимофей то «пременив образ свой поповский и облечеся в воинскую одежду» (58), то стал носить «драгия ризы», но в конце концов «облече на него смиренныя … одежды» (64). Кони, на которых ездил Тимофей, также не были обойдены вниманием автора повести: «гнаше … на дву скорых драгих конехъ», а «на них басманы великие полны насыпаны злата, и сребра, и драгихъ каменей» (64, 66). Все эти детали автор не помышлял объединить в портрет человека, а в рассыпанном виде упоминал в тексте повести. Но необычно само сочувственное «оживление» злодея.
Объяснить оправдание злодея можно устным источником автора, который в конце повести приписал: «Сия ж повесть многа летъ не написана бысть, но тако в людехъ в повестех ношашеся. Аз же слышахъ от многихъ сие и написахъ ползы ради…» (66). Но независимо от того, какова была легенда и как ее переложил автор письменной повести, мы обнаруживаем любопытный факт: житийная традиция изображения праведников, их лиц, поз, одежд и пр., была перенесена, как нетрудно убедиться, на изображение великого грешника.
Перейдем к более позднему времени и уже к иному процессу. Во второй половине ХVI в. литература пошла по пути обильного компилирования и нагнетания признаков, традиционно приписываемых особо лютым злодеям. Например, в «Казанской истории» автор создал условный образ: казанский царь Улу-Ахмет «возведе очи своя звериныя на небо», «поскрежета зубы своими, яко дикий вепрь, и грозно возсвиста, яко страшный змий великий … яко левъ, рыкая и, яко змий, страшно огнемъ дыша» (322, 324)16. Иногда образ злодея у автора повести становился более реальным, хотя и оставался гиперболическим, вроде татарского богатыря Аталыка: «Величина же его и ширина, аки исполина; очи же его бяху кровавы, аки у зверя или человекоядца, велики, аки буявола» (352). Автор был в своем роде политическим романтиком, сгущал краски для радостного финала, потому что писал, по его определению, «новыя повести сея … яко да, прочетше, братия наши воини и от скорби пременятся, простии же ту возвеселятся» (300) – успокоительное указание, спускаемое, так сказать, сверху вниз.
«Степенная книга» была гораздо более консервативна; и все же, хотя и в единичных случаях, ее составитель вносил дополнительные детали в описания, становившиеся от этого едко карикатурными: Батый «яко же некий зверь, вся поядая, останки же ноготьми растерзая» (262)17. Официозно-политический нажим «утяжелял» литературную традицию изображения злодеев.
Элементы образности еще сильнее «утяжелились» в «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков». «Зверскость» Стефана и его войска автор обозначил не только густыми сочетаниями обычных символов (голодный зверь, аспид, змий, жало, яд, волки и пр.), но однажды увлекся развернутым образом крылатого огнедышащего змея и дыма: «яко несытый ад, пропастныя своя челюсти роскидаша и оттоле града Пскова поглотити хотяше. Спешнее же и радостнее ко Пскову, яко из великих пещер лютому великому змию, летяше. Страшилищами же своими, яко искры огнеными дым темен, на Псков летяше… И тако все, яко змии на крылех, на Псков град леташе и сего горделивством своим, яко крылами, повалити хотяше; змеиными языки своими вся живущия во граде Пскове, яко жалами, уморити мняшеся» и т. д. (424, 426)18. Автор повести там, где он писал о Стефане Батории и его войске, создал, в сущности, нечто вроде злорадного памфлета. На это указывает, в частности, авторское рассуждение, следующее сразу же за образом змея и черного дыма: «От полуденныя страны богохранимого града Пскова дым темен: литовская сила на черность псковския белыя каменные стены предпослася, ея же ни вся литовская земля очертети не может». И далее: «И сий, яко дивий вепрь из пустыни, прииде сам литовский король… Сий же неутолимый лютый зверь несытною своею гладною утробою пришед … всячески умом розполашеся…» (428).
Произведения ХVII в.
В произведениях, рассказывающих о событиях Смутного времени, вовсю расцвела эмоциональная традиция сравнивать врагов со злыми волками, лютыми львами, змиями, аспидами, скорпионами и пр. Но появились и многочисленные новации.
Начнем с рассмотрения «Новой повести о преславном Российском царстве». В авторские проклятия злодеям проникла некая хозяйственная тема. Автор повести, наряду с упоминанием экзотических животных, стал ориентироваться и на животных бытовых, домашних. Так, злодей был сравнен с жеребцом: наш «аки прехрабрый воин лютаго, и свирепаго, и неукротимаго жребца, ревущаго на мску, браздами челюсти его удержеваетъ, и все тело его к себе обращаетъ, и воли ему не подастъ» (34)19. Злодеи неоднократно напоминали автору повести лающих псов: «начатъ, аки безумный песъ, на аеръ зря лаяти… яко песъ, лаялъ и бранилъ» (42); предать врагам, «аки псомъ на снедение» (40).
Дело в том, что, изображая врагов-захватчиков, автор исходил из неотчетливого представления то ли о неухоженной усадьбе, то ли о запущенном хозяйственном дворе. Поэтому злодеев он выдавал за сорняки, за вредоносные корни: «чтобы от того гнилаго, и нетвердаго, горкаго, и криваго корении древа … отвратити … и злое бы корение и зелие ис того места вонъ вывести (понеже много того корения злаго и зелия лютаго на томъ месте вкоренилось)» (28); «чего … злому корению и зелию даете в землю вкоренятися и паки, аки злому горкому педыню, распложатися?» (48); «сами в свою землю и веру злое семя вкореняемъ» (50).
Но особенно ясно бытовые ассоциации автора проявились в сценках поведения врагов-хитрых злодеев. Это развернутое сравнение с корыстным женихом («не по своему достоянию … хощетъ пояти за ся невесту красну, и благородну, богату же, и славну, и всячески изрядну. И нехотения ради невестина и ея сродниковъ … не можаше ю вскоре взяти» и пр. – 30); сравнение с бесчестными покупателями-насильниками («купльствуютъ не по цене, отнимаютъ силно, и паки не ценою ценятъ и сребро платят, но с мечемъ над главою стоятъ» – 48); сравнение с раболепными нищими перед богачом («смотрят из рукъ и ис скверныхъ устъ его, что имъ дастъ и укажетъ, яко нищии у богатаго проклятаго» – 46); сравнение с буйным скандалистом (на свою жертву «нелепыми славами, аки сущий буй, камениемъ на лице … метати, и … безчестити, и до рождьшия его неискуснымъ и болезненым словомъ доходити … шуменъ былъ и без памяти говорил» – 42). В общем, изображение врагов-злодеев разворачивалось у автора повести как бы на фоне неладной городской жизни.
В последующих произведениях о Смуте среди привычных сопоставлений злодеев с привычными же зверями начали накапливаться мотивы, относящиеся к реальным животным. Пожалуй, первые элементы этого появились в «Сказании» Авраамия Палицына, вообще-то очень скупом в употреблении сравнений, но все-таки: «яко лютыя лвы ис пещер и из дубрав»; «ползающе, аки змия, по земли молком»; «лукави суще, яко лисица» (212, 248, 268)20.
Особенно же много сопоставлений из мира реальной природы, примененных к злодеям, скопил в своем «Временнике» велеречивый Иван Тимофеев. Прежде всего, он снабдил более или менее реалистичными дополнениями тех животных, которыми традиционно обозначали злодеев. Так, змий получил хвост и зубы: злодей «яко змий, держася, обвив хоботом своим»; «окруживше объятием, яко велий змий хоботом»; «враждебно, яко змиеве, своими зубами держащих» (79, 141, 119)21. Змеи стали шипеть: «яко змиев, гнездящихся и сипящих» (165). Аспиды стали показывать пасть: «поглощения гортани зубов оного аспида» (80); «зиянием горла он си един, яко аспида, устраши» (131). Просто звери тоже стали показывать себя: «яко в берлозе дивия некако, лестне крыяся» (53); «яко же зверь некий, обратився навспять, зубы своими угрызну» (73). Вепрь стал вести себя мирно, но хищно: «яко вепрь, тайно нощию от луга пришед … кости ми оглада» (78). Псы, олицетворяющие злодеев, тоже стали у автора конкретнее: «яко в просту храмину … пес со всесквернавою сукою … вскочи» (88); «уже от сухих костей, подобно псу, тех сосет мозги» (78–79); «егда по случаю некако пес восхитит негде … снедь … бежит в место тайно тоя снести. Прочии же пси, таковое узревше восхищенное, у единого отъемлют и наслажаются вси купно … пожидают же растерзательно и небрежно, обаче и растрашают много, прерывающе … обидимым изгрызатися» (89) – целая картинка, наблюденная автором в жизни города или села.
Появились во «Временнике» и менее традиционные существа, символизирующие злодеев, например, козлы: «яко козел, ногама збод и … долу сверг» (46); «яко дивий козел, овна рогами збод» (72).
Наконец, памятливый наблюдатель природы Иван Тимофеев охотно сравнивал злодеев с неприятными и опасными явлениями – с нечистотами, тучами, ночной тьмой, пожаром и дымом: «яко многомутныя нечистоты воды от скверных мест … собранием истекоша» (141); «яко темен облак возвлекся от несветимыя тмы» (83); «яко … мрачен облак тмы исполнися» (88); «яко нощь темна видением зряхуся» (13); «яко главню некую, искр полну, ветром раздомшую… внесоша … яко саморазжено углие огнено … к запалению совнесше … все огнем запальше, испепелиша» (14); «яко дым по воздуху разшедшеся» (32); «яко огню дымоподобие некаку … курящуся» (47). Автор «Временника», изображая злодеев, развил изобразительно-политический подход «Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков» и «Новой повести о преславном Российском царстве».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































