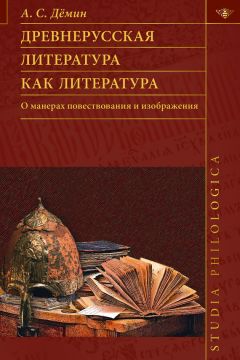
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 38 страниц)
В повести же нет таких сетований, нет подобных рассуждений и нет обращений к «братии». «Братия» в предисловии, вероятно, тоже означала монастырских или местных читателей.
В общем, в нашем распоряжении оказывается следующий небольшой (и, вероятно, не исчерпывающий) ряд рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в., преимущественно 1606–1612 гг. Это эмоциональные грамоты-воззвания и повести, имеющие характер воззваний: 1) «Повесть, како отомсти» 1606 г.; 2) «Повесть о видении некоему мужу духовну», октябрь 1606 г.; 3) послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, не ранее 1606 г.; 4) грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, ноябрь 1608 г.; 5) послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 1610–1611 гг.; 6) «Новая повесть о преславном Росийском царстве», самое начало 1611 г.; 7–8) два воззвания патриарха Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, январь 1611 г.; 9) грамота смольнян к москвичам, январь 1611 г.; 10) грамота москвичей в разные города, январь 1611 г.; 11–12) два воззвания москвичей в российские города о борьбе с интервентами, февраль 1611 г.; 13) грамота ярославичей к казанцам, март 1611 г.; 14) грамота троице-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына в Пермь Великую, октябрь 1611 г.; 15) грамота тех же лиц к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому и ко всем ратным людям, апрель 1612 г.; 16) грамота Д. М. Пожарского в Путивль, июнь 1612 г.; 17) «Плач о пленении и о конечном разорении Московского государства», осень 1612 г.; 18) грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, май 1614 г.; 19) предисловие к летописной повести «О бедах, скорбех и напастех, еже бысть в велицей Росии».
Сразу можно увидеть, что все перечисленные в обоих разделах данной главы старопечатные и рукописные произведения начала XVII в. исходили от верхов русского общества или от лиц, приближенных к верхам, и, следовательно, отражали точку зрения верхов на общество, на народ.
В отличие от старопечатных произведений, рукописные сочинения содержали немало резких высказываний о слабости душевных устоев «многонародного множества»: «в мирских людех, паче во священниках и иноческом чине вселися великая слабость и небрежение, о душевном спасении нерадение» (послание патриарха Гермогена ко всем людям об исправлении церковного пения, 56). Ср. фольклор того времени: «Плачется земля благочестивая христианския веры, Росийская страна – Московское царство… И ныне убо найде всемирное согрешение, от князей неуправление, и от властей нестроение церквам, и неисправление слову Божию, от иерей нерадение о стаде Христове, от простых же людей презрение закону Божию, и прочее, вовсе человецы неправду возлюбиша, любовь отбеже, страх Божий далече отринуша…» (покаянный стих «Плач земли Российской» начала XVII в., 476. По списку ГИМ, собрание Синодальное, № 207).
Авторы рукописных сочинений прямее, чем издатели, писали о конкретных пороках общества, особенно доставалось людям за чтение вредных книг: «А инии невегласи… держатся книг, отреченных святыми отцы седми вселенских соборов… Поумилися, о человече… А ты, безстудне, како сия твориши…» («Повесть, како отомсти», 253); «и тако и на ересные, и волшебные, и на гадательные книги кто на них надеетца, их держытца, тот вскоре и погибнет и душею, и телом» (послание патриарха Гермогена против использования гадательных и волшебных книг, 25). ср. признание в царской грамоте 1616 г.: «а по руски философских учений много лет не было» (472). Прямо определялись и враги – совратители народа: российские люди «вземше убо от скверных язык мерския их обычая и нравы; брады своя постригают и содомская дела творят» («Повесть о видении», 182); «и в темноту нужныя зимы литовскаго неправоверия отпадоша» («Иное сказание», 119).
Но при всей своей резкости и прямоте рукописные сочинения оказались менее ригористичными, чем печатные книги. Вот, например, только что цитированное послание Гермогена: «Токмо отрините всяку ересь и всяко нечестие… то будет был блудник, возлюби целомудрие… Или кто разбойник, или тать, или клеветник, или судья неправедной, или посульник, или книги гадательные и волшебные на погибель держыт, или ведует, впредь обещайся Богу таковых дел не творить» (25). Такое всепрощение, вплоть до прощения людям разбоя и ереси, совершенно необычно для печатных книг. Оно необычно и для традиционных рукописных посланий и поучений более раннего времени. Очевидно, патриарх Гермоген не клал тяжкого межевого камня между преступниками и праведниками, но ожидал скорого возвращения заблудших.
В памятниках начала XVII в., написанных до февраля 1611 г., сказалось это представление о неокончательности и даже случайности отпадения массы людей от основ православия и царепочитания: «и ныне убо мнози от них воспоминают грехи своя и хотят приити на покаяние» («Повесть о видении», 182); близка возможность «нашего обращения от пути заблуждения» («О изведении царского семени и о смятении Русского государства», 1606–1608 гг., 198); «чаем, что здрогнетеся и воспрянете» (второе воззвание Гермогена против свержения Василия Шуйского с царского престола, 288).
Авторы произведений массовой предназначенности рассчитывали на повышенную душевную ранимость или совестливость отпадших людей: «И аще воспомянем вам от божественных писаний, и мню, яко тягостно будет слуху вашему; сами бо весте…» (первое воззвание Гермогена, 287). Оставалось сделать как бы немногое – установить взаимопонимание с отпадшими, используя совсем простой язык: «А на волшебные и на годательные книги и на ведовство что надеющеся, и те что на воду опирающеся; а хто опретца на воду, тот и погрузитца и потонет» (послание Гермогена о книгах, 25); «как естя так учили, и чему поверили, и на что смотря смутились, и для чего душами своими погибаете? …и тут которому быти добру, толко станет вами Литва владети? …а впредь от них какого добра ждати за то всем православным христианам? – пригоже помереть» (грамота царя Василия Шуйского к солигаличским жителям, 341). Оставалось еще напомнить отпадшим людям о значении их поступков: «во тму отойдосте… к сотоне прилепистеся… лжу возлюбисте…» и т. д. и т. п. (первое воззвание Гермогена, 286), напомнить о Боге (в номинативной заставке того же воззвания). И пристыженные люди, в представлении авторов, легко перешли бы в состояние прежнего благочестия.
Эти надежды не сбылись. И примерно с января 1611 г. в грамотах и повестях массовой предназначенности зазвучали иные ноты. Авторы стали задавать читателям вопросы не эмоционально-безответные, как раньше, а побуждающие к размышлениям, наталкивающие на выводы: «Не поругана ли наша крестьянская вера и не разорены ли Божия церкви? Не сокрушены ли и поруганы злым поруганьем и укоризною божественныя иконы и Божие образы? Все то зрят очи наши. Где наши головы, где жены, и дети, и братья, и сродницы, и друзи? Не остались ли есмя от тысячи десятой или от ста един?.. Каким словам клятвенным верите? Что обещавает вам все сладкое и лучшее Михайло Салтыков да Федор Андронов своими советники? И по тому знаете ли, не предатели ли своей вере и земле?» (грамота смольнян к москвичам, 493–495).
В произведениях появились странные высказывания, напоминающие загадки. Например, «Новая повесть» так представляла читателям пособника поляков Федора Андронова, не называя его по имени: «Сами видите, кто той есть. Неси человек, и неведомо кто. Ни от царских родов, ни от болярских чинов, ни от иных избранных, ратных голов. Сказывают, от смердовских рабов… По его злому делу не достоит его… назвати… во имя преподобнаго, но во имя неподобнаго… или во имя святителя, но во имя мучителя… не достоит его по имяни святого назвати, но по нужнаго прохода людцаго, – Афедронов» (206). Подобных прозрачных для читателей загадок в «Новой повести» немало. Они заставляли читателей активнее вчитываться в текст и внимательнее перебирать доводы.
Пословицами авторы также заставляли читателей и слушателей взвешивать обстоятельства: «Будте с нами обще, заодно против врагов наших и ваших общих. Помяните одно: толко коренью основание крепко, то и древо неподвижно. Толко коренья не будет, к чему прилепиться?» (первое воззвание москвичей в российские города о борьбе с интервентами, 298); «может ли и невеликая хижица без настоятеля утвердитися и может ли град без властодержателя стояти, не токмо что такому великому царству с окрестными страны без государя быти? Соберитеся, государи, во едино место…» (грамота троице-сергиевского архимандрита Дионисия и келаря Авраамия Палицына ко всем ратным людям, 252). Авторы надеялись теперь не на порыв людей, а на их зрелое размышление: «И самим вам чего ждати? Мы вам, меншые болшым, не указываем. Сами то можете своим премудрым Богом данным разумом разсудити» (грамота ярославичей к казанцам, 519).
Оттого-то с начала 1611 г. сочинения массовой предназначенности обязательно заверяли читателей в искренности авторов и в истинности примеров: «А сему бы есте писму верили без всякого сумнения» («Новая повесть», 208); «все истинная правда написана, можете ото всех людей руских то уведати» (грамота смольнян к москвичам, 495); «объявляем сущую и прямую правду» (грамота ярославичей к казанцам, 519) и т. д.
Судя по обилию способов убеждения, использованных в грамотах и воззваниях, авторы обращались к массе людей, которые еще не сделали решительного шага для восстановления поколебленного благочестия. Да и сделают ли? Авторы взывали к «людем, которые еще душь своих от Бога не отщетили, и от православные веры не отступили… и к соперником своим не прилепилися, и во отпадшую их веру не уклонилися («Новая повесть», 189). Очень показательно это «еще не», как показательны и пожелания в отрицательной форме: «И вам бы не презрети, не восхотети видети поруганну образу пречистыя Богородицы, иконы владимерския, и великих московских чюдотворцов, и нас, братий своих, православных крестьян, не видети быти посеченым и в плен розведеным в латынство» (первое воззвание москвичей, 299). Перед авторами сочинений стояла нерешительная людская масса: «Что стали, что оплошали, что ожидаете и врагов своих на себя попущаете?..»; «говорите усты, а в делех ваших Господь весть, что у вас будет» («Новая повесть», 204).
Таким образом, обзор старопечатных и рукописных памятников массовой предназначенности начала XVII в. позволяет заметить то, какой представлялась писателям, по выражению Гермогена, «великая слабость» российских людей во время Смуты. Верхи общества страшила и тяготила долгая нетвердость множества людей в основах православия и царепочитания, их какая-то легкость в отступлении от этих основ и затянувшаяся нерешительность в возвращении на путь истинный. Преувеличенной оказалась вера в исконную приверженность российского народа к православию.
С этим выводом согласуются отдельные, пока еще разрозненные наблюдения историков по идеологии Смутного времени. Хотя общим местом дореволюционных работ (в том числе работ Н. И. Костомарова) являлся тезис о беспредельности уважения российского народа к православию в Смутное время, однако у историков накапливались факты, свидетельствующие о противоположном: те же русские люди бросали иконы в огонь и в навоз, раз Бог не защитил их от поляков, грабили храмы и т. п.7 В великолепной работе А. Яковлева, опубликованной много десятков лет тому назад, уже говорилось со всей определенностью: «русские люди пережили в Смуту сложный психологический перелом, сказавшийся в некотором перерождении основных понятий, определявших их отношение к государственному порядку»; «мы наблюдаем русских людей Смутного времени в момент их работы над своими общественными понятиями, когда понятия эти не успели еще вполне проясниться и окрепнуть»8.
Затем историки еще с большей решительностью стали утверждать, что в период Смуты «восстание крестьян против феодально-крепостнического строя приводило к подрыву влияния церковной идеологии на сознание народных масс»9 и что «многие повстанцы, борцы первой крестьянской войны, были последователями учения Феодосия Косого. Они не признавали церквей, икон, крестов, не видели в них никакой святости и обращались с ними как с обычными вещами»10.
Историки общественной мысли теперь вполне могли оценить значение таких высказываний в памятниках, как «несть истины во царе же и патриарсе» (в так называемой народной редакции «Повести о видении некоему мужу духовну»)11 и «узриши церковь Божию сетующу и дряхлующу и яко вдову совлеченну: красота бо ея отъята бысть иноплеменными, паче же нашими восставшими на нас…» (в «Послании дворянина дворянину»)12. Ср. также сатирическое «Сказание о крестьянском сыне» начала XVII в. с пародийным использованием церковных изречений и «прописи» 1620 г. с афоризмами: «Христос спит, церькви без пастырь, свещи несть» (172–175).
Правда, «шатость» российского народа в основах православия вряд ли была непосредственным отзвуком западноевропейской Реформации. Сошлемся на вывод одного из исследователей: «исповедующие православие не могли особенно сочувствовать основным постулатам реформации, которые в их церкви уже давно были реализованы»; «крестьяне, как поляки и литовцы (преимущественно католики), так и русские (в основном православные), остались равнодушными к призывам реформационного движения»13. При всем том «шатость» народа вызвала широкую волну следствий в культурной и политической жизни России. Недаром «впервые исторические писатели открыто заговорили о противоречивости человеческого характера только в начале XVII в.»14. В «Хронографе» 1617 г., как и в других памятниках, проявился даже своего рода этический пессимизм: «Да никто не похвалится чист быти от сети неприятельственного злокозньствия врага», «во всех земнородных ум человечь погрешителен есть и от доброго нрава злыми совратен»15.
Постепенно в сравнительно поздних произведениях Смутного времени начал формироваться желанный успокоительный образ вполне благопристойного «стада Христова». Так, адресаты, к которым обращались трепещущие авторы «Плача о пленении и о конечном разорении Московского государства», это уже «благочестивии, христоподражателныя, любве исполнении людие» (233). Адресаты предисловия к повести «О бедах, скорбех и напастех» также мыслились переживающими и ужасающимися одинаково с автором. Если настроение адресатов толком не было известно, то все равно предполагалось их дружелюбие: «Задня забывайте, на предняя возвращайтеся, а ожидайте, государи, будущих благ… А мы, господа, к вам много писывали преж сего о лубви, да от вас к нам ни единой строки нет… А мы вам о любви челом бьем до лица земнаго, до общия нашея матери, аминь» (грамота донских казаков к волжским, терским и яицким казакам, 13).
Но вскоре время умиротворительных пожеланий сменилось временем жестких идеологических мероприятий при отце новоизбранного царя патриархе Филарете: разбором «потребника» справщиков Дионисия Зобниновского и Арсения Глухого, разбором «Катехизиса» Лаврентия Зизания, разбором сочинений Ивана Хворостинина и т. д. Опять верхи взнуздали народ.
Конец 1610-х – 1630-е годы: ублаготворенность и уступчивость верхов общества
Общественные настроения 1620-х – 1630-х годов по сравнению с предыдущим временем отразились в источниках жанрово более разнообразных. Кроме послесловий, почему-то на время вытеснивших предисловия из старопечатных книг, и кроме грамот, общественные настроения нашли отражение в исторических сочинениях, литературных повестях и стихотворных произведениях. Конкретно это следующие памятники:
1. Послесловия к московским печатным изданиям 1618–1636 гг., а также единичные предисловия к изданиям 1618, 1619 и 1637 гг.16; одинаковые старопечатные послесловия нередко использовались в целой цепи изданий: в частности, предисловие к «Минее» 1619 г. перешло в качестве послесловия в «Минею» 1636 г., послесловие к «Апостолу» 1621 г. – в послесловие к «Цветной триоди» 1621 г., послесловие «Шестоднева» 1625 г. – в послесловие к «Псалтыри» 1625 г.
2. Грамоты – «От божественных писании и от святых правил собрание… Филарета-патриарха… о крещении латынь и о их ересех», или «Соборное изложение» 1620 г.; грамоты патриархов Филарета и Иоасафа 1622–1636 гг. об исправлении нравов; отрывок из анонимного послания первой трети XVII в. о мздоимстве в приказах, а также переделка 1620-х – 1630-х годов из «Большой челобитной» Ивана Пересветова со специфическими дополнениями, под названием «Сказание о Петре, воеводе Волосском»17.
3. Летописи – «Хронограф» редакции 1617 г., «Строгановская летопись» 1620-х годов, «Новый летописец» 1630 г., «Бельский летописец» начала 1630-х годов, краткий «Московский летописец» 1635–1645 гг., «Есиповская летопись» 1636–1638 гг., «Мазуринский летописец» конца XVII в., но с нужными статьями за интересующий нас период18.
4. Исторические сочинения – «Временник» Ивана Тимофеева 1616–1619 гг., «История» Авраамия Палицына 1619–1620 гг., «Сказание известно о воображении книг печатнаго дела» 1619–1633 гг., «Словеса дней и царей и святителей московских» Ивана Хворостинина первой половины 1620-х годов, «Иное сказание» 1620-х годов, «Повесть книги сея от прежних лет» Ивана Катырева-Ростовского или Семена Шаховского 1626 г., «Повесть известно сказуема на память царевича Димитрия» и «Повесть о некоем мнисе, како послася на царя Бориса» – обе Семена Шаховского 1626–1645 гг., «Житие царевича Димитрия» из «Четьих миней» Германа Тулупова конца 1620-х – 1630-х годов19.
5. Литературные повести 1620-х – 1630-х годов – «Повесть о Еруслане Лазаревиче», «Повесть о разуме человеческом», «Повесть об Улиянии Осорьиной», в том числе и вторая редакция «Повести», возникшая в 1638–1651 гг.20
6. Песнопения – песня о возвращении Филарета из плена в 1619 г., стихиры около 1625 г. на перенесение ризы Христовой в Москву, «покаянен» 1626–1628 гг. по поводу украшения Спасских ворот московского Кремля каменными статуями, «покаянен» второй половины 1630-х годов по поводу казни воеводы Михаила Шеина21.
7. Стихотворные сочинения Ивана Хворостинина 1623–1625 гг. – «Слововещания… к родителем о воспитании чад» и против латинских ересей, а также стихотворное послание некоего Стефана к иноку-справщику Арсению Глухому 1636–1637 гг.22
Общественные настроения 1620-х – 1630-х годов сравнительно со временем Смуты отразились в более разнообразном круге памятников, но выразились более расплывчато. Почти нигде нет прямых, четких, обобщающих характеристик современников настроениям общества или читательской массы. Косвенные же свидетельства об общественных настроениях можно извлечь из авторских высказываний на иные темы, прежде всего из воспоминаний о бедах прошедшей Смуты, из упоминаний о современной России и из обращений к читателям.
Обратимся к первой теме – о прошедших бедах. В 1620-е – 1630-е годы, как известно, были созданы все крупнейшие обобщающие произведения о Смуте; лапидарные описания бед Смутного времени помещались и в официальных документах («Соборное изложение», 401; память 1636, 402). Но в рассказы о бедах добавлялся новый оттенок. Все памятники 1620-х – 1630-х годов, обстоятельно повествовавшие о Смуте, – от «Пискаревского летописца» второй половины 1610-х годов до повестей Хворостинина и Шаховского – обязательно завершались благополучной концовкой. Даже составители компилятивных сочинений о Смуте, вроде «Иного сказания», доводили повествование до благополучного исхода. Горестные события прошлого освещались более спокойным, «боковым» светом.
Новое отношение к бедствиям Смуты сказалось прежде всего в таком литературном явлении, как рифмовка в отдельных местах произведений. Рифмованное и ритмизированное изложение событий Смуты, пожалуй, чаще стало давать знать о себе именно с конца 1610-х годов (см., например, многочисленные рифмованные отрывки в «Истории» Палицына). Такие отрывки, помимо всего прочего, вносили в изложение новый оттенок бодрости и легкости, в том числе и в старопечатных послесловиях (где в тексте обозначались ударения):
…беседы злы
растлевают человеком умы
и лишают истины,
от них же часто случаются душевныя беды.
(Минея 1618, 2 об.; Минея 1619, 84 об. второго счета; Минея 1620, 245 об.; Апостол 1621, 302 и другие издания)
Стихи подчеркнуто бодрой нотой завершали изложение тягостных событий Смутного времени:
Сия же словеса прекратим,
а на царя Бориса укоры возложим…
Оставим же сия и возвратимся на первая…
Сему писанию конец предлагаем,
Дела толикие вещи во веки не забываем…
Мы же сему бывшему делу писание предлагаем
И предъидущий род воспоминанием удивляем…
(«Повесть книги сея», 580, 619, 623)
Но новое настроение в подаче событий Смутного времени выражалось не только косвенно. Например, в старопечатных послесловиях все упоминания явлений Смутного времени обязательно сопровождались ободряющими и успокоительными оговорками и пожеланиями: «да не будет паки зде соблазн таковыи, ни да останет последи нас чадом нашим распрение и соблазн…»; «и овчата словесная Христова стада да не будут по горам высокия льсти мира сего разъсеваеми»; «да не будет несогласия ради распря в церковнем телеси»; «мрак же нечестивый злобы тем да обличится и буря противных ветров да отгнана будет» и пр. («Соборное изложение», 403 об.; Служебник 1623, 479; Требник 1623, 648 об.; Учительное евангелие 1629, 593). Упоминая события прошлого, издатели спешили пояснить, что все идет к лучшему: «…ко согласию же и ко единому благому счинению церковнаго разъстояния» (Служебник 1623, 477 об.; Служебник 1627, 260 об. и др.). Издатели постоянно заявляли, что последствия Смуты успешно преодолеваются: «сожигающа и развевающа многолетняя еретическая умышления… каменосердечная душа в землю плодоносную претворяя»; «скверное же тщегласие отметая…»; «яко ковчегом потопа греховнаго избавляем ся» (Минея 1619, 3, 5 об.; Апостол 1621, 302; Октоих 1631, 475). В сознании издателей неразрывно были связаны бедствия Смуты с их преодолением. Так возникало новое отношение к недавним бедам.
Настоящее время глаголов в заверениях о намечающемся переходе к благополучию постепенно заменилось уверенным прошедшим временем: «И потом како было некоим приключьшимся злым временем таковое благое дело раздрушися и изгибло. И… паки составися по прежнему и в первое устроение прииде…» («Сказание» о книгопечатании, 199); «и яко же прежде нечестием всех превзыде Руская земля, тако и ныне благочестием всех преодоле» («Словеса», 530). И еще короче: «от коликих зол избави нас Господь во обстояние многих вой» («История», 126); «очисти землю сущую в недовольстве разума» («Житие Димитрия», 884). И еще энергичнее: «в тишину велебурное шатание преложи» («Повесть о мнисе», 872); «брани разруши, рати утоли, буря утиши, бесы отгна, болезни уврачева, напасти отрази, грады колеблемые устави… и иже от человек наветы вся объят…» (память 1636, 403). Смягченность, заглаженность представлений о Смуте стали еще ощутимее.
Новые оттенки представлений о прошедших несчастьях выразительно проявились в «Повести об Улиянии Осорьиной». Изложение событий в «Повести» начиналось примерно с 1560-х годов, подробнее всего рассказывалось о начале XVII в., и рассказ, конечно, доводился до более благополучного времени – до последних дней 1615 г. или даже до 1616 г. и позже. Особенность «Повести»: абсолютно все упоминаемые несчастья сразу же смягчались – и их смягчала главная героиня Улияния Осорьина. Вот разразился голод, и вот что делала Улияния: «По мале же Божию гневу Русскую землю постигшу за грехи наши, гладу велику зело бывшу, и мнози от глада того помираху. Она же многу милостыню отаи творяше… гладным все раздаяше. И егда кто умираше, она же… на погребение сребреники даяше» и пр. (278–279). Через некоторое время вторично разразился голод, и снова Улияния смягчала бедствия: «В то же время бысть глад крепок во всей Русстей земли, яко многим от нужды скверных мяс и человеческих плотей вкушати, и множество человек неизчетно гладом изомроша… Она же… елико оставшься скоты, и ризы, и сосуды вся распрода на жито и от того челядь кормяше, и милостыню доволну даяше… и ни единого от просящих не отпусти тща…» (281); «нищим даяше, и никого нища тща отпусти, – и то время без числа нищих бе» (282).
Другое несчастье, которое поминала «Повесть», – это чумной мор; и опять Улияния своею мягкой рукой старалась сгладить жестокость его последствий: «По мале же мор бысть на люди силен, и мнози умираху пострелом: и оттого мнози в домех запирахуся, и уязвенных пострелом в дом не пущаху, и ризам не прикасахуся. Она же… язвенных многих своима рукама в бани омывая, целяше…» (279).
Еще одно неустроение в «Повести» – социальные конфликты времени Смуты; но Улияния опять-таки утихомиривала ссоры, брани и даже разбои: «ненавидяй же добра враг тщашеся спону ей сотворити: часты брани воздвизаше в детех и рабех. Она же вся, смысленно и разумно разсуждая, смиряше» (279); «а неразумныя рабы и рабыни смирением и кротостию наказуя и исправляше» (278); «она же моляше дети и рабы своя, еже отнюдь ничему чужу и татьбе не коснутися» (281); «велице же скудости умножьшися в дому ея. Она же распусти рабы на волю, да не изнурятся гладом» (282). Даже когда несчастье касалось близких Улиянии, то и тут она ничем не обостряла обстановки, а, наоборот, умиротворяла: «Враг же наусти раба их и уби сына их старейшаго. Потом и другаго сына на службе убиша. Она же, вмале аще и оскорбися, но о душах их, а не о смерти, но почти их пением, и молитвою, и милостынею» (279–280). В данном случае важен не облик Улиянии, а облик несчастий: они все смягчены очень последовательно. Представления автора «Повести» о прошедших, уже отдалившихся бедах были устойчиво проникнуты чувством умиротворения, бестревожности.
Знаменательное замечание сделал и Иван Хворостинин в «Слововещаниях», где тоже поминал Смуту: «не понудив рабы моя мучителством жити и быстрым быти на чюжая имения» (39).
Для кого было характерно это уже не такое острое, несколько туманное, смягченное представление о прошлых бедствиях? В первую очередь для писателей, близких к верхам, для книгоиздателей и для составителей официальных документов, а значит, и вообще для верхов российского общества. Но «Повесть об Улиянии Осорьиной» выпадает из данного ряда: ее составил сын этой муромской дворянки, вовсе не близкий к верхам, а «Повесть» тем не менее особенно размягченно поминала события Смуты. Следовательно, можно предположить, что новое, смягченное отношение к Смутному времени бытовало и в средних слоях русского общества 1620-х – 1630-х годов.
Подтверждение тому можно найти в старопечатных предисловиях и послесловиях. Все старопечатные издания 1620-х – 1630-х годов предназначались для очень широкого круга читателей: в «Рускую землю бесчисленыя народы человек», «християньскаго народа многочисленаго словеньскаго языка», «всем святым правоверным християном», «всем православным християном», «всем любящим правую веру», «по всей бы своей велицей Русии разсеяти» и т. д. и т. п. (Минея 1618, 4 об.; Минея 1619, 85 второго счета; Апостол 1621, 302; Служебник 1623, 477 об.; Шестоднев 1625, 14 второго счета; Псалтырь 1625, 25 второго счета; Служебник 1627, 260 об.; Учительное евангелие 1629, 593; Триодь 1630, 641; Азбука 1634, 7 послесловия). Но в характеристиках, даваемых Смутному времени в предисловиях и послесловиях, не ощущается того, чтобы издатели навязывали читателям свои оценки, или как-то полемизировали с читателями, или хотя бы стремились разъяснить читателям новые оттенки во взгляде на Смуту. Сходство мнений издателей и читателей подразумевалось само собой. Смягчающее представление о Смуте, по-видимому, широко распространилось в России 1620-х – 1630-х годов в разных общественных слоях.
Но смягченность представлений о Смуте не означала равнодушия авторов к несчастьям. Наоборот, именно к несчастьям, памятным по Смутному времени, авторы относились с особой нетерпимостью и эмоциональностью. Например, авторы болезненно воспринимали возможность даже незначительных разногласий в обществе: «иде же бо аще и мало раскольство счинится, и тамо воставает вражда гнева Божия и мечь ярости…» («Соборное изложение» 403). Видимо, таким отвращением к конфликтам были вызваны странные опасения богатыря в «Повести о Еруслане Лазаревиче». Еруслан, представавший русским человеком («человек есми русин», «руской богатыр» – 115, 116, 126), вдруг «учал думати: взяти мне… кон или ратное оружие, и мне розбойником прослыти» (122) и объявлял во всеуслышание: «А яз, брате, не розбивати хожу, ни красть езжу» (121). Еруслан настаивал, чтобы не смешивали богатырей с разбойниками: «Одно взяти: любо корыстоватися, или богатырем слыти» (107). Действуя, Еруслан очень заботился, как бы не уронить царской чести, «царева честь потеряти» (118), не сам карал, например, злодейского князя, а вел его на суд и расправу к царю. Еруслан все оправдывался перед царем: «Яз тебе, государю своему, не насмехаюся…» (112); «виноват был я пред тобою… а нынеча яз пред тобою справился» (119). Этот юридически осторожный богатырь выдавал отрицательное отношение автора «Повести» к чересчур размашистым, независимым действиям героев, могущим повести к общественному «раскольству». «Повесть» сообщала, что люди, которые царю «грубили», все были казнены (119–120).
Другое явление, к которому после Смуты авторы были очень чувствительны, – это опустошение врагами страны. Недаром Еруслан помогал спасти запустевшее царство, где трехголовая змея «во царстве людей добрых не оставила» (123). В «Повести о разуме человеческом» русский фон отсутствовал, но тема опустошенного царства тоже всплывала23. Авторы с жаром заклинали: «Да не насиловани будем от иноплеменных!» («Сказание» о книгопечатании, 201); «искупи нас от работы вражия!» (стихиры о ризе, 7 об.); «не дай-де бог деяти добро никакову иноземцу и веры няти!» («Повесть о Еруслане», 111). Эмоциональное неприятие несчастий, напоминавших о Смуте, по-видимому, также было распространено в различных слоях российского общества.
Перейдем к следующему элементу в общественных настроениях 1620-х – 1630-х годов. Смягченность представлений о несчастьях прошлого породила одна главная причина – убеждение авторов в благополучии настоящего и ближайшего будущего. Отражения всех этих настроений тесно переплетаются в одних и тех же памятниках. Нужно подробнее сказать о главных, определяющих, разветвленных представлениях авторов о российском благополучии.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































