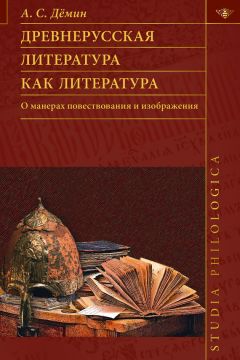
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 35 (всего у книги 38 страниц)
Конец XVII в.: в атмосфере социальной вражды
Прежде чем входить в общественные настроения конца XVII в., дадим необходимый источниковедческий очерк. Конец XVII в. источниковедчески сильно отличается от предыдущего периода: источников, в которых отразились общественные настроения, совсем немного, а соответствующих крупных сочинений наберется едва больше десяти.
Объемистость и содержательность даже самых крупных произведений о настроениях конца XVII в. также не очень велики: например, объем известного печатного «Увета духовного» Афанасия Холмогорского 1682 г. все-таки не идет в сравнение с объемом и богатством содержания знаменитого «Жезла правления» Симеона Полоцкого 1667 г., не говоря уже об «Обеде душевном» и «Вечере душевной». Относительно более обильный материал по общественным настроениям содержат лишь печатные поучения патриарха Иоакима да «Созерцание краткое» Кариона Истомина и Сильвестра Медведева. Это немного. Так что, занимаясь концом XVII в., мы не можем позволить себе роскошь пользоваться только самыми крупными, интересными и знаменитыми литературными памятниками, как это делалось при изучении 1660-х – 1670-х годов. Для конца XVII в. приходится подбирать памятники и помельче.
Привлечение более мелких памятников все-таки не спасает положения. Жанровый состав всей россыпи памятников конца XVII в., характеризующих общественные настроения, оказывается не пестрее, а беднее, тусклее, чем в 1660-е – 1670-е годы. Оригинальных старопечатных предисловий и послесловий, так выручавших нас ранее, – единицы132. Преобладают поучения133 и церковно-полемические трактаты134. К ним присоединяется несколько исторических сочинений135 и ряд грамот136. Художественных повестей и сказаний нет («Повесть о Фроле Скобееве» относится к более позднему периоду); есть, правда, стихотворные произведения137. В общем, на обнаружение ярких эстетических явлений надеяться нельзя. Информация о настроениях получается довольно однообразной. Создается впечатление, что не только в начале XVIII в., но уже в конце XVII в. было «не до литературы»138.
Больше того. На основании имеющихся источников информация об общественных настроениях конца XVII в. составляется не только однообразная, но и однобокая. Дело в том, что, во-первых, удается раскрыть социальные настроения отдельных авторов, но не читательской массы: в печатных и рукописных источниках конца XVII в. обращения к читателям обычно слишком общи и традиционны, и в текстах, как правило, уже не чувствуется той заботы о читателе или тех стараний воздействовать на читателя, которые мы наблюдали, например, у Симеона Полоцкого. Было уже «не до читателя». Во-вторых, раскрываются настроения преимущественно верхов общества, так как подавляющее большинство авторов привлекаемых нами сочинений принадлежали к этим верхам или ориентировались на эти верхи. В-третьих, социальные настроения верхов общества определеннее всего устанавливаются для 1682–1683 гг. или для первой половины 1680-х годов, – для времени первого стрелецкого или, точнее, стрелецко-раскольничьего мятежа, потрясшего верхи общества: больше половины собранных источников относится именно к этим годам, образуя компактную группу. Более поздние источники разрозненны, и совсем нет литературных источников по общественным настроениям второго стрелецкого мятежа 1698 г. Состав источников предопределяет ущербность предпринимаемого анализа.
Характеристику общественных настроений конца XVII в. мы начнем с обычнейшей для русских старопечатных книг темы. В старопечатных предисловиях и послесловиях нередко говорилось о советах и совещаниях царя, патриарха и иных важных лиц по поводу составления и издания той или иной книги. Эту тему уже развивал Иван Федоров. В печатных книгах конца XVII в. эта тема приобрела особый смысловой оттенок. Издатели стали усиленно подчеркивать широкую соборность подобных совещаний: «советова, совещаша же синодално… пред всем священным собором… чтоша, при всех российских архиереех… соборне исправиша… и руками своими подписавшии архиерее суть сии…» (далее следовал длинный перечень подписавших. Устав, 3 об. – 4 об.). Соборы у издателей как бы непрерывно громоздились один на другой, и, хотя авторы не посвящали свои сочинения специально соборам, о череде соборов в книгах повествовалось долго (Увет, 20–40, 61 и сл.).
Широкие и непрерывные сборища и соборы представали у издателей как заграда против всякого зла: «совещаша же синодално… дабы… крамола и спона места не имела…» (Устав, 3 об.); «ради совершеннаго исправления погрешенных вин церковнаго благочиния» (Увет, 40); «понеже тогда вси архиереи, архимандриты, игумены, священники же и диаконы всего царствующего града Москвы мнози те книги несоша ради правды, еже бы, увидя истину в них, престали того зла» (Увет, 61 об.).
Противостоящие злу соборы означали у издателей, пожалуй, нечто большее, чем заседания по церковно-книжным вопросам. Соборы представали как воплощение сил добра, объединители всего положительного, центр притяжения людей. Поэтому издатели старательно напоминали о высокой значительности соборов и совещаний: «собра великий собор в преименитый свой царствующий град Москву», «соизволи убо собору быти во царских его палатах» и т. п. (Увет, 20, 40). Поэтому издатели особенно нажимали на архитщательность соборов: указывалось, что «тщатели» «во оном делании время не малое… трудишася» (Устав, 4); описывалась церемония внимательного рассмотрения, чтения, слушания, исправления документов «на вящшее утверждение и подкрепление» добрых дел; издатели все повторяли, что одному, второму, третьему соборному сидению и рассмотрению «не удовлися», «не доволно вмени», а посему следовали еще соборы и рассмотрения (Увет, 26 об., 31 об., 34, 39 об.). Наконец, поэтому издатели отсылали людей к подлинным документам подобных соборов и совещаний: «Аще ли же кто в чесом усумнится, да идет на печатный царскаго пресветлаго величества двор и в его государской в книгохранителной палате самаго преводу и на нем исправления… и указа, како повелеся делати, да посмотрит…» (Толковое евангелие, 6).
Издатели, конечно, говорили не только о соборах, но и вообще о людях, согласных с соборными решениями. Речи о таких людях нередко были рифмованными. Рифмовка проступала неявно, как случайные глагольные созвучия, например: «дабы вси православнии христиано-российстии народи незаблудным и воздержателным жития путем добраго подвига течение совершали, и присноразрешителным ядем и питием, подобие нечинным пением и празднеством, не церковным типическим повелением сотвореным, не внимали, но, да отческим типиколожением последующе, всякое церковное песнопение по типику совершали» (Устав, 2 об.). А временами рифмовка становилась явственной, что видно по проставленным в книгах ударениям: «И яко же… церковь… от всех христиан содержится, такожде и зде в российском царстве и древле и ныне красится» (Увет, 10); или рифмовка ясна сразу: «Книгу же сию всяк благоразумный читай в ползе и живи благополучно в лете долзе» (Толковое евангелие, 6 об.). Рифмовкой в данных случаях выражался смысловой оттенок некоей замкнутости, объединения вкупе всех «благоразумных». Недаром ритмом и рифмовкой подчеркивался сбор всех «благоразумных» в единое место:
Убо тецыте, тецыте к нему,
жаждущие, без сумнения.
Отворзен есть кладязь,
изчищен источник,
струи независтны,
вода невозмущена,
течет изобилно,
жажду утоляет,
сердца утешает,
очи просвещает,
грехи омывает,
душы спасает и вечное в небе царство обещает.
(«Православное исповедание», 7 об.)
Всех «благоразумных» людей издатели были склонны представлять выделенными в цельное собрание.
Еще яснее и эмоциональнее подобное представление о единой массе всех «благоразумных» людей выражалось благодаря риторическим повторам: «Един Господь, едина вера, едино крещение, един Бог и Отец всем, иже надо всеми и о всех и во всех нас»; «сладко есть видети всюду мир… мног мир любящим церковное благокрасотство, мног мир последующым и покаряющымся…»; «общий смысл всего народа и государства, общий в вере святей разум, общее святых отец учение…»; «тамо пастыри… тамо благочестивии православнии цари… тамо вси людие…» (Увет, 2 ненумерованн., 5, 8–8 об.).
В представлениях издателей присутствовал сильный элемент противоположения «благоразумных» людей людям «неблагоразумным». Это видно по последовательности риторических повторов: «едину православную веру содержим, яже есть святых апостол, яже есть святых отец, яже есть православных всех, яже есть вера вселенную укрепи. Елицы же тако не мудрствуют, прокляти да будут. Елицы же тако не мудрствуют, далече церкве святыя да отженутся. Мы убо древнему законоположению церковному последуем. Мы заповедания святых отец соблюдаем. Мы… проклинаем. Мы… проклинаем. Мы… анафеме предаем» и т. д. (Увет 271–272).
Вполне возможно, что склонность к резкому эмоциональному противопоставительному выделению «благоразумных» людей была свойственна сознанию не только издателей и соответственно общественных верхов, но и всего русского общества конца XVII в. Например, в сочинении старообрядца Евфросина, отнюдь к верхам не принадлежавшего, находим места с длиннейшими словесными повторами и с таким же выделительно-противопоставительным смыслом: «О, елико християне, вонмите и внушите, елицы своему спасению истиннии искателие, елицы евангелския истинны любителие, елицы… послушатели, елицы… пекущиися, елицы… верующе, елицы ведять… елицы слышать… елицы… женущии, елицы желають… елицы тщатся… – сии вси зде с нами днесь снидитеся во умное се истязалище…» («Отразительное писание», 7).
Но вернемся к настроениям верхов. Склонность издателей и стоявших за ними верхов к резкому отделению людей «благоразумных» от людей «неблагоразумных» вытекала из представления о разделенности современного русского общества. Это основополагающее представление имело многообразные литературные формы выражения. Придворные авторы конца XVII в., говоря о внутреннем положении России, нередко использовали традиционные, но наполненные новым содержанием сравнения с морской бурей: в России «пагубоглаголивыя волны лживых словес воставаху, но о каменную благозакония твердь зле стирахуся тии» (Слово на Никиту, 3); «во всем обладании Росийскаго царствия, яко корабль мирную ладию, да… возпасаем… прогнати, яко веслами беззаконное волнение, да не опровержется… паства волнами неправды» (апрельская грамота, 167–168); «корабль, волнующийся среди пучины волн» (поучение для патриарха, 498); «паки воздвижеся житейское море бедоносными яростми волны, яже своим свирепым гнева волнением мало-мало не опроверже росийскаго гражданства и царскаго величества само державства» («Созерцание», 94). Волны и твердь, волны и ладья, пучина волн и корабль, яростное море и «самодержавство», буря и нечто, противостоящее ей, – так о России, о ее внутриполитическом (а не внешнеполитическом) состоянии сочинители раньше не писали. Придворные авторы конца XVII в. испытывали ощущение глубокой разделенности русского общества.
Конечно, авторы использовали и иные сравнения, менее броские. Например, внутренняя разобщенность в обществе символизировалась образами пшеницы и плевел: «во многоплодном поле… яко плевелы истребляти» (сентябрьская патриаршая грамота, 371). Ощущение разделенности общества было устойчивым. И эту разделенность чувствовали не только верхи. Например, у старообрядца Евфросина, когда он касался той же общественной темы, появлялось сравнение с тем же смыслом: «Но иде же пшеница, ту и терние родится, и звонець и волчець задавляють класы» («Отразительное писание», 9).
О положении общества авторы неожиданно заговорили и стихами в прозе:
Царем ли подобает повиноватися
или за мужики безумными гонятися,
презрев их?
Пастырям ли истинным послушание лучши отдавати
или бесноватым таимичищным врагом внимати?
В пастве ли достоит быти
и под началом
или, яко скоту, без пасения на всякия грехи и своеволю
бродити?
Мудрых ли и разумных слушати достоит
или кто безумствует?
Воздержным ли людем сокровища вверяют
или пьяницам и вертопрахом то предавают?..
(Увет, 72)
Строка положительная – строка отрицательная. Этой формой рассуждений подчеркивалась мысль о раздвоенности общества.
То же впечатление резкой разделенности общества испытывали авторы, далекие от верхов. Например, причисляемый к демократической сатире «Стих о жизни патриарших певчих» также был насыщен построчными противопоставлениями139:
Чюжые кровлю кроют, а свои голосом воют…
Овому честь Бог дарует, овии же искупают.
Овии трудишася, овии в труд их внидоша.
Овии скачют, овии же плачют.
Инии веселяшеся, инии же всегда слезящеся (235).
Конкретные поводы для настроений у разных общественных слоев выступали разные, но общее социальное впечатление сходилось. Документы признавали: «множатся церковные противники… развратники же святыя церкве там умножаются… противники умножились… урастает на святую церковь противление…» (ноябрьское постановление, 109, 110, 117). Авторы сочинений отмечали «многия разности и несогласия и от того смущение и… бываемую молву» (Устав, 3); «велия беды, величайшия напасти, многия раздоры и нестроения» (Увет, 3); «в нынешнее злолютством кипящее время от злых человеков» (послание патриарха Иоакима, 143).
С конца же 1680-х годов все авторы повторяли бесконечно: «ныне суть великия… вражды и беды несказанныя и злыя друг на друга вымыслы», «великия пакости и нестроения и разрушения», «смута и мятеж в государстве делается» («Созерцание», 18, 27, 38 и мн. др.); «в царствующем граде Москве… крамолы и мятежи творяше и ереси всеваше» (постановление до 1689 г., 338); «творят ненависти друг друга, распри, раздоры, свары, нестроение, мятежи и всяку злую вещь… в российском народе между человеки ненависти соделаша, несогласии устроиша ко распрям, раздором и мятежом (избави, Боже, от браней и кровопролития)…» («Известие», 40); «свары и распри, вражды и ересь…» («Слово поучателное», 116)140. Старообрядческие писатели не отставали от писателей придворных в подобных жалобах: «…много смятения о том в народе… сомнение и мятеж в наших душах христианских» («История», 133).
С конца 1680-х годов представления авторов о раздробленности общества усугубились; в России, судя по авторским высказываниям, ссорились все со всеми: «начаша люди зело ради неправд и нестерпимых обид себе стужати и друг на друга глаголати, яко той неправду дает, иный на того, наипаче же на временников и великих судей и на началных людей» («Созерцание», 37); «словесы ласкаем, но делы снедаем всех люте» («Рифмы», 89); «паче день дне и час часа… между духовными и мирскими людми то умножают» («Известие», 40).
Усилившееся ощущение враждебности социальной обстановки испытывали авторы не только близкие к верхам, но и из других общественных слоев. Недаром старообрядец Евфросин не без иронии, но и не без ожесточения заменял образ спора с противной стороной образом сражения: «Жестоко ты рыкнул, яже зде азь услышаль. Звягомая вамь песня во уши наши вниде. Дано ти было время, да покаешися о своемь деле, а понеж отринул и к правде не возникнул, ступай же в поле сечися с сопротивуборцемь… лукь к бедре повешай, копие же скоряе в руку, щитом заслонися, конем в рати несися, стреляй, прободай, ногами потопай, аще еси силень, и в смерть уязвляй» («Отразительное писание», 4; ср. еще 7, 25, 28 и др.).
Разделенность общества в некоторые моменты ощущалась как распад общества. В большом летописном «Описании о сем, еже содеяся грех ради наших по преставлении царя Феодора Алексеевича всея Росии во царствующем граде Москве, колико бысть смятение и убийство между собою православных хрестиян в народе» приводились знаменательные слова стрельцов к властям: «Мы, рече, и сами, взяв жен своих и детей, пойдем из государства вон… А когда вам надобны воры, и вы с ними оставайтеся в государстве своем. Мы же и сами пойдем в ыное царство…» («Летописец», 197). Показательно, что в печатной книжечке, содержавшей службу, житие и поучение об Иоанне Воине, автор чрезвычайно часто возвращался к одной и той же теме: он обличал «зломысленных рабов бегство», «злобных рабов бежание», «зломысленне рабов от господей бегания», «суетное и злокозненное рабов и рабынь от господей бегание», «бегство человеков служащих из полков или из домов или из вотчин» и т. д. (Служба, 1 об., 2, 7 об., 16 об., 60 и др.)141. Таковы были основные формы выражения писателями конца XVII в. их ощущений, впечатлений, представлений о разделенности современного им русского общества.
Писатели резко разделяли, с их точки зрения, «благоразумных» людей и людей «неблагоразумных». Тьма эпитетов обрушивалась на головы противной стороны: «злые человеки», «мятежники святыя церкви», «крамолники», «самомненные», «самозаконнии же и своеобычнии и само волнии человецы», «вредословцы и возмутители» и пр. Это самые частые прозвища раскольников и бунтовавших стрельцов верхами общества только из двух книг 1682 г. – «Слова на Никиту Пустосвята» и «Увета духовного».
Рельефный обобщенный облик толпы «мятежников» и «крамолников» был выработан в верхах общества довольно быстро. Это видно по капитальным перечням запретных действий в грамотах – плодам типизаторской работы верхов, например: «многолюдством и с невежеством и с шумом не приходить и никакой наглости не чинить… о всяких делех бить челом вежливо и нешумко, и ни на кого ничего не затевать, и ничем ни к кому не приметываться, и не клепать… и ни в какие чюжие дела не вступаться никоторыми делы… собою ни с кем не управлятися… людей и крестьян… свойственниками их не называть»; о смуте «не токмо говорить, и мыслить не надобно»; еще хуже «буде кто… прежние дела учнет хвалить» (октябрьские указные статьи, 386–387).
Противная сторона в поучениях конца XVII в. выступала обязательным, предрешенным источником зла; отсюда вопросы и неуклонные ответы авторов: «Кто брань воздвиже? – Самозаконный. Кто смущение и в людех крамолу сотвори? – Самозаконный и своеволный. Кто упивается и ум свой богодарованный… погубляет и кто святую церковь презирает и ей не покаряется? – Все самозаконный» (Увет, 3 об. – 4). В процитированном отрывке из «Возглашения увещателного» патриарха Иоакима, напечатанного в «Увете духовном», упоминание об упивающихся да и вся конструкция вопросо-ответов, вероятно, восходили к соответствующему месту старинной «Повести о Хмеле» и тем способствовали лепке облика «злых человеков» конца XVII в.
Выделение «злых человеков» в единую группировку у писателей, выражавших представления верхов общества, подчеркивалось также и теми средствами, которые использовались для выделения людей «благоразумных», – риторическими повторами и рифмовкой: «А которым сообщник кому в коих делех бывает, той с оным в тех делех и воздания участник бывает… Таковии бо воистинну не суть сынове церкве, не суть государям своим вернии слузи, не суть благочестию помощницы… не сопротивляются… не заступают… не болезнуют… не творят» (Слово благодарственное, 97–98, 102–104).
Но особенно едко писатели отделяли «злых» людей от «благоразумных», когда заговаривали о невежестве. Невежество объявлялось кардинальным признаком противной стороны. Этот порок врагов мастерски выставлял и обличал в свое время Симеон Полоцкий. А в конце XVII в. обвинения в невежестве получили грандиозный размах. Раскольники и бунтовщики характеризовались у писателей прежде всего как «безумные человеки», «неразумливии человецы», «неискусные человеки», «глупые», «малоумные люди», «неученые люди», «грубии», «безразумны», «малосмыслящии», «не верящии божественнаго писания», «словес силы не разумеют», «не уведевше силы словес», «не знающие писания», «писания не умеющие», «ничего не знают». Ругательства так и сыпались: «невегласы», «невежды», «простии невежды», «оные расколники грубые мужики», «мужики-пропойцы и бесноватыи неуки», «простолюдини и незнающии», «неуки, простаки непосвященнии», «мужички-орачики», «пустачи». Их мысли и писания обзывались соответственно: «срамный их ум и лестное учение», «бабии басни», «безумие», «мракодержимая словеса», «безумные писма», «неразумие», «безумство», «паучинное их ткание», «скудость ума», «глупство», «грубость и глупость», «невежество», «несмыслство», «разума неимение», «простые разглаголства и шутства», «безделство и своеумие». (Приведены выражения из «Слова на Никиту», «Устава», «Увета», сентябрьской патриаршей грамоты, «Книги приветство», «Слова благодарственного», поучения для патриарха, «Созерцания», «Известия», «Щита», «Православного исповедания», «Толкового евангелия», а также из «Отразительного писания».)
Невежество своих противников верхи общества превращали в абсолютно непреодолимое качество: «и таким неуместным слепцом и невегласом писания божественных книг знати есть невозможно», «таким невеждам… полагати разсуждения не подобает» (Слово на Никиту, 7, 29–29 об.); «не лучилося им грамматическаго, не токмо философскаго и богословскаго, учения видати, знати же – ни» (Увет, 264 об.); «не могут право разсуждати» («Созерцание», 92); «яко святый апостол вещаше: не во всех бо есть разум»; «сам же малосмыслящий и не учився да не разсуждает безделством и своеумием» (Толковое евангелие, 3, 6). Подобные же отсекающие утверждения, в свою очередь, использовали и старообрядцы: «Не могут они окаянники книжнихь словь разобрати, когда можеть слепая узоры вышивати» («Отразительное писание», 87–88). Рассекание общества на взаимоисключающие группировки возобладало в умах.
Господствовавшее в верхах и низах умонастроение разделенности общества сопровождалось комплексом дополнительных социальных чувств. Верхи отдавали себе отчет, что «простолюдины, не ведая истинного писания», «такожде неразумии суще»; что «злии человецы… учат невеждей и простых людей»; «простой народ возмутили», «блазни испустиша в простый народ», «яко и мужик вереща песнь ину»; что «безумнии невегласи-мужики, иже не знают истинно и аза, с ними же», то есть со «злыми людьми»; что «болшая часть не наказанных поселян в них»; что с ними «и инии невежди-миряне и неуки, самыя худыя люди и ярыжныя з кабаков пропойцы» (ноябрьское постановление, 117; Слово на Никиту, 3 об., 25 об.; Увет, 57 об., 64, 13; «Книга приветство», 19; Слово благодарственное, 42; «Созерцание», 59; и др.).
И вот чувства: верхи желали как можно дальше отодвинуться от «невежд» и поэтому давали себе волю в уничижениях. Уничижительность могла быть не очень заметной, когда писатели бегло касались мнений «невежд»: «На Москве всяких чинов люди пишут в тетрадех и на листах и в столбцах выписки, имянуя из книг божественнаго писания…» (ноябрьское соборное постановление, 117); «мнози неразумливии человецы всякаго чина – священники, монахи, и простии, по монастырям и пустыням, во градех, по (так!) домах прелстишася, мнящеся быти во святом писании разумни»; «яко бы лучше хощет написати, а разумом своим не может того слова ради неискусства познати» (Слово на Никиту, 57); «мнятся мудри быти» (поучение для патриарха, 258); «мнящымся некиим ведение закона и писаний имети» («Щит», 498). Так же не силен был тогда и саркастический оттенок: «не ведяще яже глаголют и о чем утверждаются» (Слово на Никиту, 3 об.); «не разумею ще ни яже глаголют и ни яже утверждают», «и что глаголют и что пишут, – не знают» (Слово благодарственное, 35., ср. еще 37).
Намеренное уничижение становилось явственным, когда писатели приступали к разбору речей и писаний раскольников и мятежников. Рисовались комические сцены их полнейшей неосведомленности: «Иже вопрошени быша о вере: Что есть вера? – И они ея не знают. Вопрошени о книгах: Кия новыя книги и кия старыя и что писано? – Отнюд не разумеют»; «вопрошени же: Что есть вера и кая старая в новая? – Ничего не знают» (Увет, 13–13 об., 65 об.); «Что есть вера и какая старая и новая? – И они… сказаша бо, что ничего не знают» («Созерцание», 86); «глаголют… яко бы зде, в российской церкви, учинилася вера новая, а какая новая вера и что есть вера, – того не знают» (Слово на Никиту, 5 об.). О том же в ином, гротескно-высоком стиле: «Воздуваху скверными усты лживыя ветры учения и, яко пеною текущими, безгласием противу истины связани, демонствуеми же, упором скрежещуще зубы, оцепенеша» (Увет, 16 об.).
Саркастически цитировались речи противной стороны: «И еже бы перво что съделано и болши бы того ненадобно» (Увет, 260); «Тогда и тогда пиян бех и похвалихся без ума и церковное торжество во праздники Господня проспах»; «Како сей чин в церкви и для чего творится тако? Несть в том ползы: человек сие содела; без того жить мощно» (поучение для патриарха, 258).
Ход мышления противной стороны представал странным, «вещаю ща странная ушесам человеческим»: «Кричаще: “Победихом, победихом”, – а что – неведомо что» (Увет, 54 об., 69); мысли противной стороны показывались сбивчивыми: «ово не в том разуме… полагают, ово лукаво толкуют, ово точию начало емлют, ово средину, ово конец»; утверждения представали не соответствующими друг другу: «Глаголют… яко уже ныне антихрист в мире, друзии же глаголют, яко уже и царствует; инии глаголют, яко вскоре имать православных рабов христовых мучити»; высказывания противной стороны представали алогичными: «Начаша всех нас, правоверных, нарицати не православными христианы, но еретиками и богоотступниками, и церкви святыя не церкви глаголюще, но простыми храминами и конскими стоялищи» и т. д. (Слово благодарственное, 73, 77, 39; ср. еще: Слово на Никиту, 6 об., 28 об.; Увет, 12 об. – 13, 54 об. – 55; «Созерцание», 77; «Известие», 72 и др.).
Да и что требовать с них, если это все «неуки-мужики и бабы говорили невозбранно, собиралися бо… все мужики простыя купами» («Созерцание», 76); «и не токмо мужие, но и жены и детищи испытнословят… у мужей и жен то и слово» («Слово поучателное», 3–3 об.).
Обычные места сборищ противной стороны говорят сами за себя: «Злии человецы, иже по дворах, истиннии суще волки, тайно ходяще», «из лесу и ис кустов приходяще» (Слово на Никиту, 25 об, 29 об.); «паки ис кустов и от ветров»; «они расколники живуще по кустам, по лесам и по дворам всякого чина люди духовнаго и мирскаго»; «бродяги» «в лесу и щелях содержатся… в дебрях непроходных и незнаемых» (Увет, 54, 56 об., 63 об., 72 об. – 73 и др.). Раздраженное презрение к низам явилось одним из ведущих социальных чувств верхов общества в конце XVII в.
Но аналогичные чувства не были чужды и низам. В разных слоях русского общества конца XVII в. существовал определенный параллелизм чувств. Например, старообрядцы испытывали сходное презрение к «невеждам» – к отделившейся от них секте «капитонов». Обильно отразилось это ироническое презрение в сочинении Евфросина: у «капитонов» «в огонь да в воду толко и уходу»; «тетратки свои чтучи, Евангелия не весте»; «а то вы, бедныя, вси на тетратках пали, а книги все попрали»; «а мужик тот, што мерен-дровомеля деревенской… вякаеть и бякаеть»; «вякает, бедной, что кот заблудящей»; «яко ершь из воды, выя колом, а глава копылом, весь дрожа и трясыйся… брада убо плясаше, а зубы щелкаху»; «и скакал ты, веселяся, на одной ношке вертяся» и т. д. и т. п. («Отразительное писание», 38, 42, 44, 49, 51, 57 и др.). Игрой слов выражалось представление о полной никчемности «капитонов»: «И ты-су Данило Шунской, шумитель, полно шуметь»; «проповедник Назарь пришествие намь сказаль» и т. д. (46, 51 и др.). Не забыто было и уничижение «капитонов» местом их деятельности: «а самь “из свинарника в свинарникь и по хлевамь все быраешь”» (слоняешься); «достойни они окаяннии со свиниями жировати» (58, 83).
У общественных низов тоже проявлялись презрение и сарказм по отношению к верхам. Правда, примеров этого сохранилось мало. Но вот некоторые из них. В старообрядческой «Истории о вере» Саввы Романова не без иронии отмечалось: «и бросился из кута холмогорский епископ пустобородый… и нача громко говорить, а речей не слыхать»; передавался отзыв стрельцов о властях: «Добром с ними не разделаешься, пора-де опять за собачьи кожи приниматься» (138, 147). В антистарообрядческом «Щите веры» не без причины начислялся раскольникам еще один грех: «осмеявающе предания церкве» (498). Произведение демократической сатиры – «Калязинская челобитная» – еще пример тому. В разных общественных слоях конца XVII в. ощущению резкой разделенности общества неизменно сопутствовало в той или иной степени презрительно-ироническое отношение к противоположной социальной или идеологической группировке.
Комплекс социальных настроений конца XVII в. включал еще одно распространенное чувство. Особенно оно было характерно для верхов. Судя по обобщающим формулам и определениям в сочинениях, верхи постоянно чувствовали острую враждебность низов, их «злое умышление», «безумное невежливое прекословие», «злое безумство и упор», «буесть и невежество»; верхи видели в низах «злоделцев, бедне ся взносящых и о господстве зело не радящих»; верхи знали, что низы «всем ученшым себе людем не благожелателствуют», что они «великих государей указом во всем чинятся противны», «бьют многих знатных и честных людей…», что «уже бо в царствующем граде гнев Божий от налогов началнических и неправедных судов возгаратися нача и мысли у людей такожде начата развращатися», что «служивыя… возсвирепели тако, яко никому же дающе с собою и глаголати», что низы «возмущают все государство»; верхи считали, что низы хотят «властей поставить, кого изберут народом», «для того, чтобы им Московским государством завладети», что «тщахуся безумнии и глупии государством управляти», «невегласом-мужиком владети или началствовати людми разумными и величайшим господам и самодержцам всего многонародного государства указывати» (июньская челобитная, 360; Слово на Никиту, 23 об., 25 об., 26 об.; Увет, 68 об.; сентябрьское письмо, 369; сентябрьская окружная грамота, 373, 375; «Книга приветство», 19; «Созерцание», 40, 57, 58, 119; «Известие», 41).
Понимание верхами социальной опасности рождало на первых порах внешне решительные рифмованные угрозы: Бог «вредословцем и возмутителем тщетновозносимыя на ню гордостным беснованием ломит роги, но и текущия на зло ноги, яко вдавшеся суете и не сташа на правоте благочестия»; «сокрушал бо и сокрушит проклятым лжесловцем не токмо зубы, но досады вещающь изрежет язык и губы» (Увет, 6 об., 244). Но затем такие угрозы больше не повторялись, а сменились многочисленными призывами к уклонению от инакомыслящих, не к бою с ними: «от таковых прелестников сообщения и собеседования, яко от змий, бегайте и от учения их прелестнаго, яко от яда смертоносна, гонзайте… и в домы их себе не приемлите и к ним не входите, но весма, яко от смертоносныя язвы, уклоняйтеся» (Слово благодарственное, 85–86). Сами названия полемических противораскольнических книг имели в первую очередь скорее оборонительный, чем наступательный смысл – «Остен», «щит веры»: «аще же Остну сему напрется кто-либо, той, яко саул, прободется, и, яко арий, он разсядется, и, яко Иуда-предатель, излиет внутренняя своя» («Остен», 424); «книга Щит веры… иже защищает… от ражженных лукаваго стрел, пущаемых на святую восточную церковь… Сим Щитом, читателие православнии, от блядословцов защищайтеся…» («Щит», 502). В конце XVII в. верхи по своим эмоциям больше находились в обороне, чем в наступлении.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































