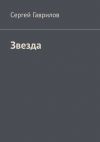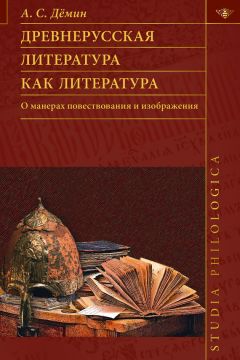
Автор книги: Анатолий Демин
Жанр: Языкознание, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
Летописцы тоже относились к подобным остановкам и «стояниям» как к должному, никак не комментируя их. Такое представление об обязательном «стоянии» летописцы переносили и на прошлое, на времена Владимира Мономаха: «Володимиръ самъ собою постоя на Дону и много пота утеръ за землю Рускую» (303, под 1140 г.). Между тем ранее в той же «Киевской летописи» нигде не говорилось о том, чтобы Владимир Мономах где-нибудь «постоял».
Чрезвычайно частые же упоминания «стояний» появились в летописи оттого, что летописцы старались очень подробно, досконально, рассказать о походах русских князей. В результате создавали впечатление медлительного развития событий перед сражениями («стоимы сде, – чего достоимы сде?» – 425, под 1151 г.). Поэтому летописцы крайне редко, лишь в единичных случаях отмечали передвижение персонажей «вборзе» (а чаще наоборот: «поиде потиха, ожидая брата своего … и ста» – 357, под 1147 г.).
Но где-то с 1170-х годов в воинских рассказах «Киевской летописи» происходит перелом. О «стоянии» русских князей почти не упоминается, зато князья сплошь и рядом стали действовать «вборзе» («поехаша вборзе», «поиде поспешая», «наборзе устремившеся на них» и пр. – 539, 631, 691, под 1170, 1183, 1195 гг.). Редкие случаи стояния теперь все равно кончались «борзостью» («ждавъ многы дни … поиде вборзе» – 619–620, под 1180 г.). Персонажи требовали быстроты («поеди ко мне в борзе» – 671, под 1190 г.). Отсутствие «борзости» теперь приходилось чем-то оправдывать («князем же рускимъ не лзя бо ехати по них уже борзо: сполонился бяшеть Днепръ, бе бо весна» – 652, под 1187 г.).
И напротив, половцы предстали останавливающимися и медлящими в летописи, начиная с 1180 г. Они не то что стоят, но лежат: «лежахуть без боязни, надеючеся на силу свою» (622, под 1180 г.); «а половци восе лежать» (654, под 1187 г.); «половци … лежать … по сей стороне Днепра» (677, под 1193 г.) и др.
Идейно-фразеологическая перемена в последней части «Киевской летописи», помимо военных обстоятельств, которые еще надо исследовать, могла произойти, возможно, и под влиянием предполагаемой семейной хроники Ростиславичей (великого князя киевского Ростислава Мстиславовича и его сыновей и внуков) за 1170—1190-е годы.
Перемена не была абсолютно резкой. Показательна, например, широко известная летописная статья под 1185 г. о неудачном походе новгород-северского князя Игоря Святославовича, дальнего родственника Ростиславичей, на половцев. Старое и новое здесь сочетались. Русские по-старому медлят («и тако идяхуть тихо, сбираюче дружину свою» – 638), но теперь их уже торопят («да или поедете борзо, или возворотися домовь» – 639). Но и половцы, соответственно новой тенденции, тоже уже стоят («половци стоять на Хороле», «Кончакъ же стоялъ у лузе» – 635, 636, под 1184 г.; «стояхуть на онои стороне рекы», «силы половецькии, которие же далече рекы стояхуть» – 639, 640, под 1185 г.).
В общем, воинские рассказы «Киевской летописи» оказались повествовательно разнотипными, к тому же слабо связанными друг с другом – каждый рассказ, пожалуй, составлялся без оглядки на предыдущие, и все они вкупе образовывали в лучшем случае нечто вроде сборника.
В заключение остановимся на «Галицко-Волынской летописи» как литературном целом, а не в текстологическом ее делении на части. Военные эпизоды «Галицко-Волынской летописи», как и в «Киевской летописи», связаны традиционными воинскими формулами. Относительно новым явилось постоянное внимание галицких летописцев к взятию и величине «полона» – наверное, в духе корыстного ХIII в., несмотря на рыцарственность воинских рассказов.
Однако самым интересным связующим звеном в летописи стали необычно частые упоминания чувств летописных персонажей – буквально в каждой пространной статье. Эти упоминания, как правило, были трагичны: плакали, скорбели и «сожалели» не только об умерших, погибших или пострадавших (например: «беспрестанно плакашеся… слезы от себе изливающи, аки воду… вопиюще»6; горевали и досадовали от поражений, разорений и иных неудач («сжалиси о срамоте своей» – 248, под 1212 г.; «и бысть плачь обиде его» – 314, под 1250 г.; «тужаху и плеваху» – 340, под 1258 г.; «еще бо ему не сошла оскомина Телебужиной рати» – 418, под 1289 г. и мн. др.); а еще пеняли за неуместную черствость («чему о насъ не сожалитеси?» – 270, под 1229 г.).
На этом печальном фоне радость или веселие персонажей упоминались очень редко (типа «в пиру веселящюся»; «прияша и с радостью»; «и ради быша вси людье» – 276, 358, 390, под 1230, 1263, 1287 гг.).
Зато трагичность добавляли обильные и – главное – разнообразные упоминания о боязни и страхе персонажей, как русских, так и не русских: «смятеся умомъ» (264, под 1226); «бе бо ему боязнь велика во сердци его» (268, под 1228 г.); «страхъ имъ бысть от Бога» (276, под 1230 г.); «вложи Богъ страхъ во сердце ихъ» (336, 338, под 1256 г.); «видя беду страшну и грозну» (312, под 1250 г.). Ужас: «ужасъ бысть в нихъ» (340, под 1258 г.); «страхъ обья вся человекы и ужасть» (360, под 1264 г.). Летописцы даже рисовали сочные картинки испуга персонажей: «малодушна блюдящася о преданьи града, изиидоста слезнами очима и ослабленомь лицемь, и лижюща уста своя … и реста с нужею» (288, под 1235 г.). Персонажи с переменным успехом призывали своих людей не бояться врагов: «страшливу душю имате… Ныне же почто смущаетеся?» (284, под 1234 г.); «да не внидеть ужасъ во сердце ваше» (332, под 1255 г.). Редко когда летописцы восхищались непреклонной мужественностью отдельных персонажей (например: «придоста с тихостью на брань. Сердце же ею крепко бе на брань и устремлено на брань» – 308, под 1249 г. Прямо-таки стихотворные строки!).
Причина этого неизбывного трагического мотива в «Галицко-Волынской летописи», конечно же, заключалась в коварной татарщине и в крайне усложнившихся отношениях между русскими князьями. Недаром летописцы с необычной частотой порицали «лесть», обман и лживость, присущую врагам Руси и царившую в самом русском обществе: персонажи «имеяху бо лесть во сердце своемь» (230, под 1202 г.); «льстивъ глаголъ имеют» (286, под 1234 г.); «речи ихъ … полны суть льсти» (300, под 1240 г.); «злобы бо ихъ и льсти несть конца» (314, под 1250 г.) и т. д. и т. п. Сначала русские и иные персонажи не разбирались в хитроумии татар: «Не ведающим же руси льсти ихъ… Их же прельстивше, и последи же льстию погубиша. Иные же страны … наипаче лестию погубиша» (260, под 1224 г.). Потом персонажи стали повсеместно недоверчивы к врагам и недругам, своевременно «усмотревъ лесть ихъ» (422, под 1291 г. и мн. др.).
Отношения между князьями были отвратительны. Их снедали гордыня, зависть, вражда, ненависть, злоба, гнев («гордость имеющим во сердци своемь» – 306, под 1246 г.; «гордяся своимъ безумьем» (380, под 1282 г.); «исполнившимся зависти и льсти … возьярившимся на нь» – 332, под 1255 г.; «вражду имеяше» – 260, под 1224 г.; «на престааше о злобе своей» – 302, под 1241 г.; «вложи дьяволъ ненависть» – 376, под 1281 г.; «гневахуся вси князи … вси гневахуться» – 368, под 1274 г. и т. д.
Правда, летописцы частенько упоминали и о «любви» между князьями или между князем и горожанами: но то была дипломатическая «любовь», обозначавшая мирные отношения – желаемые или установившиеся на какое-то время: «клялася бо беста … любовь имети» (238, под 1203 г.); «хотя имети с ним любовь» (294, под 1238 г.); «прияста и с любовью» (282, под 1232 г.); «любляхуть же и гражане» (288, под 1235 г.). При этом летописцы сетовали и на отсутствие любви: «не любящим» (240, под 1204 г.); «не живяше с нимъ в любви, но воевашеться с нимь… забывъ любви…» (358, под 1274 г.).
В сознательности внимания летописцев именно к этим трагическим или отрицательным чертам современности убеждает, в частности, некрологическая похвала волынскому князю Владимиру Васильковичу под 1288 г., где эти черты перечислены в соответствующем положительном контексте: «Сий же благоверный князь Володимерь … кротокъ, смиренъ, незлобивъ, правдивъ … не лживъ … любь же имеяше ко всимъ, паче же и ко братьи своей … мужьство и умь в немь живяше, правда же и истина с нимь ходяста … гордости же в немь не бяше… и воздыхание от сердца износя и слезы от очью испущаше…» (408, 410).
Есть у «Галицко-Волынской летописи» еще одна примечательная особенность: летописцы не просто упоминали чувства персонажей, но доводили их до максимума. Печаль чаще всего была «великой»: «бысть в печали величе» (294, под 1238 г.); «печалуя … по велику» (356, под 1262 г.); «с великою жалостью» (298, под 1240 г.); «сжалиси велми» (346, под 1269 г.); «нача болми скорбети душею» (312, под 1250 г.); «с плачемь великимъ» (406, под 1288 г.) и мн. др.
Но и радость была «великой». Обычно летописцы отделывались формулой «радость бысть велика» или ее синтаксическими вариациями. Только однажды летописец отступил от стандарта: персонаж «от радостии воскочивъ и воздевъ руце» (356, под 1262 г.). На радость летописцы реагировали скупее, чем на горе.
Кстати и «великая любовь» между персонажами в летописи также была формальной. Летописцы ее обозначали многократно повторяемой шаблонной фразой: «начаша быти в любви велице». При том не упускали случая отметить и великую нелюбовь: «не любовашеть велми» (358, под 1262 г.); «бысть межю има болше нелюбье» (386, под 1283 г.); «нелюбье бысть велико» (390, под 1287 г.).
Естественно, великими были и прочие отрицательные чувства у персонажей – вражда, гнев, гордость, страх: «самъ хотяше всю землю одержати … с великою гордынею; едучю … гордящу, ни на землю смотрящю … видящю … гордость его, болшую вражду на нь воздвигнуста» (300, под 1240 г.); «великъ гневъ имея» (250, под 1213 г.); «бе бо ему боязнь велика во сердци его» (260, под 1228 г.); «стояше в ужасти величе» (350, под 1261 г.) и т. д. Даже сам летописец поражался: «пристраньно видити!» (272, под 1229 г.).
Традиционное в литературе преувеличение силы чувств тут сыграло какую-то роль. Но повсеместная густота преувеличений в летописи появилась, по-видимому, под влиянием представления летописцев о крайней напряженности окружающей действительности. Отсюда их известная характеристика своего времени: «Начнемь же сказати бещисленая рати, и великия труды, и частыя войны, и многия крамолы, и частая востания, и многия мятежи. Измлада бо не бы … покоя» (266, под 1227 г.). В характеристике под 1229 г. добавлено: «По семь скажем … великия льсти…» – 274).
В итоге, главным связующим фактором «Галицко-Волынской летописи» служило единство настроения летописцев, превратившее эту летопись в нечто вроде бесконечной саги; вернее, первоначальную сагу летописцы формально подчинили погодному изложению. После работ А. С. Орлова, Н. К. Гудзия, Д. С. Лихачева, В. Т. Пашуто, И. П. Еремина и других исследователей «саговость» «Галицко-Волынской летописи» представляется, пожалуй, несомненной.
Итак, протоцикл – «сериал» – сборник – «сага». Причина «размывания» внутрилетописных прото-циклов заключалась в том, что циклы рассказов или эпизодов в составе летописи относились к архаической литературной традиции. Недаром истинной цикличностью рассказов, следовавших сразу друг за другом и связанных тематическими, композиционными и фразеологическими повторами, отличались только очень старые произведения, переводные и оригинальные, – например, «Хождение Богородицы по мукам», подчеркивавшее повторами сердобольность Богородицы и бесконечность мук грешников; «Житие Феодосия Печерского» Нестора с параллелизмом поведения двух идеальных подвижников – Феодосия и Варлаама; «Хождение» игумена Даниила, однообразно очарованного сохранностью и благоустроенностью святых мест Палестины.
Подтверждают наше предположение также старые циклы иного вида, составленные не из рассказов внутри одного произведения, а из разных произведений. Особенно характерно «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона по списку середины ХV в., неизвестно когда и кем объединенное с приписываемыми ему большой «Молитвой» и отнюдь не коротким «Исповеданием». Фразеологические переклички между этими тремя сочинениями настолько многочисленны, что не оставляют сомнений в образовании цикла, воспевавшего славу и спасительность христианства, человеколюбие и милостивость Бога и пр.
Упомянем также летописный рассказ «О убьенньи Борисове» из «Повести временных лет» и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе», фразеологически очень близкие. Правда, это, в нашем понимании, не цикл, так как оба произведения рассказывали об одном и том же событии и не были объединены в одной книге или сборнике. Продолжатель и повторитель летописной статьи анонимный автор «Сказания» (придерживаемся мнения С. А. Бугославского о связи данных памятников) положил лишь возможное начало циклу иного типа, существовавшему лишь в памяти книжника и выпячивавшему во многочисленных фразеологических повторах фактическую историю убийства названных князей. За таким «источниковедческим» циклом было будущее.
А пока цикличность уже не понадобилась. Знаменательно в этой связи, что помещенные в известном «Сильвестровском сборнике» середины ХIV в. «Чтение о Борисе и Глебе» Нестора и анонимное «Сказание о Борисе и Глебе» не воспринимались составителем как цикл, а, напротив, они остались фразеологически и в деталях настолько отличавшимися друг от друга, что создателей этих произведений можно заподозрить в намерении во взаимном стилистическом отталкивании, а составителя сборника – в равнодушии к литературной циклизации старого типа.
На основе сделанных наблюдений можно также предположить, что для древнейших книжников важны были не произведения как самостоятельное явление, а массивы сочинений, разрабатывавшие и продолжавшие те или иные темы до бесконечности в форме книг, сборников, писаний сложного состава. «Массивность» древнерусской литературы надо исследовать специально. Ведь Д. С. Лихачев неоднократно говорил об «ансамблевом» и «анфиладном» характере литературы Древней Руси.
Примечания
1 Беседы с летописцем: Поэтика раннего русского летописания. М., 2002.
2 ПСРЛ. М., 1997. Т. 1 / Текст памятника подгот. Е. Ф. Карский. Стб. 282, под 1107 г. Страницы указываются в скобках.
3 Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Изд. подгот. А. Н. Насонов. М.; Л., 1950. С. 22, под 1128 г.
4 Еремин И. П. Киевская летопись как памятник литературы. М.; Л., 1949.
5 ПСРЛ. М., 1962. Т. 2 / Текст летописи подгот. А. А. Шахматов. Стб. 466, под 1153 г.
6 ПЛДР: ХIII век / Текст памятника подгот. О. П. Лихачева. М., 1981. С. 408, под 1288 г. Далее страницы указываются в скобках.
Изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» и архаичность его повествования
Изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» составляют предметные детали, упоминаемые автором то как реалии, то как иносказания с символическим смыслом.
Предметные ассоциации автора в «Слове», то есть прямо не высказанные, а лишь косвенно выраженные представления о материальных качествах предметных деталей, по-видимому, самый маленький и незаметный элемент картинного повествования, которое нас и интересует начиная с его истоков.
Исключительно ценным трудом для нашей темы является книга В. П. Адриановой-Перетц «Слово о полку Игореве и памятники русской литературы ХI–ХIII веков» (Л., 1968). В сущности, мы попытались дополнить корпус наблюдений В. П. Адриановой-Перетц некоторыми относительно новыми фактами, более или менее доказуемыми текстом «Слова». Ведь устойчивые ассоциации автора «Слова», кажется, никто не изучал специально.
Соберем что-то вроде тематического словарика авторских ассоциаций в «Слове». Начнем с изображения природы в «Слове», с частей рельефа. Больше всего автор упоминал «землю» и «поле». «Земля» у автора неизменно ассоциировалась с ровной поверхностью. Вот первое упоминание «земли»: «растекашется … серымъ вълкомъ по земли»1. Выражения «растекатися по …» и ему подобные подразумевали движение по ровному пространству. Ср. далее: «Тоска разлияся по Рускои земли, печаль жирна тече средь земли Рускыи» (49), – ничего не мешало течению по земле. «Грозы твоя по землямъ текутъ» (52), – тоже как бы ничего не препятствует течению по земле. Другие словосочетания, по-видимому, так же выражали авторскую ассоциацию «земля – ровная, плоская»: «по Рускои земли прострошася половци» (51), – простираются обычно по воображаемой ровной поверхности; «стрелы по земли сеяше» (48), – сеют обычно по ровному полю; «поскочи по Рускои земли» (49), – беспрепятственно.
Косвенные обозначения земли опять-таки подразумевали ее ровность: «орьтъмами и японъицами, и кожухы начашя мосты мостити по болотомъ и грязивымъ местомъ» (47), – ровное сделали еще более ровным.
Слово «поле» благодаря эпитетам яснее проявляло ассоциацию автора с ровностью и беспрепятственной его гладкостью: «поеха по чистому полю… Русичи великая поля чрьлеными щиты прегородиша» (46): «занесе чресъ поля широкая» (44). Другие высказывания автора подтверждают эту ассоциацию, но косвенно: «рассушясь стрелами по полю» (46), – рассыпаться по плоскости поля; «рища … чресъ поля на горы» (44), – ровные поля перед горами; «мъгла поля покрыла» (46), «пороси поля прикрываютъ … кликомъ поля прегородиша» (47); «загородите полю ворота» (53), – эти выражения, пожалуй, тоже, хоть и слабо, подразумевали плоскость поля.
Еще один пример косвенно выраженной ассоциации «поле – плоское»: «Не ваю ли злачеными шеломы по крови плаваша … на поле незнаеме?» (52), – плавают по жидкости, повторяющей ровность поля.
Автор, конечно, знал, что в поле есть холмы и овраги, но и тут он «уплощил» неровности рельефа: Святослав «наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы … иссуши потоки и болота» (50).
Итак, изобразительный фон в «Слове о полку Игореве» составляли просторные и в общем гладкие и плоские поля и земли (ср. у Адриановой-Перетц: «слово поля в значении “открытое место, поляна, луг” известно с ХI в. в разных жанрах русской и переводной литературы» – 80).
Из других видов ландшафта в «Слове» выделяется «трава». «Трава» обычно ассоциировалась у автора с некоей подстилкой («стлавшу ему зелену траву» – 55; «зелену паполому постла» – 48; «на … траве притрепанъ» – 53; «ничить трава … къ земли» – 49).
Авторские ассоциации можно подметить еще к нескольким явлениям природы – к солнцу, ветру, ночи и тьме. «Солнце» (как реалия или как бы реалия) у автора «Слова» отличалось резкой переменчивостью: то оно напускало тьму и меркло («от него тьмою … прикрыты» – 44; «солнце … тъмою путь заступаше» – 46; «два солнца померкоста» – 50; «утръпе солнцю светъ» – 52; «чръныя тучя … хотятъ прикрыти 4 солнца» – 47; и пр.); то оно светило вовсю («солнце светится на небесе» – 56; «слънце … простре горячюю свою лучю» – 55).
Далее. «Ветер» у автора «Слова» представал мощным носителем или толкателем предметов и существ («се ветры … веютъ съ моря стрелами» – 47; «ветре … мычеши … стрелкы на своею нетрудною крилцю … лелеючи корабли на сине море» – 54; «нетрудный» – в данном случае «незатрудненный», ветер, «легко переносящий или раскачивающий груз». Прочие примеры: «соколъ на ветрехъ ширяяся» – 52; «стрежаше … чрьнядьми на ветрехъ» – 35; и совсем сильный ветер: «Кобяка … вихръ выторже» – 50).
Далее. «Ночь» на чужой земле у автора «Слова» была наполнена необычными, беспокоящими и зловещими звуками («нощь стонущи … свистъ зверинъ въста… Дивъ кличетъ … крычатъ телегы полунощы» – 46; «ночь … говоръ галичь убурися» – 48; «въ полуночи Овлуръ свисну … кликну, стукну земля, въшуме трава» – 55). Так создавалась картина неспокойного ночного «поля» («нощь … грозою птичь убуди» – 46; «полунощи идутъ сморци мьглами» – 55; по полю кто-то «въ ночь влъкомъ рыскаше» – 54). Поэтому русское войско не спит, а лишь «дремлетъ въ поле» (47).
Объекты природы делились у автора «Слова» на враждебные и дружественные. Например, давно замечено учеными, что все «синее» (то есть синеющее или синеватое) ассоциировалось в «Слове» с предметами чуждыми или опасными («синее море», «синий Дон», «синие молнии», «синяя мгла», «синее вино»). Напротив, «серебряными» были предметы дружественные («серебряные берега», «серебряные струи», «серебряное стружие», «серебряная седина»). «Золотым» являлось все княжеское (это хорошо известно).
Теперь скажем о животных. Все животные в «Слове» быстро «скачют», включая коней со всадниками. Но «волки» бегут географически целенаправленно и как бы прямолинейно («въ поле … бежитъ серымъ влъкомъ … къ Дону» – 47; «скочи влъкомъ до Немиги» – 53; «влъкомъ … дорыскаше до … Тмутороканя» – 54; «влъкомъ … потече къ лугу Донца» – 55).
«Соколы» же летят стремительно; и однажды, в сочетании с ветром и полем, выражают авторское представление о силе всепокрывающего ветра: «буря соколы занесе чресъ поля широкая» (44), – поэтому «буря», а не «ветер».
«Лебеди» у автора «Слова» выступали как страдающие и обидимые существа («пущашеть … соколовъ на стадо лебедеи» – 43; «избивая гуси и лебеди» – 55; «крычатъ … лебеди роспущени» – встревоженные или, может быть, разогнанные, 48). Оттого дева-обида «въсплескала лебедиными крылы» (49).
Неконкретные «птицы» (то есть не орлы, не вороны, не галки и пр.) в «Слове» разделяют несчастную судьбу «лебедей», и виноваты в том «соколы» («сокол, птиць бья» – 49; «соколъ … птицъ възбиваетъ» – 51; «соколъ … хотя птицю … одолети» – 52; «полете соколомъ … избивая гуси и лебеди» – 55).
Но в конце «Слова» роль «птиц» вдруг меняется, и они, а не «соколы», становятся агрессивными: «Аже соколъ къ гнезду летитъ, … то почнутъ наю птици бити въ поле половецкомъ» (56). Без «соколов» «птицы» активны и, может быть, даже хищны (ср.: павшую «дружину … птиць крилы приоде, а звери кровь полизаша» – 53, «птицы» не охраняют дружину, а, возможно, расклевывают убитых; а до этого они ожидали гибель дружины Игоря: «беды его пасетъ птиць, … орли клектомъ на кости звери зовутъ» – 46).
«Вóроны» тоже применяются к меняющейся обстановке: обычно днем «граяхуть, трупиа себе деляче» (48) или «всю нощь … възграяху» (50); но, когда надо, «не граяхуть» (56). Так что автор изменчивым мыслил не только «солнце», но и «птиц» и «вранов».
Перейдем к человеческим, а именно к женским персонажам. Женские персонажи, русские и нерусские, ассоциировались у автора «Слова» как неизменно красивые («красныя девкы половецкия» – 40; «красныя Глебовны» – 48; «готския красныя девы» – 51; «опутаеве красною девицею» – 56). Красота же их заключалась в том, что они обладают драгоценностями, особенно златом («съ ними злато, и паволокы, и драгыя оксамиты» – 46–47; «звоня рускымъ златомъ» – 51; хотят «злата и сребра … потрепати» – 49; у Ярославны – «бебрянъ рукавъ» – 54, то есть дорогой наряд); а еще красивы нерусские женщины, оттого что поют («въспеша» – 51; «девици поютъ на Дунаи, вьются голоси» – 56), а русские женщины ладно же плачут («жены руския въсплакашась» – 49; «Ярославнынъ гласъ слышитъ … кычеть … плачетъ» – 54–55; «плачется мати Ростиславля» – 55).
Предметный мир мужских персонажей иной. Все вооружение, по представлениям автора, сделано из крепчайших металлов: мечи и копья – харалужные, сабли и стрелы – каленые, поэтому и полки – «железные», а еще стремена и шеломы – золотые и крепкие, выдерживающие удары (ср.: «ту ся саблямъ потручяти о шеломы» – 47; «гримлютъ сабли о шеломы» – 48; «позвони своими острыми мечи о шеломы» – 53); стрел – всегда множество; «клики» – всегда громкие и напористые; кровь – льется обильно, так что «по крови плаваша» (52).
Мы указали лишь относительно самые четкие предметные ассоциации автора «Слова». Еще одна авторская ассоциация касается, казалось бы, абстрактного объекта, но превращает его в объект предметный. Это понятие – «мысль». В «Слове» «мысль» предстает материальным орудием движения («растекашется мыслию по древу» – 43); орудием полета («мыслию ти прилетети издалеча, отня злата стола поблюсти» – 51; «мысль носитъ ваю … высоко плаваеши» – 52); мерным инструментом («мыслию поля меритъ» – 55).
Смысловое своеобразие данной ассоциации выражается в том, что «мысль» становится орудием не постоянно, а только временно, в момент выполнения определенного «инструментального» действия. Такой же смысл в «Слове» имеют многочисленные сочетания глаголов движения с предметными существительными в творительном, «орудийном», падеже (например: «Боянъ … растекашется … вълкомъ по земли … орломъ подъ облакы» – 43. Это не сравнение. Боян не превращался в волка или в орла. Просто в момент данного движения он действовал по-волчьи и по-орлиному, чем частично, мельком, тогда напоминал волка и орла).
Ассоциации автора «Слова» были преимущественно традиционными. В этом легко убедиться по примерам из других памятников в названной книге В. П. Адриановой-Перетц.
Иногда ассоциации сочетались. Но при сложении различных предметных ассоциаций в «Слове» не возникало богатых картин, а лишь подчеркивалась одна из ассоциаций. Например, подчеркивалась беспрепятственность «поля» («буря соколы занесе чресъ поля широкая» – 44, сильный ветер свободно несет стремительных соколов через гладкие «поля»; «скачютъ, акы серыи влъци въ поле» – 46, энергичные волки прямолинейно скачут – «пути имь ведоми» – по бесконечному «полю»). Или же выделялась открытость, беззащитность «поля» («рассушясь стрелами по полю» – 46; «слънце … простре горячею свою лучю … въ поле безводне» – 55). В сущности, все объекты с их предметными ассоциациями оставались одиночками и составляли лишь перечислительный материальный фон «Слова», подобно фигуркам на фасаде Дмитровского собора конца ХII в. во Владимире. Автор «Слова» и тут не выходил за пределы литературной традиции.
И все же некоторые символические описания реальных событий у автора «Слова» все-таки кажутся похожими на красочные картины. Того ли хотел автор?
В качестве примера рассмотрим одно из самых выразительных описаний: «Другаго дни велми рано кровавыя зори светъ поведаютъ, чръныя тучя съ моря идутъ, хотятъ прикрыти 4 солнца, а въ ниъ трепещуть синии млънии. Быти грому великому… Ту ся копиемъ приламати, ту ся саблямъ потручяти…» и т. д. (47). Связывает эти детали только утро. Но не ясно, все это происходит одновременно или же последовательно, одно за другим; из одного места или же из разных мест; сохраняются ли эти детали на все время события или нет. Судя по повествованию, автор вспоминал о событии после его окончания и фактически лишь перечислил составные части события, создав что-то вроде статичной миниатюры со зловещими деталями, застывшими в вольном порядке и подчеркивавшими лишь одно – «плохую погоду».
Описания плохой погоды в «Слове» тоже не были связаны друг с другом, а похожи лишь перечислительной структурой («се ветри … веютъ съ моря… Земля тутнетъ, реки мутно текуть, пороси поля прикрываютъ» – 47; «утръпе солнцю светъ, а древо не бологомъ листвие срони» – 52; и пр.).
Такой способ изображения – россыпью предметных деталей усилий что-то одно – был типичен для всех символично изложенных эпизодов «Слова». Материальный фон в «Слове о полку Игореве» велик, но дробен и структурно однообразен.
Оригинален ли был автор «Слова о полку Игореве» в своей приверженности к мешанине предметных деталей в их перечислениях? Думается, что нет. То была старая традиция произведений, когда они усиленно использовали символику, обозначая реальные события.
Ранним примером служит «Слово о Законе и Благодати» Илариона, сочиненное за полтора века до «Слова о полку Игореве». Ограничимся несколькими наблюдениями. Так, по ассоциации Илариона, вся земля, все страны, все народы едины в своих проявлениях, а вода – исключительно обильна («всю землю … вода морьская покры»2; «по всеи же земли роса … … оброси» – 18; «источникъ наводнився и всю землю покрывъ … разлиася» – 23; «потече источникъ … напаая всю землю»); кроме того, вода благотворна («съсудъ скверненъ … помовенъ водою» – 14; «пиемь источьникъ» – 25; «дождемь … распложено бысть многоплодне» – 34). При сочетании этих ассоциаций не возникала картина, а лишь подчеркивалась одна из ассоциаций (единство земли) – явление, уже знакомое нам.
Предметные детали в своих описаниях Иларион тоже просто перечислял, не думая о создании хронологически связной картины. Ср. о крещении Владимира: «…облеченъ … препоясанъ … обутъ … венчанъ … гривною и утварью златою красуяся» (34), – чтó сделано раньше и чтó позже, осталось не ясным, дан результат: красавец. Еще о крещении Владимира: «ти припахну воня … испи … чашу … въкуси» (29), – то ли последовательность действий, то ли нет. И перечисление с явным отступлением от хронологии: «епископи сташа пред святыимъ олтаремъ … клиросъ украсиша, и въ лепоту одеша святыа церкви … темианъ Богу въспущаемь … манастыреве на горах сташа … вси людие исполнеше святыи церкви» (28–29), – главное то, как успешно идет церковное строительство.
Затем, лет за 80 до «Слова о полку Игореве», была составлена «Повесть временных лет», и ее предметные элементы в символических похвалах князьям продолжили ту же традицию усилительности перечислений без стремления к действительной картинности. Вот, например, похвала княгине Ольге опять же за принятие христианства: «Си бысть … аки деньица предъ солнцемь, и аки зоря предъ светомъ; си бо сьяше, аки луна в нощи … светящеся, аки бисеръ в кале… Си бо омыся купелью … и совлечеся … одежевъ…»3, – когда это происходит: на рассвете, перед рассветом, глубокой ночью, бодрым утром? Здесь каждая деталь – сама по себе, а вместе подчеркнута сиротливость ночи и утра.
Накануне появления «Слова о полку Игореве» эту манеру развил донельзя Кирилл Туровский. Так, в «Слове по пасхе» в знаменитом описании бурной весны (то есть крещения) предметные детали перечислялись самым причудливым образом: лед, ветры, плоды, семена, агнцы, пастухи, древа, цветы, сады, ратаи, реки, рыбы, рыбаки, пчелы, соты, птицы и т. д.4 Детали можно переставлять в любом порядке. Еще больший разброс был в характеристике святых в «Слове на собор 318 святых отец»: пастыри, реки, ангелы, орлы, оргáны, облака, гряды, столпы, светильники, сосуды, обители, цветы, древеса, ловцы и пр.5 Изобразительный фон в символике Кирилла Туровского дошел до максимальной хаотичности – никакого взаимодействия между деталями даже не подразумевалось. Лишь нагнетались признаки одного и того же реального явления.
Из приведенных примеров можно заключить, что «Слово о полку Игореве» в своих перечислительных описаниях опиралось на долгую литературную традицию. Недаром автор «Слова о полку Игореве» сразу же провозгласил, что именно «старыми словесы» он намерен начать свою повесть (43); а «старыми» он называл явления именно ХI в. (ср. у В. П. Адриановой-Перетц: «определение “старый”, каким автор “Слова” наделяет князей ХI в.»; «определение старого времени соответствует “старым словесам” времени Бояна и наименованиям старыми князей X–ХI вв.» – 49, 58).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.