Текст книги "Оклик"
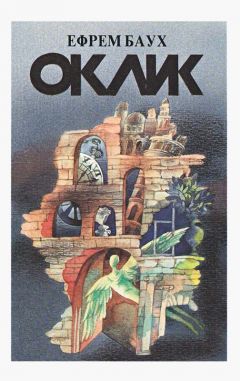
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 41 страниц)
Глава четвертая
* * *
НЕБЕСНЫЕ ПРЯТКИ.
РЕДКОСТНЫЙ ЦВЕТОК ТЕАТРА.
ГЛАЗАМИ МЛАДЕНЦА: ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ СВЕТ.
НЕДОУМЕНИЕ ЭКЗЕКУТОРОВ.
ЛАМПА ОБЛАКА.
МЕТАФИЗИКА, ВЫРАСТАЮЩАЯ ИЗ СОРА.
ШАКАЛЫ НА УЛИЦЕ ДИЗЕНГОФ.
РОДНОЙ ГОРОД – СПУТНИК ПЛАНЕТЫ
ОБЕТОВАННОЙ.
ЗВЕЗДА: ОГОНЕК НА ОКРАИНЕ.
ОСВЯЩЕНИЕ ПРИСТАЛЬНОСТЬЮ.
Акко. Два часа после полудня.
Одиноко брожу по улицам и переулкам. Вдали, над морем, такое же одинокое облако начинает увеличиваться, наливаться темью, играть в прятки с солнцем. Ветер треплет афиши на стенах. Пляшут на бумажных обрывках диковинные китаизированные образы и рядом с ними такие знакомые, в черных жилетах и лапсердаках, пейсах и шляпах евреи. Такими я видел их ребенком выходящими из синагоги в нашем городке на Симхат-Тору. Теперь вижу здесь, в праздники, уже приближаясь к пятидесяти, – параллели протягиваются в памяти, как графитовые стержни в атомном реакторе: могут ускорить или замедлить воспоминания.
Каждую осень, в дни Суккот[35]35
Суккот (иврит): праздник Кущей, следующий после Судного дня.
[Закрыть], театральный фестиваль как редкостный цветок распускается в каменной сырости древнего Акко: в подземных залах крестоносцев, в тени караван-сараев. Словно занесенная из другого времени, с иной планеты, разворачивается стремительными побегами движений, цветистых одежд, грима, музыки, спектаклей, пантомим, клоунад яркая и шумная жизнь, вовлекая в водоворот залы, подземелья, улицы и площади; от зрителей невпроворот: спят под стенами, на травке, у моря.
И также внезапно все сворачивается, исчезает.
Только ветер треплет афиши, недоуменно в них вглядываясь.
Опять воцаряются покой и одиночество, охраняемые остро взметнувшимися в небо кипарисами: застывшими фонтанами зелени.
В кипарисовой аллее уборщик сметает песок с каменных плит и подобен археологу: очищает плиты, по которым гуляющие шаркали тысячу лет назад: все начинается с незаметного песчаного заноса.
Аллея упирается в сквер, детскую площадку. Младенцы в колясках под присмотром еврейских бабушек всасывают глазами синеву послеполуденного неба. Из распахнутых дверей стоящего невдалеке здания выносит вместе с теплом распаренного зала и запахами восточной кухни шум голосов, крики, восклицания, хлопанье ладошей: еще одному еврею, явившемуся на свет, делают брит-милу[36]36
брит-мила (иврит): обряд обрезания, вступления еврея в завет с Богом.
[Закрыть]…
Совсем недавно, июльским вечером, сидим за столиком с товарищем на "Кикар Акдумим"[37]37
иврит: Площадь Древностей.
[Закрыть] в старом Яффо, пьем коньяк рядом с обнесенным ограждением провалом.
В глубине его наползают друг на друга развалины стен эпохи Веспасиана, затем – Траяна, затем Хасмонеев.[38]38
Время правления римских императоров Веспасиана, Траяна, династии Хасмонеев (отец и сыновья Маккаби и их потомки).
[Закрыть] Семнадцать столетий слабо мерцают в бликах прожектора, бьющего поверх площади с крыши францисканского собора, хранящего в каменной своей раковине предание о посещении Наполеоном прокаженных. Оба мы возбуждены погруженным в полумрак окружением, семнадцатью столетиями, спрессованными в неглубоком провале, близостью моря со скалой Андромеды и дальним призраком Левиафана, ожидающим выхода корабля из яффской гавани, на котором собрался бежать от Бога пророк Иона.
Мы только вырвались из шумного зала, где сыну знакомого совершали обряд обрезания.
В этом обряде, рассуждаем, потягивая коньяк, иудаизм противопоставляет себя природе, язычеству. Он глубоко нащупывает мистический корень, дающий побеги к разуму, к логотворчеству: в младенчестве-то боль переживается слабее, но происходят необратимые изменения в осознании глубины мира, сотворяемого человеческим гением, а не природой, ибо разве крайняя плоть не атавистическое укрывание самого корня жизни.
Лишение ее снимет внимание с этого места, ибо ничего не скрыто, но и рождает конфликт между сознанием и крайней плотью, развивает родившееся существо в более сложную личность: обряд как бы касается места соприкоснования самого корневого в человеке с самым корневым в природе.
Ну что у мусульман? Обрезание в двенадцать лет это уже боль, рана, это уже душу не утончает.
Как это у Толстого: от новорожденного до пятилетиего страшное расстояние, от зародыша до новорожденного пучина, а от несуществования до зародыша – непостижимость. Только вглядеться в младенцев: они видят не себя, а других, растворены в других, особенно дети еврейские; через глаза смотрят из глубины пяти тысяч лет, как в перископы, и в то же время обращены в себя – на пять тысяч.
Растворение в других это ведь сущность Ангелов.
А потом младенцы вырастают в юношей, не терпящих никакой фальши. И посылают их под пули – в горы, к морю. А то и сами, покинув родителей, едут в лихорадку и гибель, в Палестину.
Тех гнали под пули, а они влюблялись в море и горы, дети петербургских угрюмо-плоских земель. Экзекуторы недоумевали, проваливаясь в небытие.
Поручики же и послы, обернувшись поэтами, засталбливали вечность.
А кто эти старожилы? Дети, покинувшие родителей в землях, где я родился, сверстники моего отца и матери, сами бежавшие от экзекуторов в эти пески и болота, в бескормицу и нужду, чтоб не просто влюбиться в море, в горы, в пустынную заброшенную землю, над которой, как знойные миражи в стекленеющем от жажды взгляде, дымились некогда золотые звучания – Иерусалим, Сион, Саул и Давид, – собственной жизнью восстановить цепь времени, порванную две тысячи лет назад.
С каким волнением они еще издали вглядывались в эту землю?
Я помню, как впервые, в июне пятьдесят второго, издали увидел море.
С тех пор прошло двадцать семь лет, но в этот миг переулками Акко я опять иду к морю, и все наново и опять разворачивается напряжением нашего взаимного сближения; вдали друг от друга мы оба как бы расслаблены, дремотно однообразны; но вот я приближаюсь к берегу, расставаясь с мелкими подробностями домов, переулков, улиц, лиц, остаюсь один на один с четырьмя стихиями – водой, землей, небом, солнцем, все чувства обостряются, всякая мелочь в пространстве, уже увиденном и исхоженном, разряжается целыми валами новых образов и ассоциаций, как и само море, словно бы замершее вдали, в ста метрах от берега начинает пробуждаться, слепо пялить белки волн, тянуть ко мне пенисто выкатываемые шипящие на песке шлейфы. Активная зона – зона нашего соприкосновения: иду вдоль волн.
Облако превратилось в аспидно-черную залежь.
Грандиозная феерия разыгрывается на акватории – солнце, пробиваясь в щели облака, шатром четко обозначенных лучей, как светящаяся многоножка шагает по водам, и все корабли на горизонте ослепительно белы на темных развалах вод и неба, и рокот волн усиливается, а берег по-прежнему тих, на пустом вразлет пространстве по-домашнему стоит одинокий стул, парень запускает змея, пес лает на взлетающее бумажное чудище, парочка идет в обнимку, и небо в глубь суши чистое, задумчиво-голубое.
Вдруг солнце сразу и во всю силу послеполуденного своего света выпрастывается из залежи и ударяет в затылки вмиг ослепших волн, и летят они кувырком на берег.
Залежь на глазах распадается на отдельные облака диковинных очертаний, куда поочередно вплывает солнце.
Стоя у кромки вод, окуная ноги в плоско набегающую пену, гляжу на цепь облаков-ламп в небе, вспоминаю Цфат в горах Галилеи, совсем недалеко отсюда, за моей спиной. Лес керосиновых ламп, дикой растительностью свисающий с потолка местного музея, из окна которого виден весь Цфат и купол могилы рабби Шимона бар-Йохая у подножья горы Мерон.
Лампы всевозможных форм.
Причудливо слепые нетопыри отпылавших ночей в тех землях, где развеян по ветру прах шести миллионов.
Осколки метеоритов с погасшего созвездия, некогда мерцавшего в забвенных далях Польши и Галиции, Подолья и Бессарабии, Белой и Малой России.
Мертвые головешки – они когда-то лучили свет, очерчивая такой хрупкий и призрачный круг уюта среди завихрений метелей и войн.
Бывает день среди однообразия недель и месяцев – перекошенный от груза воспоминаний внезапно развернется головокружительной воронкой, как этот, сегодняшний, в Акко, способный выпростать из брюха времени в течение считанных часов от восхода до заката десять лет жизни двадцатисемилетней давности, перекошенный и отягченный, как огромный оползень, только и ждущий слабого толчка, чтобы начать рушиться, сбивая с ног и лишая дыхания, и толчком этим – Акко, Акра, древняя и таинственная земля Птолемаис…
В ослепительном, плавящемся, как жидкое стекло, галилейском полдне, цфатский музей подобен замершему оплавленному часовому механизму, и я вижу себя внутри него младенцем, рядом с лампой и примусом (их там целое кладбище с одной, двумя, тремя горелками), и все мы – лампа, примус, младенец, щербатый медный таз, в котором бабушка варила повидло, все мы – существа, одинаково пестуемые бабушкой, отцом и мамой, связанные невидимой порукой.
Астрономия еврейского быта.
Мы на этой земле в особенно интимных отношениях с небом, с луной в начале месяца и во главе года, с первыми звездами в канун субботы, с первыми звездами, при которых трубят в шофар, завершая Йом Аки-пурим, отпуская грехи.
Развешаны луны над годами, столетиями, над галактическими полостями Галута – словно лампы под колпаком бессилия, беззащитности внезапных погромов и катастроф – и астрономия галутского быта со звездами в окне и шагаловской луной над дымоходом, с течением жизни, устойчивым, как домашний уклад, внезапно опрокидывается лампой, сброшенной вихрем со стола, и течет-растекается пламенем пожарищ.
Пахнет керосином и кровью.
Человеческие жизни сшибленными лампами опрокидываются в снег, в сушь, в гибель.
Еврейские музеи.
Подобны лавкам старьевщиков, что годами роются на пожарищах: бесформенные груды вещей, рваные талесы, лапсердаки, шляпы, книги, обгорелые обрывки священных свитков со следами сапог.
Лампы выброшены, растоптаны, расплющены.
Остались лишь слабые светильники: лепестки ладоней, прикрывающие едва теплящийся, уже на угасании, дух миллионов, чьи имена, как в соты, заключены в папки и полки иерусалимского музея Катастрофы. Остекляневшие лепестки ладоней горстью, последним защитным движением прикрывающие мерцание лампочек, слепленные в молитве, слепнущие от этого слабого мерцания – в темном продолговатом, как гроб, холле, куда несет нас вместе с массой стариков и старух вместе с толпой, извивающейся по лестнице, кажущейся бестолковой на ослепительном иерусалимском солнце, не вписывающейся в эти стены.
Молчанье и шарканье ног.
Барельеф: грубо сработанные конечности; часы Времени с тремя маятниками, из которых один – нож; лев Иуды – под знаком уничтожения. Мистическое сочетание символов. Зодиакальные знаки Катастрофы. Гибельный гороскоп трети еврейского народа, которого уже нет.
Скудны предметы, выброшенные на сушу из кровавого потопа, – банджо, портмоне, чемоданчик – и все из кожи священных книг; страшные в своей будничной оголенности снимки – педантичных немцев, солдат союзнических войск, занимавшихся разборкой тел…
В темном, продолговатом, как гроб, холле, "комнате имен" драпировка скрадывает живое дыхание людей, уже самим своим существованием чуждых этому небытию, мертвой памяти. И только передавая начертанное на бумаге имя близкого или родственника Харону в обличье маленького еврея – конторского служки – человек обнаруживает недолгую связь с этой громадой мертвой памяти, где часто даже забыто имя близкого, только облик, уже полустертый, так что лишь глаза или улыбка помнятся, лишь виноватое ощущение исчезновения…
Бывает день. Разверзающийся. Без дна.
Как день солнцестояния, поминовения мертвых, непрекращающихся воспоминаний, открытых дверей, скрытых убийств, смены времен, начала войны и начала мира, день беспрерывной жажды покоя, соскальзывающий в слабую прохладу ночи, полной тревожных предчувствий.
Луна между висячих ламп превращает тель-авивское кафе в «Доме писателей» в подобие ван-гоговского кафе с обжигающими тьму ночи лунами небесных светил и фонарей: разговоры подобно эфемерам летают вокруг них, пересекаясь, пресекаясь.
Душа жаждет устойчивости и бездумья, а по темным углам пространства накапливаются мысли и озарения, ветшающие на глазах, алчущие – пусть самого слабого – порыва воздуха.
Метафизика вырастает из сора.
Бездумье души?
Или редко открывающаяся почти потусторонняя ее чуткость, когда окружающая жизнь обрушивается нерасчлененным валом, накрывает с головой взахлеб, а душа различает мельчайший ток и сильные течения, сплывшиеся в этот вал, сталкивающиеся косо и вза-хлест, текущие пластами одно поверх другого?
Слуховые извилины держат в горсти одновременно шорох созвездий в черном провале Галактики и бормотание посетителей кафе, гул самолета, идущего на посадку в сторону аэропорта Бен-Гурион, и мелкое дребезжание посуды за дальним столиком, клаксоны автомобилей с улицы Ибн-Гебироль и эхо внезапной пальбы с отдаленных зеленых лужаек парка Яркон, где более ста тысяч человек, усевшись на траву, слушают традиционный открытый концерт Тель-авивского симфонического оркестра, столь же традиционно завершающийся увертюрой Чайковского "1812 год' с пальбой и фейерверком в финале, громкие голоса моих собеседников и звуковой сор вокруг, взвесью плавающий в табачном дыме.
Говорят на одном языке – иврите – но слух расщепляет голоса, отслаивая различимые акценты.
Слабое звуковое различие, вырывающееся из гортани, процеживаемое сквозь зубы, таит в себе корни и заросли забвенных в прошлом лесов, еще и сегодня шумящих по разным землям.
Суффиксы, как фиксы, посверкивают во рту.
Так по слабому радиосигналу можно открыть целую погасшую планету.
Как графолог по почерку, астролог по звездам, хиромант по линиям ладони пытаются читать прошлое и будущее, так по акценту, пробегающему из края в край кафе беглым перемигиванием тлеющих сигарет, фанатик фонетики потрясенно обнаружил бы в звукограмме древнееврейского странно преломленные обертоны всех языков человеческих – романских, германских, славянских, арабских – открыв за каждым из сидящих погасшую и все же существующую планету прошлой жизни, и усмотрел бы в этом вызов небу и тайное упорство довершить Вавилонскую башню, не достроенную из-за того, что Бог смешал языки, "чтобы один не понимал речи другого".
Но глубже изучив эти ископаемые вокабул, ученый бы успокоился: за слабым различием акцентов еще скрывается такое слежавшееся веками непонимание одного другим, что угроза построения башни кажется смехотворной.
Зато физиономисту и этнографу в этом небольшом пространстве кафе раздолье. Сидит за столиком танцовщица ансамбля "Бат Дор"[39]39
Бат-Дор (иврит) – дочь поколения.
[Закрыть] – испанские профиль и грация, обжигающий блеск черных глаз – напротив рыжего, с голубыми глазами и нордической формы носом паренька, капитана израильской армии, явно потомка югославских евреев, принесших с собой воинственность сыновей гор, а напротив кафе, по ту сторону внутреннего дворика, за стеклами, в зале, при ярком свете, репетируют хасидский танец танцоры какого-то народного ансамбля: цепочка черных жилетов поверх белых рубах, локоны пейс, лихо заломленные фуражки клезмеров и портняжек начала века – пляшут еврейские рубахи-парни, рубаками кинувшиеся в седла, чтобы прорвать черту оседлости, и видавшему виды искусствоведу с неизменной трубкой в зубах мерещится за этими парнями доморощенная архитектура еврейских городков, бессмертно закрепленная в полотнах Марка Шагала и Хаима Сутина.
Но главная публика кафе – поэты, писатели и критики. Последние – потомственные мастера салонных встреч, ведут беседы с писателями показывая в улыбке зубы.
В этом психологическом слое вне зависимости от времени и места действия, характеров и занятий, подспудно и всегда проступают две роли.
Данте и Дантес.
В такие мгновения игра слов выражает сущность жизни.
Несколько газетчиков, предпочитающих это кафе своему в соседнем "Доме журналистов", вместе с косточками обсасывают очередной скандал, обмениваются сплетнями, как валютой: обговариваемое вполголоса, завтра попав на страницы газет, обретает силу взрывчатки.
Но внезапен и порывист ветер судьбы.
И весь сор политической жизни, финансовых скандалов с падением акций и комиссиями по расследованию, забастовок граждан, берущих страну за горло, в один миг выдувает пронзительной сиреной в память о погибших – в Катастрофе и войнах Израиля – и вся страна до единого, где бы ни застал его этот леденящий сердце звук – в машине, за станком, в лавке – замирает в минуте молчания.
Кто любит газетчиков, ковыряющихся в мусоре жизни?
Между тем они делают свое библейски древнее дело: еврейский народ ведет свои книги без двойной бухгалтерии тиранов, не выносящих мусор, а подметающих их под ковер, и выходят на свет Божий, каясь и исповедуясь, со всеми своими пороками – пророки и цари.
Доносит фразу с дальнего столика:
– Бывает, что история замирает. Редко, но случается. Никаких толчков. Столкновений. К примеру, две тысячи лет назад. При царе Давиде. Империи выдохлись, высунули языки, как псы. Давид это использовал…
Невероятны метаморфозы, случающиеся с людьми на этой земле: горбатые десятью Галутами, падают они в дымящуюся воронку этой жизни, криво и напряженно укладывающейся по сегодня, так, что ощущаются все сгибы и складки.
Гаснут фонари и абажуры кафе.
Катком луны вмиг оттискиваются на стене ажурные тени и кисти абажуров, осталось прилечь под стену, чтобы ощутить себя в далеком детстве следящим за игрой теней и лунного света.
Полдень и полночь – время наибольшей остроты жизни, когда люди обыкновенно спят.
Город постепенно замирает, зачарованный лунным светом. Пересекаем улицу Ибн-Гебироль, вдоль которой в кафе и за столиками прямо на тротуаре сидят полуночники, потягивая через соломинку напиток дремы, дымящийся вязкими бликами луны.
Погруженный в сон переулок Тосканини выводит к темной громаде Дворца культуры, чьи своды, вероятно, чаще, чем своды самых знаменитых концертных залов, отражают виртуозные пассажи лучших музыкантов мира. Сегодня здесь непривычно пустынно. Филармонический оркестр отконцертировал на зеленых лужайках Яркона, еще одинокие последние шутихи, потрескивая, взлетают в небо. Гаснет стеклянный аквариум фойе театра "Габима": после спектакля пустеет автомобильная стоянка.
Театральный разъезд.
Тишина. Никакого движения.
Вдруг, у входа в бульвар Ротшильда, легший прострелом от "Габимы" в сторону моря, разбойный порыв ветра срывает листву с деревьев, построившихся шеренгой, как перед расстрелом, летят листья и сор вдоль бульвара, протянувшегося сквозным прострелом через все изгнания – с платанами, кленами, акациями, старыми евреями в пикейных жилетах, сидящими на скамейках, бабушками и младенцами, – и всех несет гибельным ветром времени через Киев, Одессу, Кишинев, Бухарест, Прагу, Варшаву – в яму…
На бульваре Ротшильда лунный дым зеленоватыми кольцами курится сквозь листья.
На память приходят строки, возникшие двадцать семь лет назад в полуночном парке нашего городка с деревьями, сомнамбулически вставшими на дыбы, вытягиваемыми, как утопающие за волосы, лунным светом и страхом после окончания школы перед тем, что будет завтра:
Есть час полуночи, ущербной луны, что бездну пробив, как лот, тревожные тени кладет на лоб и дальние валуны.
Неясным зовом вплывает она в уютную мглу под кров – тогда к берегам приливает волна и к кончикам нервов – кровь…
Мертво и радужно переливается песок под набегами ветра и волн.
Возникает человеческий кров, городок на стечении пустыни и моря, дома заметает песком.
Песок в зубах навяз.
Сквозняки обозначаются песчаными полосами.
Пардес[40]40
иврит: цитрусовый сад.
[Закрыть], как черный парус на фоне осеребренного луной моря.
И вдруг этот городок у моря, еще только пытающийся проклюнуться сквозь стихию песков, мигающий в ночи слабо нарождающимся созвездием, соединяется в памяти с городком моей юности тем давним отчетливым ощущением, которое преследовало меня тогда, после окончания школы: уже видел его как бы со стороны и в нем оставались дорогие мне люди, стены, память. И это щемящее сердце чувство сродни тревоге, с которой смотришь в телескоп и видишь холодное чер-нокнижье пространств, где каждая ближняя звезда, как огонек в крайнем доме на околице родного городка, когда ты его покидаешь, не зная, что сулят тебе незнакомые созвездия, ради которых ты расстаешься с ним.
Пройдя насквозь бульвар Ротшильда, за улицей Герцля петляем в кривых улочках старого Тель-Авива. Подобны улочкам Монмартра – Шабази, Неве-Цедек, Флорентин.
Дома с красноватыми облупленными стенами, ставнями снаружи, закрываемыми изнутри на крюк.
Переулки узки до того, что можно, не выходя из комнаты, протянуть руку соседу напротив.
Не просто уходят, оторвавшись от быта, в безбытность черных пространств с наметами песков и шакальим плачем, несущим прообраз будущего: плач несуществующих детей в исполнении голодных шакалов в безбытности пустыни.
Спасение в том, что несут вкоренившийся в себе быт – как через тысячелетия несли память, заключенную в священные книги, – огоньки околиц, оконные наличники, ставни, коньки крыш, силуэты домов, и вот уже город начинает бег вдоль моря и дюн, и улицы выстраиваются на ходу…
А шакалы тоже полны страха, воют на луну…
И – чутко, как пульс – протяженность пространств,
где звери долгих пустынь
зрачками, впав в лунатический транс,
тянут лунную стынь,
таятся в страхе, плачут, свистят
с барханов, скал, из кустов.
И кратеры лунно над ними висят
предчувствием катастроф.
Как преодолевают это предчувствие?
Как жизнью своей врастают в пространство города? В Кишиневе я ощущал это при взгляде на перекресток улиц, силуэт дома, размытую синь поверх долины Валя Дическу. Так аллея вдоль озера в долине, просвечиваемая насквозь солнцем пятого часа после полудня, мгновенно сливалась с мелкими, как снежинки, солнечными хлопьями пуантилистского полотна Жоржа Сера "Воскресная прогулка в Гранд-Жатт".
Увидев недавно это место в пригороде Парижа, я не испытал такого трепета, как там, в пятичасовой аллее, по которой я шел с нею, и светлые ее волосы просвеченные тем же солнцем, и были ослепительным фокусом всего ландшафта.
Стоило в любое время очутиться на перекрестке улиц Измайловской и Ленина, как меня словно бы обдавало запахом масляных красок, и тотчас возникал полусумрак мастерской художников, моих товарищей, на мансарде углового дома, напротив которого к глухой стене другого дома примыкало крыльцо в одну ступеньку, вероятно, ведшее к двери, давно замурованной: на этом крыльце мы последний раз попрощались с нею, дробь ее каблучков, слабея простучала в ночи.
Средиземное море с огненным закатом, аспидной ночью, луной и звездами, стало постоянным жильцом моего салона в Бат-Яме: пристально и пытливо приглядывается к корешкам книг вдоль стены, освещенным то солнцем, то луной, убираясь мгновенно, как улитка в раковину, при электрическом свете.
Уютно мерцанье глянцевых книг, но месяца белый рог тревожащим звуком приник, проник окно – в тишину, в зрачок…
Белый рог луны – над пустыми и безмолвными улочками Неве-Цедек.
Наши голоса, негромкие, бьющиеся в стенах, как звуки в колоколах.
Пожилой критик шестьдесят лет назад приехал сюда с семьей, эмигрировавшей из России в Китай, великолепно знает русский, и все же говорит "Шенхай", что звучит на иврите как "живой зуб", быть может, некий амулет, повешенный на шею, или заклинание из двух слов в память о прошедшей осененной дальним Востоком жизни.
Мне же в этом слове слышатся "Шай" и "Хен"[41]41
(иврит): «Шай» – подарок, «Хен» – милость, привлекательность.
[Закрыть], и за ними возникают две личности, обернувшиеся улицей и бульваром (Хен – инициалы Бялика – Хаим-Нахман, Шай – инициалы Агнона – Шмуэль-Йосеф: то же, что назвать бульвар Пушкина бульваром Сергеича, а улицу Достоевского – улицей Михалыча), и это высокое панибратство, касающееся плеча веткой дерева или лучом фонаря, возникает мгновенной и невыразимой причастностью к этой улице и бульвару, когда проходишь по ним.
Таким же глубинным архетипом, впервые неясно очертившимся в детстве при взгляде через окно поверх днестровских далей, возникает в этот полуночный час серебрящееся под луной лукоморье тель-авивского акватория со скрипичным ключом слева – подобно колокольне Кицканского – колокольней Францисканского монастыря высоко на скале старого Яффо.
Выводком кораблей, натянувшихся нитью по горизонту поверх улочек Неве-Цедек, обрываемых котлованами под фундаменты вырастающих один за другим вдоль берега небоскребов, стоит мандельштамовская строка:
Над минаретом мечети Хасан-Бек и высотной гостиницей «Дан Панорама» – кривое лезвие луны.
Это всегда – загадка и печаль, как прихотливо смыкаются обрывки воспоминаний на слабом каркасе времени, воедино скрепляющем человеческую жизнь, путая сон и явь и тем самым стереоскопически углубляя зрение.
В поздний час, когда мы сидим на камнях, уходящих в средиземноморские воды, чугунно налитые покоем, в памяти моей возникает лес под луной с пляшущими, как лешаки, деревьями за окнами электрички, несущейся от Киевского вокзала к Переделкино, с грохотом распахиваемых дверей, скрежетом сцеплений, мгновенной тишиной полустанков, опахивающих волчьей свежестью лесных дебрей, с мигом, когда остаешься вместе с переделкинским дебаркадером оглушенный каплющим водяными звуками, лесным безмолвием, а весь железный визг, ржавый грохот и хлам уносится прочь по рельсовой кривой в темный колодец ночи, чтоб смолкнуть за поворотом, как рухнуть на его дно, и, кажется, звук твоих одиноких шагов жадно ловят медные колокола на холме и сотни могил, залегших в его брюшине. Этой дороге, от Киевского вокзала до крайней дачки, справа, за кладбищем, повезло: по ней часто шагал и ездил Пастернак.
Его гениальной пристальностью она вошла в вечность.
Этой узкой полосе земли с каркасом гор Иудеи и Галилеи, с зеленью долин и гортанной обожженностью пустынь, скрепленной по береговому шву с бездной средиземноморских вод, повезло от сотворения мира.
Пристальностью Бога она вошла в вечность…
Вздрагиваю: мимо меня с гвалтом, наискосок, в море несется орава мальчиков и девочек, они подобны эфемерам – такая легкость в их почти летящих телах на фоне древних стен Акко.
Грандиозная феерия в небе сникла, солнце обернулось лампой местного значения, которое пробивается светом сквозь матовое стекло облака. Кто-то словно бы прибавляет пламени, затем прикручивает фитиль, и лампа то вспыхивает ослепительно, как взлетающая ракета, яркий хвост которой зажигает собственное отражение на водяном зеркале волн и песка, то тускнеет совсем, отражение слабеет, сосредотачиваясь только под самой лампой, мерцающей дорожкой пробиваясь к берегу, а там, за лампой – темная холодная синь. Поодаль рыбаки на баркасе тянут сети из моря. Молодой парень со спасательной станции гребет вдоль берега на плоской, как доска, лодке, отталкиваясь от дна шестом, подобным лоту, нащупывающему медленно, но пристально новую неизведанную землю, чтобы не только не налететь на нее и не разбиться, но и, став ее частью, вести за собой слепо толпящиеся за спиной корабли.
Поразительно отчетливое в этот миг ощущение: лот прикрепляет лотовщика к месту.
Осень семьдесят девятого. Акко. Всего полчаса прошло, как я вернулся к морю.
* * *
ОЛОВЯННАЯ ЮЛА: ЮПИТЕР.
ОТРОЧЕСТВО: ОБЛАСТЬ, К КОТОРОЙ ПРИМЫКАЕТ
ВСЯ ОСТАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ.
СОЛНЦЕ – СЛЕПЕЦ ВДОЛЬ СТЕН.
КОСМИЧЕСКОЕ СИРОТСТВО.
ШАЛАШ НА ОСИ ВСЕЛЕННОЙ.
МАЗУТНЫЙ ЗАПАХ ГРАНОК.
КОЛТОЧИХИН: ГНИЛОСТНО-СЛАДКИЙ ВЗГЛЯД
ВУРДАЛАК
А.
МИФОЛОГИЯ, ПРАЗДНУЮЩАЯ ТРИУМФ.
Поздняя осень пятьдесят первого года усыпляла прорехами полуденной теплыни, грустью обмелевшей реки. Это был как бы запоздалый, но тем более дорогой подарок уходящего года перед наступлением зимней стужи.
Мы учили астрономию. После полудня небо было бездонно-пустым и солнечно мягким.
Через низкое, почти вровень с землей, окно Андреевой квартиры мы вдвоем выбирались на дремуче заросшую лужайку, обрывающуюся к Днестру. Андрей настраивал свой невзрачный телескопик, привезенный им еще из Франции, сняв очки, близоруко щурясь.
Среди зачумевшего в послеполуденном сне городка, под совершенно пустым небом я приникал к телескопику, ошеломленный и притихший: в дневной глубине светло-серой бездны словно бы приклеенный к стеклу объектива, как в детских калейдоскопах, висел круглой ртутной каплей – шарик, и вокруг него, почти вплотную, вертелись четыре меньших шарика, и все это было похоже на запущенный кем-то волчок, оловянную юлу. Казалось, кто-то на невидимой нити подвесил эту игрушку, и она вертится неустанно, как вечный двигатель. Это был Юпитер с четырьмя спутниками.
В эти мгновения я впервые как бы открыл для себя, что такое зрение человеческое на самом деле: хоть приспособляй к каждой паре глаз телескопы. Человек уверен, что зряч, а между тем, на волоске от его взгляда развешаны в пространстве миллионы игрушек, шарикоподшипников Вселенной, и все это имеет непосредственное к нему отношение. Восемнадцать лет я был самоуверенно слеп, пока не заглянул в телескопик.
Я забросил все уроки, благо повторяли пройденное в девятом. Я запоздало выяснял свои отношения с небом. Это мне вдруг показалось самым важным в этот последний школьный год, быть может, потому, что абсолютный мрак неизвестности, стоящий за ним, невозможно было разглядеть даже в телескоп, и неожиданно знание Вселенной давало какую-то несомненно безумную и все же – надежду.
Вообще абсолютный мрак я особенно остро ощущал в яркий солнечный день, в субботу и воскресенье почти не выходя из дома, ничем не занимаясь, с утра до вечера бездумно валяясь в постели, вяло что-то сочиняя, а чаще всего просто следя за движением солнца, которое появлялось в спаленке бабушки, перебиралось на цыпочках по стене и, сгорая от любопытства, пыталось заглянуть в глубь комнаты, пока не исчезало за коньком крыши, и я представлял себе этот всепожирающий сгусток пламени, светом которого озарена каждая песчинка, отбрасывающая тень, как мелкие камешки на берегу Днестра в час заката отбрасывающие непомерно длинные косые тени, но стоит этому сгустку пламени исчезнуть, и остается мрак, и значит мрак изначален, и это последняя и наиоголеннейшая правда, Гигантомания Галактики с красным Антаресом, который больше солнца, насколько арбуз больше кончика булавочной иглы, не потрясала воображение, быть может, лишь удивляла на миг, словно сознание получило против этого прививку. Гигантомания воспринималась лишь мгновенным ощущением космического сиротства, мигом оставленности, жалкого прозябания, мгновенным уколом в сердце: иммунитет к бесконечности позволял духу существовать в вечности.
Солнце поздней осени последнего школьного года было тревожным, совсем не тем, что год назад: полный беспечности, ощущая жар и легкость тела, я возвращался с пляжа в предвкушении вечера, когда все мы, загоравшие на ослепительной тарелине дня, плавящейся и плавающей на водах, соберемся в городе, одетые, смугло излучающие тепло дня, а пока, до вечера, я лежал в полусумраке комнаты, записывая возникающие строки, утопая в странном блаженстве и не отдавая себе отчета, что это и есть молодость, а жар затоплял двор, гнул заросли, и жаль было дальнего паровоза, который короткими вскриками жаловался на невыносимую жару, словно эти вскрики облегчали ему его железную жизнь. Вероятно глубоко загоняемый страх, связанный с пугающим восторгом газет, высылками, арестами, заставлял с преувеличенной благодарностью, как дар, принимать это небо, солнце, жар, прохладу, текущие воды, смех девушек, гуляние допоздна в парке – все, что не было под запретом.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































