Текст книги "Оклик"
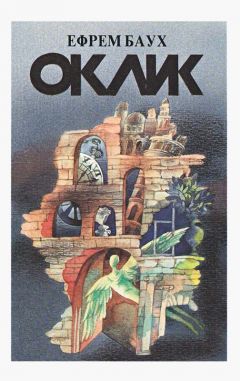
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 41 страниц)
ПАСХАЛЬНЫЙ СТОЛ: ВЕЯНИЕ АМБРОЗИИ И
ПОЛЬШИ.
ИУДЕЯ: МАТЕРИК ПОГРУЖАЮЩИЙСЯ В БЛЕСК
ВЕСНЫ
И РАЙСКОЕ ПЕНИЕ ПТИЦ.
ЭЙН-ГЕДИ: ХРАНИЛИЩЕ АНГЕЛЬСКИХ ВИН.
МЛАДЕНЧЕСКИЙ ВОСТОРГ ЭЙНШТЕЙНА.
ПРЕКРАСНЫЙ ОБВАЛ МИРА.
ГОРОД-ПРИЗРАК ДРЕВНИХ ПРОРОЧЕСТВ: ЯМИТ.
ПОЛНОЧЬ И БЕЗМОЛВИЕ.
ПАМЯТНИКИ: ОБЕЛИСКИ, РАЗВАЛИНЫ, ПУСТОШЬ.
ИСХОД И УХОД.
В жаркий, сверкающий, как начищенная медь, день седьмого апреля ты вваливаешься прямо к пасхальному столу весь с головы до ног в синайской пыли, вмиг у ванной вырастает гора обмундирования, оружия. Блаженное погружение в пену под стук вилок и звон стекла.
Отпустили до утра: в Ливане опять тревожно – летят снаряды "Катюш". На севере страны опять встречают Песах в бомбоубежищах.
В тарелках густой мед и тертый хрен: память о синайской свободе и египетском рабстве.
Пасхальная ночь опускается веянием амброзии и полыни.
И тонкий голосок племянника, самого младшего в семье:
– Ма ништана а лайла азэ ми кол алейлот?[105]105
Из пасхальной Агады (сказания): самый младший задает самому старшему четыре трудных вопроса, и каждый начинается этим – «Чем отличается эта ночь от всех других?»
[Закрыть]
В этом неспокойном восемьдесят втором каждая ночь отлична, полна неожиданностей и ожидания.
И громкий стук ложек по пасхальному столу, сопровождающий каждую из десяти египетских казней.
Бацет Исраэль ми Мицраим бейт Яаков мэам лоэз…[106]106
Строка из пасхальной песни: «По выходу Израиля из Египта, дома Иакова из чужого народа…»
[Закрыть]
Заключенные в израильских тюрьмах провели пред-пасхальный конкурс на знание Библии: первая премия
– 72 часа на Песах в кругу семьи, дома, вторая – 48, третья – 24.
Авадим айну…[107]107
Из пасхальной песни: «Рабами мы были…»
[Закрыть]
Утром отвожу тебя на перекресток Месубин, где на обочине уже ждет вас огромный и пыльный армейский грузовик.
И вновь это ощущение пустоты под ложечкой, когда он исчезает за поворотом.
К этому мигу исчезновения привыкнуть нельзя.
Сама атмосфера восемьдесят второго насыщена беспокойством и возбуждением.
Девятнадцатого апреля суд над Абу-Хацирой. Массы марокканских евреев, затопившие здание тель-авивского суда, пестротой восточных одежд облепившие мощные спирали этажей "Дома Азии",[108]108
Здание в Тель-Авиве, построенное в стиле модерн.
[Закрыть] абстрактные скульптуры из железа и бетона на площади, соединяющей тель-авивский музей с судом в одно здание, то и дело выкрикивающие – «Мишпат Драйфус».[109]109
(иврит): процесс Дрейфуса.
[Закрыть]
Уезжаем в Эйн-Геди: хотя бы дня на три вырубиться из напряжения, в палатку, на берег Мертвого моря, без радио и телевизора.
На повороте шоссе внезапно и целиком, словно материк, всплывший из глубин моря, встают Иудейские горы над поверхностью Саронской долины, медленно, по мере нашего движения, погружаясь в пасхальный солнечный блеск горной весны.
И ощущение полного покоя, словно оказался в иной, блаженной стране. Деревья бредут вверх по отвесным склонам от ворот Аггая.[110]110
Шаар Аггай (иврит): ворота ущелья.
[Закрыть]
Цветы, раскрывающие лепестки и зевы в жадном желании сделать замкнувшийся в себе мир достоянием каждого.
Сравнения, беспечными бабочками вьющиеся над скалами, садящиеся на пятнистые цветы дикой гвоздики.
Остался позади весенний Иерусалим древне-ладанным храмовым запахом синагог, церквей и соборов, уплыл влево, в весеннее марево, как под воду, Иерихон, дикие колючки иерихонских роз, схваченные навеки цепким бунинским взглядом, принесли в память его имя; мелькнули справа пещеры Кумрана.[111]111
В пещерах ручья Кумран у Мертвого моря в 48 году были найдены свитки еврейских священных книг, упрятанных общиной ессеев от римлян в конце старой – в начале новой эры.
[Закрыть]
Эйн-Геди.
Скалы, трепещущие в искрящемся солнцем апрельском воздухе как струны лютни, льющейся звуками "Песни Песней" над ущельем ручья Давида.
…Как кисть кипера, возлюбленный мой, у меня в виноградниках Ейнгедских…[112]112
«Песнь Песней» – 1,13.
[Закрыть]
Водопад, низвергающийся лютней сквозь зеленый плющ, называемый здесь волосами Шуламит, шумит уютом и прохладой под высокими изломами скал, плавящихся в лилово-синем, как спирт, небе, где настороженно торчат рога горного козла.
… Смоковницы распустили свои почки, и виноградные лозы, расцветая, издают благовоние… [113]113
Там же – 2, 13.
[Закрыть]
Эйн-Геди: хранилище ангельских вин, от которых кружится голова и покой нисходит на душу.
Апрельский воздух вечернего Эйн-Геди свеж, как надкушенное яблоко.
Купальщики лежат и не тонут в глицериновых водах Мертвого моря.
Розовато-коричневые горы словно бы вырезаны из папье-маше на фоне заката.
Располагаемся в палатках; беззаботный глубокий сон втягивает в свое течение шумящим как тайные воды шепотом "Песни Песней":
… Доколе день дышит прохладою, и убегают тени, возвратись, будь подобен серне или молодому оленю на расселинах гор… [114]114
Там же – 2, 17.
[Закрыть]
На раннем рассвете – в клубящемся сером тумане – глицериновые разводы мертвых вод. Не видно гор Моава. Матовые шары фонарей вдоль берега, блеклые, ирреальные, мерцают ацетиленовым светом. Пустые домики, одинокие стулья на лужайке.
Но вот первые лучи зари – в верхних створах душевой кабинки столкнувшиеся со светом лампы.
Внезапен и прозрачно чист первый птичий свист.
Мгновенный и ошеломляющий взрыв птичьего пения, блаженного, самозабвенного, сводящего с ума. Схлест разных голосов.
Где они, невидимые хоры, капеллы, поющие аллилуйя весеннему рассвету мира, как и тысячу лет назад – в стихах "Песни Песней"?
Они рядом в листьях олеандров, магнолий, и невидимы. Различаю птичку с ноготок, но в горле ее – такой звучный, трубный клекот.
Изначально таинственное великолепие мира, слабый отзвук которого ввергал в младенческий восторг Эйнштейна блаженным пением птиц, прекрасным обвалом обрушивается с высот, захватывая дыхание.
Едем на Масаду.
Внизу под нами, различаемые в солнечном мареве квадраты римских лагерей, странное посверкивание через девятьсот лет их металлических шлемов.
Ангельские вина Эйн-Геди, выпавшие в осадок горечью и изгарью, ввергнувшие в алкогольную горячку демонов.
На этих высотах Бог всеведущ и потому беззащитен. Держит перед каждым как зеркало – Соломоновы песни, надеясь на отклик.
Но Бог и бесконечен, и его безмолвие заглушить нельзя.
Сидим на высотах Масады; у развалин дворца Ирода, рядом с проломом, через который прорвались римляне в роковой час, и ощущение жизни в этот миг – летучим кабалистическим толкованием, осязаемым на ощупь: в то мгновение, когда женщина вкусила запретный плод, все человечество ощутило на губах вкус смерти.
Сидим на высотах, перекусываем, рядом с гибельными провалами ущелий Хевер, Аругот, Мурабаат, где история затаилась и не выветривается – кровью, без выходностью и свободой.
Пахнет краем земли.
Началом свободы.
Гибелью.
На этих высотах римские боги видели рассвет Мира, а люди Масады – рассвет смерти.
Так в нирвану, которой охватывает весна в Иудее, внезапно и остро вторгается чувство замкнутой поворотом рычажка на радиоволнах тревоги.
Есть ли у кого транзистор?
Волна, столь долго сдерживаемая плотиной молчания, опрокидывает все преграды: Ямит, Ямит, Ямит…
Уже почти смыт.
Оцеплен войсками. Объявлен закрытой военной зоной. Шлагбаумы закрыты: не пропускать ни членов Кнессета, ни редакторов газет.
Перед вами в закатном огне доживающий свои последние дни город-призрак пророчеств Иеремии и Иезекииля с памятником погибшим в Синайских войнах, на котором закрепились уже который день молодые ребята, противники отступления, и вы же сами, может, на год-два младше их, носите им еду и питье, отворачиваетесь, видя, как бродят последние жители Ямита пустынными переулками. Открыто плачут. Стоят, замерев, словно бы зачарованные ужасом приближающегося часа.
Опустошенное измотанное лицо жителя Ямита:
– Какое-то заколдованное кольцо эта наша еврейская история: только пустил корни – сам же их вырываешь. И что это все, живущие в центре страны, считают наши репарации. Мы не хотим уходить, как вор в ночи, не корыстолюбие движет нами. Особенно больно, что те, между которыми мы будем жить в будущем, не поймут всего, что прошло над нашими головами.
Двадцать четвертого апреля – одноминутный перерыв в передачах радио и телевидения в знак протеста против решения правительства, запретившего журналистам вход в Ямит.
Двадцать четвертого апреля – дождь листовок, сброшенных ребятами с памятников:
"Бегин! Помни! И Петен был национальным героем Франции, но концом его было решение французского суда: изменник!
"Рафул! Кто будет нашим де-Голлем? Пожалуйста! Уходи в отставку, спаси свою честь, честь Армии обороны Израиля и еврейского народа!
Мы"
Вы стаскиваете ребят с памятника за руки и ноги. Они оказывают лишь пассивное сопротивление.
Прекрасный город пуст, как в апокалиптических видениях.
Город привидений.
Песок скрипит на зубах Времени, стопорит его часовой механизм. Но близится час.
Стерты с лица земли мошавы Сад от и Угда. Синайская сушь и громыхание взрывов день и ночь. Ямит – на ваших глазах в течение недели превращенный в остров развалин.
Вырывание корней – пальм, трав, цветов, домов, сердца, жизни. Пятиэтажные дома Ямита забытыми игрушками покинувших город детей взлетают в воздух и разваливаются на глазах.
Голуби ищут исчезнувшие крыши. Пески уже заметают развалины. Шакалы уже пробуют голоса на верхушках дюн.
К полночи Ямит должен быть освобожден. Вы носитесь на джипах по пескам. Вот какой-то религиозный выскочил из автобуса. Пришлось погнаться за ним. Вот под кучкой деревьев посреди пустыни стоят, обнявшись, поют. Забрали и их.
День жаркий: тревога и солнце. Само пространство насыщено дискуссиями, ругней, напряжением. В Хан-Юнисе уже бегут за вами арабы, показывают непристойные жесты, а вы молча грозите им автоматами, проноситесь под плакатом: – "Египтяне! Добро пожаловать!" Вы уже видите египетских солдат, а вам еще приходится выволакивать из какой-то миквы [115]115
Миква(иврит): бассейн для ритуального омовения.
[Закрыть] спрятавшихся туда мужчин в талитах.
Полночь: миг безмолвной глубины, переживаемый всей нацией.
Еще несколько мгновений назад бывшая нашей – за шлагбаумом уже египетская земля. А в ушах голоса ребят, стаскиваемых с памятника: "Мы еще вернемся сюда."
Май восемьдесят второго солнечно чист.
Вновь напряжение в Ливане. Вновь переброска на север. Схех, Эйн-Зиван. Маневры, ночные засады.
Английский театр привез в Тель-Авив "Процесс" Кафки: сплошной поток масок, танцев, сонгов, гротесковый карнавал, израильскому зрителю наскучивший через полчаса. Что ему этот спектакль в сравнении с кафкианской реальностью последних недель?
И чем чреват завтрашний день этого громыхающего пока еще мирными взрывами года?
4. Лето 1957
И встал Давид рано утром, и поручил овец сторожу, и взяв ношу, пошел, как приказал ему Гешай, и пришел к обозу, когда войско было выведено в строй и с криком готовилось к сражению.
Шмуэль А, 17, 20
ЛЕТУЧИЕ ПАРУСА НА ЗАМЕРШИХ ВОДАХ.
БЕСЦЕЛЬНАЯ СТРЕМИТЕЛЬНОСТЬ В
ЗАПАЗДЫВАЮЩЕМ МИРЕ.
ТРАЛИ-ВАЛИ-ФЕСТИВАЛИ, ШАГИНЯН И АЛИГЕР.
ДАМА ТРЕФ И ПОЛКОВНИК ШАМАНСКИЙ.
ЭХ, ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ, МЕДАЛЬ ЗА
ГОРОД БУДАПЕШТ.
НАСТУПЛЕНИЕ ВХОЛОСТУЮ: ШИРОКОЛАН И
КЕРИМ-КАСЕМ.
СВЕЖЕСТЬ РАССВЕТА: ОДЕССА, ХЕРСОН,
ДЖАНКОЙ.
И ПРИМКНУВШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ.
Душная волна безделья и тяжкой лени, какой-то даже демонстративной беспризорности, разряжающаяся внезапными грозами в начале июня пятьдесят седьмого, казалось, неотступно накрывала нашу ораву, мгновенно выделяя среди обтекающей нас упорядоченной жизни. Ожидая отправки на военные сборы, мы слонялись по общежитию, окосев от сна и вина. Ночи напролет, до посинения, резались в покер и преферанс, урывками спали днем, шлялись, изнывая от жары, по улицам, заваливались к Пине в забегаловку напротив университета, который раз забалтывая один и тот же фокус Шайки Колтенюка: под общий шум выкрадывал из ящика пару бутылок пива, вальяжно говорил– «Пиня, тут мы пиво приволокли, поставь-ка на лед».
Выкаблучивание стало формой времяпровождения. Это был намеренный балаган, изощренное сопротивление упорядоченности, безоглядная забубенность последних студенческих лет перед брезжущей скукой всей последующей жизни.
Страну шатало, то ли от хронического недосыпа, то ли от чересчур резкого пробуждения. На верхах что-то варилось, темное и непонятное: Сталину снова отдавали "должное" и, казалось, долг этот никогда не погасить, но вернувшийся страх был какой-то мелкий, а вернувшие себе потерянный голос карьеристы, опять выкрикивающие про "великого вождя, преданного марксиста-ленинца", казались испуганными и жалкими.
В самое пекло я уходил на озеро, сидел в заглохшем углу с ряской, камышами, плакучими ивами, между которыми висла июньская паутина, следил за летучими парусами, непонятно как движущимися по замершим водам, иногда брал лодку, выгребал до середины, лежал, глядя в небо, пытаясь определить, куда его заносит, и каждый раз, подняв голову, в первое мгновение не мог понять, где я нахожусь, и вообще, где верх, где низ; со стороны предместья Баюканы, пасущегося у самых вод, неслась разучиваемая кем-то "Баркаролла" Чайковского, обрываясь на одном и том же пассаже, но распев был чист, полон все менее сдерживающей, какой-то ликующей тоски молодости, и мне было двадцать три.
Наконец нас погрузили в поезд под присмотром подполковника Бояршинова, мешковатого человека с лицом, серым и мятым как мешковина, помешанного на Мао-Цзе-Дуне; он все время его цитировал, сшибая с ног уж совсем элементарной китайщиной типа "Тот не коммунист, кто не идет вперед". Меня он не переваривал за игру на гитаре.
Поезд тронулся с места в сторону Бельц, и с этого момента мы впали в какую-то бесцельную стремительность, все время запаздывая, накладываясь невпопад, не туда стыкуясь: нагрянули в часть, когда уже не было командиров, ввалились в казарму, где уже кто-то расположился, затеяли перебранку, которая самих нас измотала, пришли на склад после того, как предназначенное нам обмундирование получили другие и куцему Лыкову гимнастерка оказалась по щиколотку, что вызвало прилив веселья, и бедного Лычка стали наперехват кружить в вальсе, по причине чего опоздали на построение, а это было совсем страшно, ибо о начальнике наших сборов, полковнике Шаманском ходили уж совсем ужасающие слухи: сатрап, был смещен с поста начальника артиллерии дивизии за то, что избил двух лейтенантов. Натянутый, как хлыст, с кривыми кавалерийскими ногами и цыганским лицом, обжигая строй быстрым взглядом, похаживал он по плацу, ожидая, пока мы, толпясь стадом баранов, наконец-то разберемся по три.
Говорил резко, отрывисто. Главным образом доставалось от него офицерам. Наш бедный Мао-Цзе-Дун совсем превратился в опустошенный мешок. И пошла гонка: бесконечные кружения на машинах в поле, ибо наш командир батареи, пехотный майор с апоплексической шеей никак не мог построить нас повзводно и за это отыгрался на нас во время стрельбищ, гоняя к мишеням: "Бягом, бягом, у вас что, кишки к коленям приросли"; особенно доставалось общему козлу отпущения Фишману: то заснул в охранении, и майор, совсем уж багровый, как вареный рак, орал: "У тебя что – мозговая или тормозная коробка, три наряда вне очереди"; то обладая непомерным аппетитом, набивал полный рот гречневой кашей, так, что глаза вылезали на лоб, задерживая всех, ибо из-за стола вставать должны все вместе, и опять мы куда-то опаздывали.
Наконец без задних ног свалились на нары. Вдруг окликают по имени: на выход, к полковнику Шаманскому.
Иду, с ног падаю.
Вхожу. Сидит, китель расстегнут, фуражка на столе:
– Садись. Ты, что ли, на фестиваль едешь через два дня в Кишинев?
– Я, товарищ полковник.
– На гитаре играешь, слыхал?
– Так точно.
– С тобой она? Вестовой! Принести ему его вещи, гражданские, понял, и гитару. Бегом.
Переодеваюсь. Едем на машине куда-то в город. Калитка, дикий виноград, крыльцо. Встречает дама треф. Еще какие-то гости.
– Ты мальца в душ, – говорит ей Шаманский, – и за стол.
Сидим далеко за полночь. Полковник знает уйму цыганских песен и романсов, голос у него звучный. Подперев щеку, смотрит на него, не отрываясь дама треф.
– Вот что, дружок, – говорит полковник, – ты в часть уже не возвращайся. Переночуешь здесь, а утром езжай в Кишинев, пара свободных денечков тебе не помешает. А после фестиваля прямо гони на юг, в Гофнунксталь. Там у нас будут маневры. С поезда прямо ко мне, понял?
Кишинев с ног валит-фестивалит.
Бестолковщина продолжается: куда-то запропастились университетский хор и оркестр, зато тут же подворачивается под руку поэт, вечно цыганящий трешку, по-настоящему талантливый Костя Семеновский, лет на десять старше меня, и с места в карьер речитативом: "Слыхал?.. Вероятно, наш Никита поднабрался вдрабадан, обругал он Маргариту Алигер и Шагинян. Дело швах, среди писателей страх, а мне рупь за импровизацию."
Срывает с меня рубаху контрабасист и бывший борец Гольдштейн: трали-вали-фестивали, но его оркестр парикмахеров сидит с намыленной шеей, а железнодорожники загнаны в тупик, и на меня вся надежда. Пока настраиваю домру, мне примеривают железнодорожную форму, и бронепоезд, который на запасном пути, сходу въезжает в "Севильский цирюльник", фрагменты из которого исполняются впавшими в полное расстройство цирюльниками; подоспевшие университетский хор и оркестр застывают с открытыми ртами: меня с утра ищут со свечами, а я, оказывается, вообще со сцены не слезал.
После выступления меня волокут в кино. Сюрприз: в журнале "Новости дня" минуты на полторы выступление нашего оркестра. Впервые вижу себя на экране крупным планом.
Странное и неловкое ощущение.
В поезде на юг уйма офицеров. Странно как-то на меня посматривают. После длительного прощупывания выясняется, что они видели меня в том злополучном кадре.
– Я ж его сразу вычислил, – хлопает себя по ляжке майор, этакий рубаха-парень, все время сбивающий фуражку то на затылок, то на лоб.
Тут же выясняется, что офицеры-то едут из Будапешта.
– Мы им там показали кузькину мать. Ты, паря, их не жалей. Знаешь, сколько наших ребят полегло. Назову цифру, не поверишь. Про это в газетах не пишут и песен про них не поют. Да чтоб мне в цинковом гробу в белых тапочках? Выкуси. Ты в меня из винтовки, я в ответ из танка. Мы там насквозь кварталы прошивали. Им-то, сукам-венграм, чего не хватало? Я, паря, сам с Карелии. Там, знаешь, как дохли. С голодухи. Деревни одна за одной мертвые лежат. Сплошное кладбище. А у этих было то, что и нам не снилось. К ногтю их, понял? Зажрались, гады. И эх, споем, что ли…
Солдат сидел, над ним сверкала
Звезда не сбывшихся надежд,
А на груди его сияла
Медаль за город Будапешт.
Помирая от голода и жажды, по выжженой степи добираюсь до нашего боевого расположения. В палатках духота, пекло. Все дрыхнут. Маневры-то ночные.
Опять начинается балаган.
Я оказываюсь дублером командира топографического взвода, лейтенанта Киденко, который по специальности огневик, топографические карты читает с трудом, оторопело сопровождает начальника топослужбы игрушечного с лицом-с-кулачек капитана Иванкина по кличке Ванькин-Встанькин, который в этой раскинувшейся на десятки километров николаевской степи, покрытой травами, в любом месте и в любое время дня и ночи может найти ничтожный колышек и привязать к нему все артиллерийские расчеты полка, а, быть может, и дивизии.
К ночи же мы теряем собственный взвод, капитана, и на полуторке вчетвером – Киденко с шофером в кабине, мы с сержантом Мержи в кузове – качаясь от бессоницы, колесим по пустой степи, попадая в ямы и колеи так, что нас подбрасывает до неба, но продолжаем спать, каждый раз краем глаза отмечая сквозь стекло кабины, как Киденко лихорадочно шарит воспаленным взглядом по карте, пытаясь понять, где мы находимся; внезапно чуть не врезаемся в командира собственного полка, полковника Подольского, который во главе колонны, слышим его хриплый испитой голос: "Откуда этот мудак, лейтенант, взялся?"; испуганный шепот Киденко шоферу: "Чеши отсюда, а то нам каюк", и опять мы в степи.
Вконец заблудившись, останавливаемся. Шофер выключает мотор. Мгновенно прихлынув к самым глазам, стоят низкие южные звезды, цикады, кажется, стучат прямо в барабанные перепонки. А до начала артобстрела двадцать минут, а мы торчим в какой-то низине, а вчера снаряд попал в какое-то село и снес дом, благо старуха ушла по воду, вернулась, у нее по-щучьему велению новый дом вырос, стройбат в считанные часы срубил, а позавчера ночью танк накрыл двух солдатиков, свалившихся в степи от бессонницы, одного раздавил, а другой, увидев танковые колеи с двух сторон от себя, сошел с ума.
Сна как и не бывало. Сержант пытается разобраться в карте, я бегу вверх по склону. Во мгле колышется огонек: вероятно кто-то движется с фонариком.
– Эй, – кричу, – иди сюда.
– Ты иди сюда, – в ответ.
Подходит: полковник. Тут их, вероятно, как собак нерезанных: шутка ли – готовится наступление фронтом. Когда мы по указанной им дороге добираемся до какого-то расположения, начинается артподготовка. Мы спим в кузове, в пятнадцати метрах выше нас бьют гаубицы, и снаряды шорохом вверчиваются во тьму прямо над нашими головами.
Этот гул и грохот будет нас сопровождать три дня, а пока на второе утро, за неимением других дел, взвод назначают на охрану знамени, которое хранится в ящике в крытом кузове машины, сопровождаемой замполитом, майором Белоусовым.
Бесцельно носимся по степи, не зная куда приткнуться, то и дело натыкаясь на колонны танков и самоходок, выныривающих в самых неожиданных местах. На нас никто не обращает внимания, а иногда мы едва уворачиваемся от какого-нибудь танка, слепо прущего неизвестно куда.
Майор Белоусов то и дело читает газеты, переговаривается с кем-то по рации, а в свободное время ведет со мной философские разговоры, ибо из-за войны не сумел закончить философский факультет, остался в армии, это его тяготит, о чем он, конечно же, вслух не жалуется, но делится со мной серьезными опасениями: в Ираке переворот, какой-то Керим-Касем сменил Нури-Саида, там настоящая заваруха и в штабе поговаривают о том, что мы вполне можем вмешаться, и конечно же наш южный округ.
Только этого не хватало: очутиться вместо практики в Крыму в составе экспедиционного корпуса в Багдаде.
И все же странным, пахнущим гибелью волшебством смешиваются в сознании запахи трав под палящим солнцем на Широколановском полигоне с арабским именем Касем, имеющим, вероятно, связь с ивритским словом "кесем" – волшебство – и всплывающими арабесками кадров из "Багдадского вора".
Впервые ощущаю как нечто единое эти бессарабские причерноморские степи, генуэзские крепостцы, протянувшиеся памятью Италии вместе с Малой Азией за морем да за холмом, Месопотамией, где теперь Ирак, горами Моава и землей обетованной у их подножья, рукой подать через Мертвое море, Израилем.
В селах старики и старухи выносят холодную воду в крынках, молоко: "Пей, солдатик"; и это добавляет крупицу соли в общее беспокойство, которое уже ощущается не только Белоусовым и мною.
Все в этом мире условно: тишь, гладь, а в Венгрии погибли сотни, быть может, тысячи.
Ночуем в поле, под деревьями: расстилаем шинели прямо на земле.
Просыпаемся на рассвете от страшного грохота. Степь пуста, взрывов не видно, но ощущение, что бьют прямо по тебе. Пространство просто раскалывается и корчится от грома.
Майор и сам ошеломлен. Дрожа от холода, бросаемся в кузов, несемся куда глаза глядят, вылетаем поворотом из-за какого-то холма прямо навстречу бегущей с автоматами наперевес вслед за танками пехоте. Только в этот момент, прийдя в себя, понимаю откуда такой грохот: артподготовка-то холостыми, а это ведь гораздо громче, чем боевыми снарядами.
Солдаты к этому времени залегли, пощипывают да жуют травку, к нам бежит опять какой-то полковник, размахивает пистолетом:
– Куда вы, вашу мать прете, майор? Поворачивай, шофер, мать твою, чтоб духу твоего не было.
Майор пытается сохранить хладнокровие, перевести беседу в более интеллигентное русло.
– Пошел ты на… Знамя? Так ты его охраняешь. Да я ж мог дать команду танку – огонь, и век нам с тобой куковать за решеткой.
Багровый, брызгающий слюной толстяк-полковник вот-вот лопнет от злости, бессилия, бестолковщины.
Убираемся в какую-то ложбину. Майор бел. Его трясет.
Нас снимают с караула, везут опять всю ночь, к черту на кулички, впервые за эти дни встречаемся всей кодлой, которая была разбросана по разным частям, каждый из нас должен произвести три выстрела прямой наводкой по недвижной и движущейся цели – из тридцатипятки, семидесятишестимиллиметровой пушки и немецкой гаубицы, до того прыгающей при выстреле, что мы должны прятаться в окопчик и дергать оттуда за шнур.
Мы уже возвращаемся в Бельцы, сдаем оружие и обмундирование, пьем в ресторане с офицерами, а я еще с Шаманским у дамы треф, обмениваемся адресами, а звон от тех выстрелов все еще стоит в ушах.
Через неделю вместе с Игнатом приезжаем вечерним поездом в Бендеры по дороге в Крым.
В сумерках обходим все места моего детства, кажущиеся такими усохшими, сжавшимися, стесняющимися самих себя.
Опять бабушка не отпускает мою руку, а на ночь мы укладываемся с Игнатом в ее спаленке.
Утром просыпаемся от громких ликующих звуков из репродуктора.
Марш Мейербера.
Лежим с открытыми глазами, солнце пятнами на стене, ветерок колышет марлевую занавеску, а марш льется каким-то сверкающим входом в высоты ожидающей нас жизни, таким невыносимым – на грани спазма, сжимающего горло – счастьем.
Это мгновение врезается в мою память до сегодняшнего дня, а в память Игната на всю его так горько и рано оборвавшуюся жизнь. По сей день я не могу спокойно слушать звуки этого марша, созданного еврейским гением, познавшим тайны немецкого духа.
К вечеру прибываем в Одессу, разыскиваем квартиру нашего однокурсника Вити Баканова, который уехал на практику на Камчатку. Знакомый одесский двор-колодец. Дверь открывает Витина мать.
На рассвете двор заполняется шорохом летающих голубей, голосами соседей, окликающих громко друг друга с тем особенным распевом в голосе, присущим одесситам, который может разбудить даже мертвого.
Запах голубиного помета смывает свежая струя воды из поливальной машины вдоль замершей в первых солнечных лучах улицы, в которых радужно мелькают перья голубя, только что раздавленного этой машиной.
На автобусной станции уйма народа, ругня. Ведем переговоры с водителем битком набитого автобуса на Херсон: возьмет – не возьмет. Соглашается.
Впервые пересекаем Николаев. Пешком, за автобусом, идем через длинный мост на плаву, по обоим сторонам которого в речных водах, на уровне наших ног, качаются арбузные корки.
На херсонском вокзале странно звучат в устах замотанных, плохо одетых крестьян названия станций – Пантикапея, Джанкой, Бахчисарай.
К нам лепится какой-то шустрый толстяк в соломенной шляпе, сандалиях на босу ногу с чемоданчиком, полным тараньки, который он то и дело открывает, соблазняя нас. Втроем до прихода поезда Москва-Симферополь заваливаемся в пивную. Толстяк полон, как арбуз семечек, всяческих южных прибауток и анекдотов, рад слушателям, сыплет ими с каким-то сочным удовольствием…
В окне вагона плывет прекрасный черноморский закат на фоне тонкого девичьего профиля: совсем еще девочка, впервые едет с папой-мамой в Крым, в глазах жадность и первая печаль пробуждающейся женской души, худенькие ключицы нежно торчат из платьица, под веками бархатная темень.
В полночь просыпаемся от ангельского ее голоса:
– Джанкой.
Симферополь на рассвете.
Стоящие как бы поодаль, но присутствующие в каждом нашем движении и взгляде – шапки гор – Чатыр-Даг и Роман-Кош.
Вдоль пальм и брызжущих фонтанов озабоченно бегут люди, читая на ходу газеты. Устраиваемся в гостинице, в комнате величиной с вестибюль вокзала с множеством коек. В какой-то забегаловке едим манную кашу, чуть приправленную маслом, а люди вокруг, шагая, беседуя, не отрываются от газет.
Снова что-то произошло, пока мы были в пути.
Пытаемся поймать заголовок, ускользающий из одной перелистываемой газеты в другую: "Антипартийная группа – Маленков, Молотов, Каганович и примкнувший к ним Шепилов".
Фраза шипит змеей, сворачиваясь и разворачиваясь листами, держа на весу жало, полное яда, и все зачарованно следят за ее движениями.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































