Текст книги "Оклик"
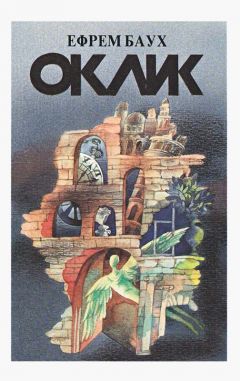
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 41 страниц)
Каким сладким и запретным кажется это беспричинное счастье, усиленно скрываемое под маской равнодушия среди всенародного плача, больше похожего на массовый психоз и помрачение сознания среди бесчисленных запоров, затаптываний, запретов, заушательств, в которых, как в своей стихии, чувствует себя тиран, могущий в одну ночь перемещать народы, как пешки в гиблой игре, уверенный, что открыл новую наследственность подчинения и страха, и это будет вечно и неизменно, ибо все это знают, и чувствуют, и верят, что так и должно быть. Старики-то, которые знали иное и говорили об этом, давно уничтожены, и следа от них не осталось; но вот в какой-то миг умирает даже не тиран, а имя его, на котором, как на оси держалась вся махина, и все угрожающе зависает и стопорится: к хорошему ли это, к плохому?
Что еще с нами будет?
В газетах антисемиты распоясались вовсю. Двадцатого марта Вас. Ардаматский публикует в "Крокодиле" фельетон "Пиня из Жмеринки": со смесью омерзения и стыда пытаюсь отвернуться от прыгающих строк этого фельетона в руках соседа по автобусу, едущему в Каушаны, который не устает вслух разглагольствовать о "нашенских Пинях, Абхамчиках и Сахочках" и о том, что к еврейским врачам даже не порог нельзя: они же отравляющие уколы ставят беременным женщинам, чтоб русские дети не рождались; весь этот бред с каким-то почти опьянением подхватывает весь автобус, что попадись им тут еврей, в клочья растерзают. Меня спасает моя, как говорил профессор Добровольский, славянская физиономия.
Ужас и отвращение становятся хроническими. Дыхание погрома подступает и охватывает весенним плотным туманом, пахнущим углем, намокшей одеждой, жженой резиной, вонью из подворотен, запахом гниющих десен преподавателей в учительской, которые опять же и не менее мерзко говорят об евреях, главным образом, о еврейских врачах: вот же святую профессию превратили в преступную. И забившись в угол, печально улыбаясь, поглядывает на меня преподавательница французского зачумленная жизнью и своими учениками Сарра Львовна, а шумно глотающий слюну Гитлин, несмотря на тяжелую поступь грузчика, бесшумно проскальзывает в свой директорский кабинет и тихо отсиживается там до конца занятий, боясь даже уборщицам давать указания.
Как ни странно, короткое облегчение приходит со стороны военных, при виде формы которых у меня возникает ощущение, что мне набили рот древесной стружкой, замешанной на портяночной вони: с математиком Сивривером, голова которого напоминает гладкий и блестящий кегельный шар, стоя у обочины в жидкой грязи, мы голосуем на Бендеры; остановилась легковая с двумя полковниками; они невероятно общительны, казалось, истосковались по человеческой беседе, рассказывают, что служат на Сахалине, какая-то закоренелая тоска и незащищенность, идущая от их лиц и голосов в соединении со столь высокими в моих глазах званиями и тоскливой тяжестью, не рассасывающейся у меня в груди, развязывает мне язык: я сыплю анекдотами, они почти с детской готовностью ожидают очередной развязки анекдота и без удержу хохочут; осторожный, с вечным испугом в глазах, Сивривер пытается меня остановить, тыча локтем в бок; полковники не хотят нас отпускать, силой затащили в ресторан в Бендерах, заказывают водку и уйму закуски; узнав, что я водку-то никогда в рот не брал, приходят в неописуемый восторг, начинают наперебой меня учить, как опрокидывать рюмку, задерживать дыхание, занюхивать коркой и закусывать лимоном; выпив пару рюмок, я, вероятно, совсем распоясался: анекдоты сыплются, как из рога изобилия, полковники падают со стульев, вытирая глаза от слез, Сивривер устал бить меня в бок и по ногам, смирился, а, выпив пару рюмок, пригорюнился; все плывет и тает, только мелькающие вокруг женщины воспринимаются более обостренно, как будто алкоголь открыл во мне их истинное прелестное и влекущее измерение, даже если и приукрашивает их чрезмерно; древесно-неперевариваемая, торчащая тупо, как забор, военщина топорщится поодаль, и я, вероятно, даже вслух, ибо Сивривер, пробудившись, стал меня буквально избивать под столом ногами, диву даюсь, как она еще вообще может быть окружена романтикой, ведь в корне изменилась с тех пор, как избранная молодежь, аристократы, пошедшие на Сенатскую площадь, считали высшей честью избрать военную карьеру; полковники по-моему и не очень поняли, о чем я ораторствую, они усиленно стараются записывать на салфетках анекдоты, забывают, переспрашивают; добравшись до дома и увидев удивленные глаза матери, я весело и бесшабашно говорю: "Мама, я пьян", – и мгновенно проваливаюсь в беспробудный и сладкий сон.
Было четвертое апреля: опять надо было вставать затемно, преодолевая отвращение, топать по грязи до улицы Суворова, голосовать попутную, рискуя каждый раз быть обрызганным с ног до головы; день обещал быть особенно мерзким – ни солнце, ни дождь, а какая-то замершая в воздухе липкая морось. Подняв воротник пальто, привалившись к борту кузова, примыкающего к кабине, согнувшись в три погибели, трясся я по кочкам, и поездка на этот раз была какой-то особенно долгой и изматывающей.
Войдя в учительскую, я не понимаю, что происходит: Сарра Львовна, несчастная Сарра Львовна сидит посреди с беспомощно-наглой улыбкой, такой чуждой ее измученному лицу, держа на вытянутых в пространство руках газету, а вся преподавательская шатия-братия, какая-то невероятно почерневшая, похожая на страшно нашкодившую школьную братву или захваченных на месте преступления уголовников, пригнулась вдоль столов, уткнув носы в бумаги.
Бы читали? – говорит мне Сарра Львовна.
Ничего не понимая, беру все ту же, будь она неладна, "Правду" и залпом прочитываю:
"…Проверка показала, что обвинения, выдвинутые против перечисленных лиц, являются ложными, а документальные данные, на которые опирались работники следствия – несостоятельными. Установлено, что показания арестованных, якобы подтверждающие выдвинутые против них обвинения, получены работниками следственной части бывшего Министерства Государственной Безопасности путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия…"
По списку фамилий понимаю, что все оставшиеся еще в живых врачи освобождены.
Чувствую, как опять мертвые неразгибающиеся пальцы стиснули мое горло; шатия осторожно, исподтишка, словно бы ожидая заслуженного удара, поглядывает на меня.
– Ах, суки, – только и смог выдавить я, глядя на их мерзко-униженные рожи, осторожно, как взрывчатку, кладу газету на стол, медленно, очень медленно иду к двери, чувствуя, что все еще никак не могу вздохнуть, тихо прикрываю ее, и вдруг бросаюсь наружу.
Я бегу, как очумелый, хотя мне страшно не хватает воздуха, я расстегиваю и разрываю на ходу все, что на мне, огромный камень, так явственно ощутимый в груди, давит изнутри на горло, слезы текут по лицу, не переставая, я бегу, пугая прохожих, ибо так бегут лишь на пожар, бросаться под колеса поезда, потеряв рассудок; все копившееся во мне унижением, страхом, козлюченко-добровольски-козляковское, Валтасарова надпись на стене в мерзкой паутине каушанских переулков, фельетон крокодила Вас. Ардаматского, прыгающий в руках двуногой твари, вдохновенно ощущающей себя центром скопления таких же тварей, исходящих бешенной слюной в жажде кромсать себе подобного лишь за то, что он еврей, – все взорвалось во мне в единый миг с сообщением о кровавом навете, ведь их безвинность косвенно была и моей безвинностью; сдавленные звуки, похожие на плач, вырываются из горла; в сумеречном состоянии не замечаю, как очутился на открытой старой полуторке; я стою во весь рост, захлебываясь холодным ветром, скребущим лицо, как наждак, не вытирая слез; это приступ, один из тех редких, сотрясающих все существо приступов, который после того, как все внутри выжглось и выплакалось, еще в силах выжать слезу.
В эту безумную поездку я застудил гайморовые полости лица, и долгие годы мучали меня сильные головные боли.
После бешеной этой поездки меня качало. Я шел по городу, по-апрельски гулкому, полному всевозможных водяных звуков.
Снег со страхом шлепался со стрех, квасился под ногами, пытался сбежать туманом, капелью, просочиться в синеву, но везде его подстерегали жаркие ветерки, сквозняки, теплынь, и капель казалась неким эфиром, прочищающим забитые с зимы уши микрофонов – вот раздолье начиналось для доносчиков и заушателей – самый отдаленный разговор, бормотание, плач, смех и вольность можно было засечь без всяких усилителей, но н о-в о с т ь прочно держалась в пространстве, как фильтр, новый и пугающий: умер Сталин, выведены на свет истязатели и палачи Аббакумов и Рюмин, от имен которых несло ужасающей смесью татаро-монгольского зверства и русской опричнины. Какая-то компания парней и девушек посреди города возбужденно перекликалась громкими голосами, хохотала до упаду, вероятно, так, без всякой причины, смешинка в рот попала да весна кружила голову, и в ошеломленном невероятной новостью, как бы присевшем от удара бревном по лбу апрельском дне смех этот был возмутителен и восхитителен…
Природа, как и время, залечивала раны.
Я завершал свое учительство, снимался со всех учетов, кроме воинского, продался с Посларем и Гудумаком; Прилуцкая всплакнула на прощанье, Гитлин, с невероятным шумом пуская и глотая слюну, отсчитывал мне мою последнюю зарплату вместе с отпускными, и, казалось, он падает в обморок с каждой уплывающей из его рук кредиткой. Небрежно засунув пачку денег в боковой карман пальто, я вольно гулял по Каушанам, последний раз посещая памятные места, шатался по лесу, – и стоял он, захолонув, никого не боящийся, заросший по брови, как леший, прошлым, наплевательски глядящий на мелкую икриную суету людей, он-то все помнил: говорили, где-то здесь немцы расстреливали евреев, затем энкаведисты кого-то спешно зарывали – чьи-то ставни еще хранили щели, в которые обезумевший человеческий глаз все это видел.
Дома сносило страхом, а лесу – все нипочем.
Сошли вешние воды. Сухой шорох засохших с осени трав, шалаш мой в нашем дворе, пожухший, как Стожары в небе, земля, дымящаяся на солнце, встречали меня, и все еще не верилось, что голые кусты сирени когда-нибудь смогут оклематься и начать исходить лиловой пеной свежести и влаги, пробуждения и надежд.
Но наступало утро, и словно бы распустившаяся спросонок сирень казалась обалдевшей, пьяной, с охапкой-шапкой набекрень.
Май был летуч и легок.
Еще душило приторной сладостью цветение лип, но тополиный пух, носящийся в воздухе тихим безумием после страшного погрома, невидимо длящегося вот уже более полугода, когда, кажется, потрошат окровавленными ножами тысячи скудных еврейских перин в поисках сводящих с ума несметных богатств, уже оседал, забивая щели, уносясь дождевыми потоками; и все, оставшиеся в живых после погрома, выползали погреться на солнышко: врачи, вернувшиеся из застенков с черными кругами вокруг глаз от пережитых ужасов, герои мерзких фельетонов, которым, конечно же, извинения не принесли, еврейские мальчики, не принятые в институты, которые, боясь потерять год, хлынули, особенно из Черновиц, в бендерский гидромелиоративный техникум, а теперь подумывали куда податься и, устав таиться, шумно играли в волейбол во дворе техникума, все хорошие спортсмены – Фима Червинский, Марек Бурштейн, Миня Шор, заторможенный и длинный, как жердь, который приходил к нам домой, часами сидел, изводя меня просьбой научить его играть на мандолине, Люсик Айзикович, мой одноклассник, лучший математик в классе, так и не поступивший в институт, загубивший удивительные способности.
Яша Копанский, на три года раньше меня закончивший нашу школу и всегда мне покровительствовавший, ныне секретарь комсомольской организации историко-филологического факультета Кишиневского университета, пытался сделать все, чтобы меня приняли, красочно расписывая начальству мои таланты, чтобы ореол этих описаний затмил в их глазах все же нестираемое клеймо на моем лбу. Решено было: подаю на геологический. Волчья яма прошедших месяцев жизни все же не вышибла из меня романтических надежд и, казалось, никакая иная профессия столь не близка к поэзии, как геология.
Было ранее, начинающее высвечиваться небо середины лета, я выполз из шалаша, осторожно огибая невзрачную травку, которая ночью, как чудо, оживая всеми своими фибрами, пропитывала воздух райскими ароматами, мама уже приготовила завтрак, перебрила документы, разгладила бумажку с позолоченным обрезом и сиамскими близнецами Лениносталиным, которая, как и та невзрачная травка, пролежала почти год под спудом, и теперь должна была вновь обрести силу.
Я шел по спящему городу, ощущая все же какую-то тревогу: несколько раз проносились машины с солдатами, в сером особнячке по Пушкинской, где размещалось отделение МГБ, отмечалась суета, хотя не видно было ни души.
Странные мысли одолевали меня: стоит мне решиться на какой-то важный шаг, и в тот же миг словно бы оживают какие-то до сих пор таящиеся черные рати, скопища тварей.
Ну что уж на этот раз может быть?
В поезде на Кишинев было немного пассажиров. Белые волны каких-то цветов у станции Бульбока, яблоневые сады и виноградники, несущиеся вдоль полотна, заливали вагон волнами безмятежной свежести, и все были в нее погружены настолько, что не слышно было человеческой речи.
Я шел вверх, по улице Бендерской, мимо достраивающегося стадиона на бывшей Сенной площади, к общежитиям университета, стоящим вплотную к тюрьме, так, что в сумерках живущий на третьем этаже общежития, глядя в окно, мог принять издалека тюремную вышку за соседнюю комнату, а охранника за переодетого в карнавальный костюм студента.
Миновав скверик с клумбами цветов перед входом, я вошел в вестибюль, откуда на верхние этажи вела тяжелая, каменная, с лепными украшениями, лестница. Под нею была распахнута дверь в буфет, пустой в этот ранний час. Яшу мне следовало дожидаться в вестибюле, но было еще очень рано, и я заглянул в буфет. В углу возилась буфетчица. Я попросил халвы и бутылку "крем-соды", но она даже не отреагировала на мой голос. Я повторил просьбу.
– Да замолчи ты, – вдруг зло окрысилась она, – не слышишь, что ли?
Тут лишь я заметил, что на прилавке стоит обращенный тарелиной кверху репродуктор, откуда неслись бубнящие столь привычные для уха звуки. Я напряг слух, улавливая отдельные слова, столбенея все больше и больше: "…Берия… враг народа, шпион, прислужник мирового империализма…"
В буфет вошел мужчина в форме МВД купить сигарет, очевидно, охранник из тюрьмы.
– Ну, – сказал он, обращаясь ко мне, – что скажешь? Лаврентий-то наш Палач, а?
– Лаврентий Палыч? – выдавил я, удивляясь, как язык мой в присутствии тюремщика вообще и вслух переворачивает это имя.
– Ну да, изменник, враг народа, собака… Так-то…
Слова это были или какие-то смещения земной коры, произведенные устами раба, топчущего вчерашнего своего кумира, но ничего вокруг не пошатнулось, не рухнуло.
Документы в приемной комиссии принял парень с порченным глазом по фамилии Скуртул, Яша пожал мне руку, хотя сомнения все еще одолевали меня.
Я вышел из желтого здания первого корпуса на полукруг широкого парадного крыльца, перед которым в тени зелени был небольшой круглый фонтан, бьющий слабой сверкающей на солнце струей воды, и вдруг – с необычайной остротой, какая бывает, вероятно, раз в жизни, ощутил, как в зрительную мою память врезается навсегда плавно отточенным – источенным током воды очерком фонтан вместе с листвой деревьев, массой парней и девушек, по уверенным лицам которых видно, что они уже давние студенты, их слитным движением, скольжением, огибающим фонтан, – и за всем этим незнакомая, манящая, предстоящая мне, если Богу будет угодно, жизнь, полная молодости, скрытой прелести и чувственности, и все это сродни музыке, неслышно падающей во все стороны струями водяной арфы фонтана, музыке, полной надежд и обещаний, звучащей такой простой, но сотрясающей всего меня истиной, что коли уж родился, жизнь дана тебе как подарок.
Клеймо на лбу слабо продолжало ныть, как бывает к плохой погоде.
"Мы были молоды" – в этой магической фразе вся правда тех лет.
Страх не исчезал, ибо существовал иной безотрывно следящий за мной мир: искусно отделенный от моего мира моей же жаждой не знать о нем – тот мир был этим и всесилен, насквозь демоничен, хотя и соткан из самой что ни на есть мрази, человеческих отбросов, провокаций и угроз.
Но вот в такой солнечно-эллинский, такой удивительный день рухнул с трона главный идол того гнусного мира, стал тем, кем и был на самом деле, обыкновенным человеческим дерьмом, который, вероятно, получит пулю в затылок в одном из им же изобретенных для тысяч других коридоров смерти.
И я дожил до этого.
Еще не успевший вступить в жизнь, уже трижды битый и топтанный, я шел по улице, повторяя про себя тютчевские строки, такие высокие, замершие вечным звучанием на Олимпе и, казалось бы, абсолютно не касающиеся меня:
Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые:
Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир…
Глава шестая
* * *
НАЗРЕВАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ.
ГАДАНИЕ ПО ПТИЧЬЕМУ ПОЛЕТУ.
ЖАТВА ДУШ.
ОГНЕННЫЙ КИТ, ПЬЮЩИЙ ВОДУ.
СВЕТ, ЗАБЫВАЮЩИЙ СЕБЯ.
ЗАВОРОЖЕННЫЕ ЛИЦА.
ВЗРЫВ ПУРПУРА.
ЗАБРОШЕННЫЙ ФОНТАН,
ОТКЛЮЧЕННОЕ ПРОШЛОЕ.
ПОДМОСТКИ ЖИЗНИ, КОРИДОРЫ СПЕКТАКЛЕЙ:
МОРЕ РОКУЭЛЛКЕНТОВСКО-ГАМСУНОВО-
КОКТЕБЕЛЬСКОЕ.
АКТЕР НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ПРОСТРАНСТВ.
Акко. Время приближается к пяти после полудня.
Три туши, три тучи рассосались, растеклись, солнце прорывается шатром лучей, огненным Синаем.
Пытаюсь уйти от моря в лабиринт улиц, но предчувствие назревающего события тянет назад, к берегу. Стрижи низко стригут воздух, верещат, неся на хвостах молчаливую печаль накапливающейся в углах и закоулках темноты, напоминая своим тревожным криком и снованием птиц, летавших под потолком в столовой Бар-Иланского университета в Рамат-Гане, где я участвовал совсем недавно в совместной трапезе какого-то очередного ученого собрания. Дальней юностью восходит теплоход "Аджигол", плывущий из Крыма в Одессу, где птицы верещали в ночном ярко освещенном салоне, носясь над столиками и тусклыми лицами полуночных пассажиров. Кажется, еще мгновенье, откроешь тайну древних римлян, гадающих будущее по полету птиц, быть может, и на этом берегу в имперские времена Веспасиана и Адриана.
Прямоугольное высокое здание вдали, начисто лишенное элементов архитектуры, внезапно – благодаря рядам бочек на крыше для нагрева воды – становится на фоне оранжевых полыханий подобным средневековой башне с бойницами поверху.
В каньонах улиц – суета, шныряние, рекламы тускло горят электричеством, скудно освещая лица, налитые любопытством, и никто из них не замечает, что совсем рядом совершается грандиозное и печальное событие.
Закатывается солнце.
В клетках квартир, глядящих на восток, видят лишь серое небо, не догадываясь о том, что происходит за спиной.
Закатывается солнце, выбрасывая все возможные цвета, всю печальную красоту жизни, ведь оно закатывается для тех, кому завтра не увидеть его восхода.
Жатва душ продолжается.
Оно старается для них, медлит, взрывчато выбрасывает столб пурпура, прожигая небо спиртовым пламенем: два-три облака, более низких, насквозь прохваченных огнем заката, оранжевыми одиночками вкраплены в общую серую массу облаков.
Дальний выход переулка к морю налит пурпуром до того, что возникающая на его фоне машина кажется пауком, бегущим по воздуху, ибо сила пурпурного пламени сметает точку прикосновения колес к земле.
Собака в испуге облаивает безбрежное пространство.
Седые волны, огненное небо, пологая тишина белых песков.
Внезапное ощущение одиночества и внутренней бьющей через край жизни: такое я ощутил месяца два назад, совершая прогулку на закате через песчаные дюны от Ришона ле-Циона в сторону Кириат-Шарета, и солнце, повисшее между мощно-кривыми ветвями сикомора и заброшенной водонапорной башней, казалось медным тазом, усиленно начищенном песком (как это делала в моем детстве бабушка, и медь ослепительно сверкала). Тянущиеся вдоль проселочной дороги приземистые длинные склады были безлюдно пусты, словно забыты.
Замираю, глядя на огненный зачаровывающий шар, витающий в дреме: вот она, пылающая точка начала и конца вселенной, огненное око, поплавок.
Погрузилось на треть – и это воздушный шар – стропами в воду.
На половину – каравай дышащего жаром, только из печи хлеба.
На две трети – купол парашюта.
В следующий миг ощущение: огненный кит пьет взахлеб воду, ибо волна, расшибаясь о другую у самой пасти кита, подымает тучи брызг, шумно вливаясь в китовое брюхо.
Наконец огненную каплю масла с поверхности языком слизывает волна.
Солнце закатилось.
Водяные столбы пылью встают у берега. Оранжевый рассеянный свет огромного пространства ударяется о стены зданий, крепости, игрушечно вычерчивая окна, бойницы, колонны, свет неверный, отлетающий, как бы забывающий себя, мрак и лица людей в окнах, завороженно вглядывающиеся в темнеющую даль, будто пытаются разглядеть весь туманный смысл своей жизни, но ничего не видят.
Час мирового сиротства, оставленности в мире, когда прошлое закатилось, а будущее неизвестно.
Два с половиной года назад, в такой час пришел сдавать свой диплом в университет, перед отъездом. Отчужденно и казенно обступали коридоры нового центрального здания на Садовой, построенного на бетонных обломках взорванной в сорок первом году радиостанции, которые мы разбирали когда-то всей студенческой братией. Новые огромные аудитории были гулко-пусты и необжиты. И к этому зданию сиротливо примыкал старый желтый корпус, хранящий в себе такое драгоценное и вовсю облупившееся прошлое, как-то весь вросший в землю, с приземистой ажурной оградой и заброшенным фонтаном, своим отточенным очерком так в свое время поразившим мое воображение в день, когда я сдавал документы в университет, в день, рухнувший в единый миг подобно псевдовавилонской башне посреди столетия, чтобы погрести под собой еще одного тирана, и высоко взметнувшийся столб пыли, мерзости, крови и вскрывшейся гибели долго стоял, видимый во все края земли.
По коридорам нового здания напористо и шумно перемещаются толпы студентов и студенток, и все чужие незнакомые лица, лишь мельком среди них округлое – мягким колобком – лицо сына полковника Панасюка, учившего нас на военной кафедре: сын, то ли аспирант, то ли ассистент, как и папа, отрастил себе пышные усы – знак хохлацкого рода.
Но стоит покинуть здание, обступает дряхлая тишина нестираемой памятью ночных свиданий у водонапорной башни, ныне заросшей бурьяном, на углу Гоголя и Садовой, обветшавшим зданием "пожарки", где мы устраивали студенческие капустники и, разгоряченные, прямо со сцены вместе с поклонницами сбегали через вход на озеро, напротив, вниз по ступеням, наскоро переодевались в кустах и бросались в прохладные ночные воды.
Кто стерег одежды, Света, Люся или Валя?
Последний раз сижу на знакомой скамейке у забытого фонтана. Поразив тогда мое воображение, он долго не давал мне покоя, возникал в стихах, фонтан-Левиатан, каменный кит, выбрасывающий струю, в стихах, которые так и не были опубликованы, как и все лучшее, потерялись, оставив лишь смутное ощущение печали жизни…
Какие-то призрачные строки стыли в воздухе водяной кисеей, забытой радугой…
Фонтан!
Груда камней!
Опрокинутый навзничь
в долгий, в единый, в единственный
выдох,
над собою ты видишь в пространстве
облако радужной радости в призрачных видах…
Как остра в этот миг несбыточная мечта о единственном вдохе, замешанная на горьком знании, что это невозможно. Радужное облако в небе, свет и легкость, вода, как воздух – и это так давно и так всегда, что забыта начисто связь между тобою – камнем замшелым – и этой радугой, ты и на миг представить себе не можешь, что ведь это ты и рождаешь это облако и свет, а сам грудой камней прижат к земле, присутствуешь при тайном шепоте любви, плаче, разрывах…
Среди праздных и праздничных толп
во все времена на свете
ты всегда одинок – вверх летящей воды
ослепляющий столп!
Вечно третий!..
Брожу по пустому фойе старого корпуса с одинокой старой вахтершей у входа: она помнит меня, но не знает, что прощаюсь со стенами и этим зеркалом у широких ступеней на второй этаж, где я впервые как бы сбоку увидел свое лицо среди множества других, порывисто выступившее из мрака анонимности.
Замер час, обветшали стены, заброшен фонтан, чуждо шумит новое племя, но истинен лишь тот роман жизни, где поверх вещей, строений и событий, в самой ткани этого романа, как в подземных пещерах, пронизывающих гору, шумят воды, и беспрерывно ощущается связь с бесцельной текучестью времени.
Бывает день, равный десятилетию…
Стою у моря. Закатилось солнце. Минуты сиротства минули. Волшебство продолжается. Весь горизонт обозначается ярко-оранжевой огнедышащей послезакатной полосой поверх свинцово-рыбьей поверхности моря, и все, попадающее в эту световую полосу, кажется околдованным…
Вот и машина, железный жук, открыла и захлопнула с двух сторон дверцы на фоне моря, как расправила и сложила крылья.
Спускаюсь к самой кромке моря – чудо начинается здесь. За спиной, на северо-западе, все уходит во мрак, но на юго-запад раскрывается феерия, однажды подаренная в жизни: море чешуйчато-перепончатое, стально-серое, рокуэллкентовское, изборожденное, как на старинной гравюре, ровным шумом идет на берег, и вся песчаная коса берега, облизываемая отступающими языками волн, фосфоресцирующей каймой светится вдоль моря.
Угольно черны камни лагуны. Стоячее между камнями зеркало воды, неожиданно посреди волн светится ярким оранжевым светом, словно это стеклянная крыша подводного дворца, освещенная изнутри апельсиновым сиянием.
Все гаснет за спиной, а яркая феерия оранжевого и стально-серого медленно перемещается к юго-западу в небо цвета темного ляписа с челноком луны, сшитым из легкого серебра, и дома вдоль берега и даже древние стены кажутся такими присевшими, стесняющимися своей угловатости и надуманности рядом с невоздержанно-буйным чудом природы, ее драгоценных часов, проливающихся и переливающихся цветами в пространстве.
Гряда камней черными горбатыми гномами обуглен-но замерла в гамсуновой черноте и отчужденности среди серебристо, по-рыбьему бьющихся между ними вод, а по внутреннему изгибу лагуны – фосфоресцирующая игра кайм, и стально-оранжевый свет замерших водных зеркал в черных оправах скал несет в себе волошинско-коктебельский колорит дикости и одиночества. Море словно бы на глазах перебрасывается из одного стиля в другой, из одного настроения в другое – от самого северного, холодно-ледяного, рокуэллкентовского до самого южного, одичало-коктебельского…
И ни души.
Какая-то дальняя реклама фиолетовым пятном опрокинута в лагуне.
Весь Акко затаил дыхание, потрясенный спектаклем закатившегося солнца, мощью его печального, очищающего огня, проникшего во все уголки и щели.
Зрелищность этой невероятной земли сродни италийской, и неотменимой частью жизни – диковинными каменными цветками по необъятной римской империи – вырастают амфитеатры с открытой сценической площадкой, по трем сторонам которой, мощно ею стягиваясь, стоят горы Умбрии или Гильбоа, одно небо, и море, и звезды – средиземные.
Сцена амфитеатра в Кесарии вместе с изгибом скамей кажется палубой корабля, за которой обрыв и – вдаль – море, вечное и беспечное, своим глубинным и мощным присутствием проверяющее, эфемерен ли, верен ли спектакль жизни, в считанные часы разворачивающийся на подмостках под накат великих вод, резонирующих в горах Иудеи, горбатых переулках Иерусалима, диктующих ритм псалмам Давида и гекзаметрам гомеровских морских сирен, которые сами боятся псалмопения и затыкают уши воском.
Спектакль, изливающийся на подмостки слуховыми извилинами и трубными изгибами горных ущелий, и два извечных мировых оркестра – моря и гор.
Я вхожу в амфитеатр, сопровождаемый той особой тишиной, которая, кажется, одна хранит эхо отшумевших тысячелетних голосов, криков, оваций: валы восторга и неприязни, кровожадности и милосердия, похоти и любви, смеха и слез, проходили над подмостил ками, откатывались назад, унося в безмолвие и небытие поколение за поколением, а декорации оставались неизменны: в эти часы небывалой мягкости красок горы стоят вдали молочно-голубыми глыбами прохлады, а на ближнем плане деревья стынут легкими влажными мазками желтизны, различных алых оттенков, натеками оранжево-лилового цвета, зелень кажется неслышным выдохом пространства, все краски разбавлены теплынью и прохладой, акварельны, акварельефны; тени, полные лени, во всю длину растянулись под камнями и деревьями; медлительность этой прозрачно-взвешенной красоты потрясает до самых корней существования: словно внезапно и впервые в жизни ты увидел источник того, что задолго до тебя увидели и сумели перенести в краски, слова, музыку Сера-Серов-Пруст-Сен-Санс…
И монолог этой ошеломляющей красоты, вечности и покоя, звучащий с подмостков, в этот миг обращен лишь ко мне одному. Я стою, замерев, я испуган: тем ли, что мог пройти мимо и не услышать его? Тем ли, что удостоился его глубинных тайн, и это накладывает на меня невероятный долг, который я должен покрыть и не знаю как?
В такие мгновения адски трудно понять, где кончается спектакль и где начинается жизнь.
По дороге через горы Гильбоа обнаженной лысиной вечного грешника светилась вершина Саула: по преданию, на ней погиб царь Саул, и Всевышний предал ее проклятию – травинка на ней не растет.
Сын как-то спросил меня:
– Саул ведь знал по пророчеству Самуила, что погибнет на Гильбоа? Почему же он шел туда?
Кажется, ответил примерно так: видишь ли, даже если знаешь, что предсказали гибель, пока жив, и вокруг – пространства света, горы, небо, и – лезвие не у горла, есть еще надежда; и потом: устаешь от ожидания – уж лучше развязать этот мучительный узел…
Вспоминая это, я глядел на горы Гильбоа и думал о том, как не похожи цари Израилевы на привычных царей, а дальние профили гор Гильбоа светились удивительным сплавом лилово-золотистых красок, так напоминавших стихию цвета врублевского "Демона", чьи жгучие зрачки, смягченные этим неповторимым по умиротворенной вечности предзакатным часом, отрешенно смотрели в голубовато-пресные воды озера Кинерет, моря Генисаретского: на северо-востоке, за моей спиной, небо ощущалось более выцветшим, высвеченным пространством озерных вод.
Странное чувство охватило меня в эти минуты, сидящего на краю первого ряда перед подмостками пустынного и такого древнего театра в Кейсарии: как будто всю свою жизнь, все сорок три ушедших года я шел к этому мигу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































