Текст книги "Оклик"
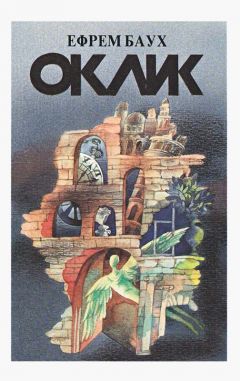
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 30 (всего у книги 41 страниц)
Шушера помельче бегает на остановках, чего-то выносит, приносит. Кто они, бывшие стражники, волоком волокущая снедь В ОХРА, наемники-вольноотпущенники, стукачи, человеческое отребье, несущее вареную требуху начальству на закуску? Смесь похотливости и страха выделяет их личины, не устойчивые, а все время как бы выскользающие из-за начальнической спины или лапы.
Внезапно чувствую себя спутником, доя которого движущаяся эта клетка кажется более опасной, чем очутиться одному в степи, белеющей костями погибших. И пусть по радио поют о том, что жизнь моя определяется этапами большого пути, – все они в ту же Сибирь, адский полигон, где можно было реализовать все безумия палаческой фантазии.
И "постановление" кажется таким потайным, пусть и подпорченным, зеркалом, с которого сорвали покрывало, и вдруг эта свора ощутила себя на виду у всех с клыками, хвостами, запасом свирепости, – и великая природа, которую они забили бетоном, проволокой, карцерами, голодом и издевательствами, внезапно и во всей мощи обнаружилась вокруг и поверх в размах земли и неба, которых в этих краях с лихвой, как и горя.
Песня про Каховку разбудила в ком-то из них воспоминания юности.
Рассказывает: совсем недавно побывал в каховских краях, у отца-матери: у старика руки уж дрожат, а раньше так бутылку водки зараз в горло "загулькивал"; свинью пришлось зарезать; нож взял и тут детские воспоминания нахлынули: на свинье верхом катается до того, как ее зарезать, а она визжит, предчувствует.
– Туды твою мать, слышь, и чего это они, хавроньи-то, заразы, не любят, чтоб на них верхом?
– А бычки американские? Видал в кино, соревнования, ети, в родео в Монтевидео? Получше тебя, спеца, дадут копытом в пах.
– Да, с таким бычком не сладишь в зубы тычком да в брюхо каблучком.
Мерещится вовсе не фантастическая кавалькада этих молодцев, оседлавшая свиней, кабанов, лисиц, медведей, вышедшая с гончими и лягавыми на загон человечины по диким степям Забайкалья.
– И-эх, сейчас бы Маньку да в баньку.
– Моя Марусенька.
– Так и пошла с тобой, боровом, под веничек березовый.
– Один конец – под венец.
Марусю испуганно-бледной тенью проносит сквозь этот смачный взрыв народного творчества, но передо мной за этими похотливыми возгласами встают миллионные шеренги голых беспомощных тел по дороге в баню, а сбоку, по обе стороны, эти лошадиные и свиные черепа экзекуторов; каково было профессору, специалисту по Данте, видеть себя одной из жертв его ада, нагой и сирой?
Что за трубное ржанье?
Медь, сверкнувшая в зеркалах.
– Волокешь ее повсюду с собой, а играть не научился, только и поржать жеребцом, иго-го.
– Го-го-го.
– Га-га-га.
Какую еще дичь выкинет эта фантастическая орава на фоне фантастической природы с вплотную обложившими строевыми соснами, кедрами, пихтами, лиственницами, редким пролеском да куцей площадкой станции – домиком с парой проводов да безличным пятном начальника, то ли заспанного, то ли пьяного?
Экзекуторы развлекаются вне исполнения служебных обязанностей, едут с какого-то совещания, и ничего-то не изменилось, ну маленько по башке дали, но ведь они незаменимы при любой власти: так им выразилось и выразило доверие новое начальство.
А за окнами вогнутой чашей, ощетинившейся впадиной сферически течет пространство, возникая слева, искривляясь и пропадая вправо, повязанное в одно лесами, реками, холмами и, кажется, абсолютно не связанное с этой оравой хищников, отторгаемой от интимного его бытия.
Или само породившее эту свору и тем унизившее себя под стать веку.
И кажется, искривленность этого огромного пространства (общая теория относительности Эйнштейна духом Божьим витает над этой бескрайностью) выражает саму сущность обтекающего нас времени, искривленного человеческой жестокостью и массовым психозом адских экзекуций: времени этому вывихнули суставы, добиваясь признания их экзекуторского права настоять на своем, но, по сути, суставы вывихнули себе, и первое пробуждение после адского наркоза десятилетий нашатырным спиртом "постановления" тяжко, и далеко неясно, пройдет ли оно безболезненно.
Фасеточность стрекозиного взгляда тех лет, когда в отдельности воспринимались гибельные бездны Сибири и восторженный рев толп о зорях коммунизма, только здесь открывает свою всеобъемлющую сущность – в темени поглощающих ненасытным зевом пространств.
Поезд, не уставая и трубя, продолжает врезаться в надвигающуюся темень вечера, и летят навстречу ему природа, история, мертвая глушь, и по радио трубят об Ангарской ГЭС, об Иркутском искусственном море, и, чудится, апокалиптический рог трубит о новом потопе, когда воды зальют территорию не меньше Синая, а, быть может, и Атлантиды, и вдоль по коридору вагона с непоколебимо-холодной твердостью, сталинскими усами в форменной фуражке движется контролер, проверяющий билеты: даже свора как-то странно присмирела перед этим представителем власти, неумирающей частичкой того усача, чью мертвую личину я видел всего лишь несколько дней назад в Мавзолее, самодержавного в течение стольких лет продавца билетов в одну сторону – на тот свет.
С приближением темени экзекуторы как-то осунулись, показались, несмотря на плотные чурбако-образные тела, пустыми, выдолбленными изнутри, дуплистыми, твердыми, но лишенными хребта, который дает телу грацию и соразмерность в движении: может быть, потому они и норовили еще держащейся твердо жертве первым делом перебить хребет?
Опять среди лесной глуши мелькало подобие городка, волчьи глаза редкого освещения и неизменный памятник разоблаченному вождю. Это было кощунство. Его памятник стоял над могилой миллионов. Живому себе может ставить памятник только убийца. Он не только уничтожал их физически, он лишал их последней человеческой памяти, после гибели ставя на их могилу собственный памятник. Оказывается, им была застолблена не память великой эры, а сокрыта многомиллионная братская могила, и стоило его скинуть, как извлекают пробку из сосуда, в которой – джин, и тяжкое облако растеклось над землей, отравляя все живое: миллионы безвинных, полузабытых (ведь оставшиеся на свободе близкие со страху уничтожали даже фотографии репрессированных), оставшихся в памяти виноватой улыбкой, беззащитной слезой, полуоборотом, последним объятием, возвращались в родные места, мучая оставшихся в живых отсутствующим присутствием; мертвые предпочитают добираться до родных мест илом рек, ночными ветрами, а днем прячутся по лесам, за изгибами дорог и холмов.
Вся страна сдвинулась с места: шло великое мертвое переселение душ. Шло в обратном направлении моему движению, с востока на запад, именно душ, ибо тела уже слились с вечной мерзлотой, землей и камнем Сибири; вскрывались бескрайние пласты живого и болевого; души шли по своим городам и весям перед тем, как вознестись на небо, и великие эти пространства были под стать этому переселению.
Если исход из Египта был и остается единственным живым, то это был мертвый исход, тоже после сорока лет, но не странствий по Синаю, а рабства (1917–1956), и не было земли обетованной. Исход был не из чужой земли, не из-под чужих угнетателей, а от своих же сатрапов и палачей. И не было у этого исхода своего Моисея.
Отложив "Фауста", вглядываясь в сгущающуюся темень с моей полки, я думал о том, кем должен быть тот, кто опишет эти мрачные бездны.
Фауст ли, сам продавший душу дьяволу, чтобы узнать все тайны сатанинского мира?
Мрачный аскет, провидящий кошмары надвигающегося возмездия, подобно Савонароле (Солженицын еще прозябал в безвестности)?
Ученый ли, сжигаемый гуманизмом за грехи свои (уже носились какие-то слухи о Сахарове)?
Гениальный ли циник и насмешник Франсуа-Пантагрюэль-Рабле?
Или еще один Дон-Кихот, несмотря на разочарования тысячелетий, пытающийся опять сразиться с винными бурдюками и ветряными мельницами?
Только на фоне этого свихнувшегося от жестокости и гибели пространства внезапно обнаруживалась гениальная глубина этих образов, данных мне в книжном ощущении и оживших здесь с галлюцинирующей реальностью.
А, быть может, летописцем этих бездн, будет пьяница, страдающий белой горячкой, трезвеющий от реальных видений этого ада, которые страшнее горячечного бреда: мышье копошение на собственных братских могилах, называемых великими стройками, и есть реальное выражение этого бреда, всегда полного кишащими тварями, лезущими изо всех дыр?
Стояла ночь.
В бесконечной волчьей темени остро слепящим отверстием стыла луна, подобно жерлу тоннеля сквозь чернокаменную стену неба в иной лунатически-прекрасный райский мир, и темные облака, разбросанные на разных высотах, казались крыльями Ангелов, уносящих безвинные души погибших через тот тоннель в лунное забвение: это был запоздалый побег, осуществление многолетних фантазий арестантов – пролом в стене, и не просто в иную гибель – таежную глушь, а в райские эмпиреи.
Алкаши храпели, сипели, отрыгивали во сне, ворочаясь в своем животном нижнем мире, выжигаемые изнутри спиртом, обжорством, скудоумием, ворочаясь на этих полках, и вправду похожих на ниши в аду.
Далекая Москва, паучиха, соткавшая паутину над этими бескрайними землями, доносилась громовым голосом Левитана, по сути, сидящим в какой-нибудь небольшой комнате вещания: это был властвующий обман – волчья болезнь пространства, ложный его круп, открытый Маркони-Поповым и названный радио, и в фосфоресцирующих глазах зверья в таежных этих дебрях поезд проносился Летучим голландцем среди мертвых зыбей Сибири.
Я провалился в сон, в котором вдоль спины, справа, бесконечно длилось ощущение глухой каменной преграды, в нее я без конца упирался головой, а слева меня подстерегала бездна; суетились каменщики, пытаясь плотиной изменить не только человека, но и природу, какие-то потайные двери все открывались да замыкались, щелкали ружейные затворы и железные запоры, Иона Якир падал у стены с пулей в затылке и здравицей "рыцарю солнца" на губах, а двери были тюремные, то ли железные, то ли просто выход в пространство из пещеры схимника в Бекировом яру у Сорок, то ли потайная дверка в плотине; то я стучался не в ту дверь; внезапно оказывалось, что там, где я стучал, вообще и не было двери; но я продолжал стучать, я бился как рыба об лед очевидностей, я догадывался: потайную дверь в плотине знают лишь отчаянно жаждущие любви и свободы, не ведающие о катастрофической силе, накопившейся за плотиной; даже если и знают, это их не остановит: открывают дверку – и миг любви и свободы покупается гибелью, заливающей мир; дверка в плотине, природе, истории – сам великий зодчий сочинил жесткий и краткий курс истории ВКП(б) – выстроил плотину истинной Истории, но лишь приоткрыли дверцу и хлынуло…
Вскакиваю посреди ночи, с колотящимся сердцем, пытаясь вырваться из гибельного потока: куда это нас всех несет – неискушенных, жертв, палачей – несет и несет вот уже четвертые сутки подряд?
Или мы стоим на месте, только колеса буксуют, а вагоны уже охвачены ветвями и корнями глухой тайги, проросли плесенью и гнилью, и запах тлена, раньше уносимый движением и ветром, в этом оцепенении отравил весь воздух?
Лишь внезапно возникающая в ночи станция, шум и крики толпы, осаждающей поезд, словно торопящейся на собственную тризну, – так люди все серы, измождены, с выпученными глазами и разинутыми ртами, хватающими воздух, – сдвигает это ощущение мертвой неподвижности.
Текут облака.
Опять просыпаюсь от шума. Возникающая из-за облаков луна очерчивает зеленые лица спящих, выхватывая, как в сюрреалистическом полотне, то голову невероятной формы, то руку, то ягодицу, обрисованную покрывалом, и все это охвачено каким-то неестественным напряжением, словно страх не оставляет эти тела даже во сне; вид отдельных частей тела рождает мысли о расчленении, дисгармонии, смерти. Тяжкое время наложило след на эти лица: шрамы, выпавшие зубы, обветшавшая кожа. Никогда в жизни я не ощущал такого буквально утопания в массе лиц, свирепости, прущей напролом в смеси с тошнотворным самоуничижением, такого завала мешков, бутылок, чемоданов, кастрюль, сапог, одежды, грубой и многоскладчатой.
Кажется, огромная масса живых людей, увешанная мертвыми предметами, тянущими их к земле, вообще потеряла ориентир в этих косо и во все стороны разбегающихся дремучих пространствах, и в безумном страхе непонимания, где она находится и куда ей податься, рвется к этому поезду, все же в этом хаосе идущему в определенном направлении по твердым, куда-то проложенным железным шпалам. Часто кто-то спохватывается: не туда едет, не в том направлении сел, а оно ведь одно – либо на запад, либо на восток, – человек теряет над собой контроль, хватает и роняет вещи, путается у всех под ногами, пока не исчезает на первой по ходу станции, чтобы ждать невесть сколько встречного поезда.
За Тюменью говорили о лесоповале, Приближаясь к Томску, – о голодной зиме и диких морозах; проплывшие вдали красные каменные столбы Красноярска не могут дикой своей красотой заглушить ощущение тревоги и гибели, угольно-черное тоскливое Черемхово давит своими терриконами, напоминающими египетские пирамиды, только сожженные дочерна.
С приближением к Байкалу становится как-то сквозней и синей. Орава неопохмелившихся экзекуторов схлынула где-то ночью да и сгинула в бескрайних этих омутах.
Бесконечная тайга внезапно размыкается, и справа бесконечным покоем, голубой студеной синью начинается Байкал, свежесть и мягкость воздуха, кажется, несет поезд на подушках, вносит мягкость в человеческие лица; вносят на станциях свежего омуля, москвичи достают припрятанную водку, чистую, как слеза, ибо на станциях можно приобрести лишь ржавый разведенный спирт, а звонкое эхо, по-мальчишески свесив ноги с крыш вагонов, начинает передразнивать пыхтящий поезд, перестук на стыках рельс, но поезд не сердится, с удовольствием ввязывается в эту игру, как бы пытаясь доказать своим пассажирам, что вот же не зря был неутомим в своих усилиях, все же вырвался из чертовой обложной глуши, и оба – эхо и поезд – начинают играть в догонялки да в прятки; эхо резвее, прыгает по горам, легким мячиком отлетает от крыш в миг, когда поезд ныряет в очередной тоннель, и в дразнящем нетерпении ожидает его при вылете из тоннеля.
В июньском, слегка неверном солнце странно ирреален настрой этих отдаленных ссыльных мест, где, вероятно, начиная еще декабристами, а, быть может, еще раньше, интеллектуалы разных поколений пытались хранить тлеющие угли загашенного свободомыслия, выродившегося – и они это понимали – в жалкое фиглярство; в трагическом самообольщении пытались они вообразить себя исполненными революционного духа, но здесь даже слово "карбонарий" звучало как грязный угольщик, шахтер.
Тоннели, то и дело заглатывающие поезд, раззевают в постоянной голодной готовности свои пасти-глот-ки, акульи ли, Левиафановы, тоннели, кажется, выползли из вод и целым лежбищем громоздятся, иногда даже налезая на спину друг другу, вдоль Байкала.
Но несть пророка Ионы, разве вон старичок с лукошком, едущий до станции Могоча, изжеванный тоннелями, глотающими и выбрасывающими поезд, будто желудки этих Левиафанов страдают недержанием, чем-то смахивает на пророка, и кличут его Ионыч.
А горы картинно встают вдали, а эхо картаво скачет с площадки на площадку.
А поезд исторгается Левиафанами гор, быть может, понявшими, что не пророка они проглотили, посланца Господня, а скверный непроваренный кусок жизни. Бог поставил этих гигантских каменных рыб одну за другой, в надежде, что какая-то все же задержит пророка и заставит его пророчить, но где может сильнее, чем в ссыльных этих краях, ощущаться, что нет пророков в своем отечестве; хотя их тут было видимо-невидимо, но попадая в гибельные зевы, в каменные кишечники этих пространств, они шли в перегной вместе со своими пророчествами.
А внутри поезда, в слегка расслабившейся атмосфере жизнь продолжается: пьют водку и чай, закусывают сплетнями, плетут байки, едят сайки, точат зубы анекдотами, сплевывая вместе с шелухой семечек суконные остроты, вызывающие гогот и дребезжание подстаканников. Замелькали инородцы: буряты, вероятно; плосколицые, узкоглазые, мелкозубые, уступчивы, все норовят к месту и не к месту осклабиться в улыбке этим даже в хохоте угрюмым москвичам.
Ощущение, что каждая сторона видит муравьиное мельтешение другой, незаметное в столь необъятных пространствах. Вот же москиты-московиты малочисленны, а как все изрыли да запоганили – земли, реки, леса: рубят, взрывают, плотины строят; чует инородное, выпестованное тысячелетиями ухо, как вся эта суета, называемая переделыванием природы, обернется отравой, обмелением, затоплением, мошкой и мором.
Вот и станция Слюдянка: за окном вагона проплывает лицо сосредоточенно разыскивающего меня Мишки Жеру, который прилетел сюда самолетом до Иркутска, а затем кораблем по Байкалу.
7
«СТРЕКОЗЕЛ» АЛЕКСЕЯ ПАЛЫЧА. НОЧЬ: В ТАЙГЕ, ЗА БАЙКАЛОМ ГАРМОШКА И ЭДВАРД ГРИГ. ПЕРВЫЙ ВЫХОД В ТАЙГУ: БЕСПОЛОЕ ПОЛОВОДЬЕ. ДЕЛО НОМЕР ТРИСТА ШЕСТЬ И БАЛЕТ "ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО”. ПИКНИК: ГАЛЮНЯ, МАНЮНЯ И МАША. ОДИНОКИЙ КАМЕНЬ НА СОПКЕ: ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН – МАЛИНОВЫЙ ЗАКАТ. ПОХОРОНЫ: ЛЕДЯНОЙ ВОСК ЛИЦ, ХОРУГВИ И КОВЧЕГ, РУДНИК В САЯНАХ: ОБРАТНО В КРЕПЬ ТЕЧЕТ РОДНИК. ШТЕЙГЕРЫ И СЛЕПОЙ ПРОРОК ДЕД МАТВИЙ: ТЕМЬ – В НЕДРАХ ЗЕМЛИ И ЛЮДЕЙ. СЛЮДЯНКА-ПЬЯНКА. КЛЮЧ СОЛОМОНА И МАССОВЫЙ БЕГВ КУЛТУК. ВНУЧКА КАНТОНИСТА. БАРКАСЫ У БЕРЕГА: СНОВИДЕНИЕ О БАЙКАЛЕ. НОЧЬ, ТРИ ВЕДЬМЫ, ЧАСТУШКИ И СТАРУХА БАУБО. АММОНИТ-ГОМОНИТ. УБИЕНИЕ ГОРЫ. ПРОЩАНИЕ НАВСЕГДА. ТЕКТОНИЧЕСКИЙ СДВИГСИНАЙ-БУДАПЕШТ. ИВАНОВО: МУЖЧИНОЙ ПАХНЕТ. КИРОВ: ПЬЯНЫЙ ПОД КОЛЕСАМИ ПОЕЗДА. МОСКВА: НУ И КАДР ЭТОТ КАДАР.
Мы тащили с Мишей попеременно мой чемодан от вокзала через всю Слюдянку. Шел мелкий дождь, и деревянные, побуревшие от времени и влаги слюдянские избы, казалось, дымились, как из парной. Прохожих было мало, машин и того меньше, глухая сонная жизнь притаилась за окнами с резными наличниками и ставнями наружу.
Миша снял большую горницу в избе на окраине поселка: только небольшой огород отделял избу от подступающей тайги. Хозяйка Марья Ивановна, отечная старуха с добрым широким лицом, тяжелая в теле, хлопотала в соседней комнате. Старичок же, малый да усохший, как сверчок, Алексей Пальм Шестопалов, вертелся вокруг меня да вокруг топчана под иконой, на котором предстояло мне спать: дело в том, что я выкладывал на топчан вещи из чемодана, и чуяло его сердце, что на самом дне таится нечто заветное. Когда же я извлек бутылку московской, хранимой от самой столицы, чистой, как слеза горючая, личико его просто озарилось.
Мишины ухмылки, как обмылки, плыли из угла.
В глиняных мисках дымились горячие вкусно пахнущие щи.
– Со свиданьицем, – сказал Алексей Палыч, смахнув слезу с глаз, умильно прикованных к собственной рюмке в дрожащей его руке.
Рюмка была толстенного мутного стекла, и водка с виртуозной беззвучностью стекла в стариковское горло. Старик лучился, всем существом, словно бы втягиваясь внутрь бутылки, каждой жилочкой впитывая горюч-пламень. Такого еще я не видел. Старик занюхал коркой и весь вышел в выдох:
– У-ух, и пузырек-то, дри твою-ю.
Хлебали щи.
– Ну и как-жать проехал? На железке-то порядок был? – озабоченно спросил старик, примериваясь ко второй рюмке и не замечая грозного выражения на лице Марьи Ивановны.
– Алексей Палыч в бытность кондуктором был, – сказала она, – до Могочи ездил.
– Кондуктор? И фуражка форменная была? – спросил я, слегка обалдев и осоловев от выпитой рюмки и зашибившего дух покоя после шести дней беспрерывной качки и дерганья. Миша шумно хлебал щи и все та же ухмылка стыла в его бархатно-черных по-бараньи мягких молдаванских глазах.
Старик усиленно переживал вторую проглоченную рюмку.
Марья Ивановна распахнула окна: дождь прекратился, в пахнущем коровьим пометом влажном воздухе слышался топот, возня, мычание. Стадо само, без пастуха, возвращалось с дальних лугов, коровы мордами открывали калитки, каждая шла в свой двор и стойло.
– Да хвати ту фундрашку кондрашка, не в ей дело, а пор-рядок был. Не той, что ноне, дри твою-ю. Только покумекай, намедни, третьего дня, чуть меня кондрашка не хватила. Иду мимо мельницы нашей-то, по тропке, я по ей, считай, осьмой десяток топаю, вдруг… фыр-бырр, вой железный с неба, стрекозел бухтит-вертит стрекалами… Бац, и сел. Так вот, на травку, рядом-рядышком с мельницей, которую сызмальства-то знаю, Господи помилуй со всеми упокойника-ми.
– Стрекозел? – спрашиваю я, вконец обалдев.
– Это Алексей Павлович впервые в жизни вертолет увидел, – наконец размыкает уста Миша, и смягченные молдавским акцентом окончания слов странно звучат в этой сибирской глухомани.
– Вон и Саяны-то подрывать собираются, тайгу вырубать, в Байкал отраву пускать. И так уж омуль не той: резиной пахнить. На Выдрино острожные, грят, взбунтовались.
– Алексей Палыч как назюзюкается, так сразу и в политику, – говорит Марья Ивановна, забирая бутылку, где еще на треть водки, со стола.
– Геть, старая, – взвизгивает старик, – не трожь пузырек-то, не твово ума дело. Правду говорит дед Матвий, конец свету идеть.
– Дед Матвий, это кто? – спрашиваю я.
– Слепец. Божий человек, – говорит Марья Ивановна, спокойно унося бутылку.
Старик сникает и слабо всхрапывает: спит.
Выходим с Мишей во двор. Низкими облаками стелется ночная темень. В глухой ватной тишине голос Миши кажется далеким:
– Теперь не успокоится, пока не допьет до капли. Чует ее, как валерьянку кошка. И так Мария Ивановна хитро прячет. Недавно ушла, так он все перерыл, взобрался на буфет и упал, головой о пол. Мария Ивановна жалуется, а он смеется и говорит: оклемался.
Старик, шатаясь, вышел из дому и, не видя нас, прислонился к стенке: даже если учесть, сколько выпил, мочился он невероятно долго.
– Да он же так весь в струю изойдет?
Миша смеется:
– Два-три раза в ночь выходит. Потому и такой сухой. А у старухи ноги пухнут, жидкость в теле задерживается. Ну, пора спать. Нам завтра рано в горы.
С непривычки ворочаюсь на новом месте, не могу уснуть. В комнате у стариков работает радиоточка: стучит маятник, еще несколько секунд, и будет семь, в полудреме не успеваю дочитать дикторский текст, Мельман бежит по коридорам моего детства в студию, ударяясь лбом о дверные косяки, Москва вышибает дух у местного вещания. Вскакиваю во тьме: московское время семь часов, передаем последние известия.
В Слюдянке двенадцать, пять часов разницы.
Опять засыпаю.
Просыпаюсь в сильном волнении, в первый миг не могу понять, в чем дело: непривычно гулко для маленькой радиоточки звучит концерт для фортепьяно с оркестром Эдварда Грига.
Осторожно выбираюсь из избы.
Где-то, посреди Слюдянки, во всю мощь работает репродуктор, северные раскаты григовской музыки, кажется, сразу и без обиняков выкатываются из самой сердцевины этих бескрайних до забвения пространств, раскрывая тайны их гибельной тяги и равнодушного безмолвия.
Внезапно музыка обрывается. На миг ощущаешь себя камнем, погружающимся в омут мертвой тишины. То ли совсем рядом, то ли за тридевять земель слышны пьяные голоса под гармонь:
В тайге, за Байкалом, гармошка
Поет о степной стороне…
В этой плотно обволакивающей наркотизирующей глуши они, кажется, пугаются смелости собственных голосов.
Опять старик выходит подпирать стенку. Долго укладывается.
Тишина.
На каком-то глубинном витке дремлющего сознания открывается слуху скрытая ночная жизнь этих древних древесных стен: бодрствуя, исчервляют лабиринтами ходов древесную плоть времени целые рати жучков-древоточцев, скребут, шуршат, свербят, и дальний сверчок своим пением отмечает грань провала в сон.
Темное раннее утро.
Натянув кирзовые сапоги, напялив дождевики, выходим в мелкую морось. Облака во много слоев; над Байкалом хмурое размытое ничто; солнце, пробиваясь блекло-желтоватым мыльным светом, все же вносит некую чувственную струю в это бесполое половодье. Иногда какое-то внезапно выделившееся облако нальется солнечным светом и печальной лампой ненадолго повиснет над головой, у края скалы.
Ощущение полета на какие-то мгновенья проснувшегося духа, крепившегося на очертаниях дальних гор, синих таинствах горизонта, на прорывах в прозрачный мир высочайшей легкости, оседает на скудную эту реальность, серую и неповоротливую, дух испытывает жесточайшую скуку, все в нем осточертевает еще до того, как он касается своим дыханием этой реальности, опережая ее, и это несовпадение особенно остро ощутимо среди древесных почерневших срубов, кажется, уже шелушащихся от воды и сырости.
Мы уходим по распадку, вдоль речки Слюдянки, мимо сиротливо раскрывшего вечно голодную пасть рудника, где добывают слюду – светлый московит и темный флогопит – и рыжей унылой овечкой замерла у этой пасти вагонетка; идем к хребту Хамар-Дабан, обогнув Перевал, к вечеру добираемся до конечной точки района, петрографическое строение которого является темой Мишиной диссертации, набивая по дороге рюкзаки образцами пород, там заночуем, и завтра к вечеру вернемся с грузом. У Миши по-овечьи мягкая, кажется, все время что-то жующая челюсть, опущенные, на вид слабосильные плечи, но он из крестьянской семьи, упорен и вынослив, как иноходец.
Где-то на седьмом-восьмом километре в глубине гор светлеет, перестает моросить, прозрачная ледяная речушка Слюдянка, весело курчавясь, бежит по камням, то расстелется по песчаному отлогу, то, сузившись, пробивается сквозь заросли; закусываем на ходу, и Миша объясняет: вон репейник, чернобыльник, ивняк, бузина, а это черемушник, его ягоды высушивают, мелют, пекут пироги из черемухи; присев на короткий отдых, пьем из речушки; опрокидываюсь на спину – высоко в небе надо мной шумят вершинами кедры, лиственницы, бурундук, бархатный зверек, меньше белки, но пушистее хвостом, распластался в полете с ветки на ветку; от неожиданности закрываю глаза: кажется, привиделось.
Откуда-то справа, с высот, покрытых тайгой, время от времени доносятся слабые завывания ручных сирен и затем глухие взрывы: вот уже более восьми месяцев эту гору, которую мы огибаем, эту скальную махину протыкают шурфами диаметром этак в метра полтора-два и глубиной в восемнадцать, и так вглубь, метр за метром, бурят шпуры, закладывают в них аммонитовые свечи, взрывают, опять закладывают; гору собираются взрывать, тут непочатый край мрамора, на цемент для великих строек; через пару дней начнем двигаться в зону взрывов: перспектива не слишком веселая.
Уже почти наощупь и на порядочной высоте добираемся до какой-то полуразвалившейся халупы по крышу в крапиве, что-то в ней скрипит и хлопает на ветру, но внутри сухо, пахнет прелью.
В какие-то кривые проломы, когда-то очевидно бывшие окнами, смотрят дикие сибирские звезды.
Южные Саяны, дно безвестности, всасывающая глушь. Что дерево, что человек, что камень – за последней гранью беззащитности и одиночества.
На мгновенье проснувшийся в душе страх до того велик и неизбывен, что сразу же, как в омут, проваливаешься в сон.
От злостного гнуса и мошки в первый и последний раз в жизни отпускаю себе бороду: она оказывается рыжей и жесткой, как проволока. В накомарниках можно задохнуться, поэтому мажемся "диметил-фтолатом", но стоит провести пальцем по лицу, как это место залепляет мошка.
И каждый раз выходя из дебрей, первым делом видишь покосившийся сруб слюдянской почты и рядом, на деревянной доске для объявлений, неизменный грубо намалеванный плакат – "Дело № 306" – бессменный фильм, который вот уже полгода крутят в поселковом клубе.
И каждый раз выходя из дебрей, сразу же натыкаемся на пьяных, в одиночку и группами, бормочущих, кричащих и поющих; и каждый раз в этот миг ощущаю с тошнотворной отчетливостью резко обозначившуюся грань между забвением, где можно пропасть, раствориться, и никто не заметит исчезновения и не вспомнит о моем существовании, и бестолковым топтанием толпы, зачуханной и суетливой из-за вечной пьяни.
И все же переодеваемся, чтоб хотя бы немного сбросить одичалость, идем в клуб; сижу, смотрю на черно-белый экран, испытывая тупой стыд за искусство, и все вокруг меня пялят пьяные зенки на странное, с выпуклыми, чуть раскосыми глазами ведьмы и чувственно-припухлыми губами лицо артистки Шагаловой (через шестнадцать лет, в семьдесят втором, увижу ее в московском Доме кино, постаревшую, набрякшую, стертую, подумаю: до чего кино – жестокий медиум, снимающий, по сути, не движение жизни, а движение к смерти, засталбливающий наш дориангреевский портрет вечно молодым. Неисповедимы пути кино. Она была неплохой актрисой, Шагалова, но я навсегда запомнил ее в этом злополучном "Дело № 306" вместе с таежной глушью, пьяными зрителями, выходящими из пропахшего сивухой помещения, отдаленно напоминающего кинозал).
Перед фильмом крутят один и тот же журнал об Октябрьской революции, как будто знают, что жизнь здесь в ином времени, и пытаются с изнуряющей настойчивостью навязать жителям этих мест якобы их родословную, отторгаемую какими-то еще здоровыми инстинктами этих выпестованных забвенными пространствами существ. Смотрю на эти редкие кадры до осточертения жестикулирующего Ленина и думаю, что нигде острее, чем в этих просторах, заглатывающих все живое, как удав, не ощутима изначальная и непереносимая фальшь атеистической диктатуры, рядящейся в мистерию.
На этот раз, выйдя из тайги, видим прикрепленный поверх "Дела № 306" плакат: бурят-монгольский театр оперы и балета из Улан-Удэ – "Лебединое озеро".
Вдоль главной улицы – похоронная процессия: в холодных послеполуденных сумерках ледяной воск лиц, хоругви, необычно большой гроб, похожий на ковчег. Шахтера убило в одном из рудников: дело здесь привычное. А вокруг процессии полно одичалых собак. Их всегда множество шляется по Слюдянке; в дождливые дни, кажется, их больше, чем людей: они беззлобны, слоняются в одиночку или стаями. В бессолнечном пространстве поверх похорон облака днищами цепляются за деревья, а вверх, кажется, уходят свалявшимися глыбами, иногда напоминающими раскалывающиеся беззвучно на глазах айсберги.
Гроб чем-то напоминает баркас: может из поколения в поколение у людей, живущих у священного моря Байкал, ощущение, что после смерти, уплывает он в небытие по этому морю, вот и кладут его в баркас, хотя и погребают в землю.
Баркас или ковчег?
Странно ощущаю разницу между ковчегом в южно-библейских – ныне за тридевять – землях и в этих северно-мерзлых скифских: ковчег там, на юге, – для жизни (ведомый Ноем); ковчег здесь, на севере, – для смерти.
Вечером, перед полупустым залом того же клуба, в легких пачках белыми видениями порхают раскосые балерины, куцый оркестрик играет бессмертные адажио и па-де-де, и мне, в эти мгновения совсем первобытному человеку, лишь несколько часов назад выползшему из мертвого безмолвия Саян, глушащего все живое, как глушат рыбу взрывчаткой, эти легконогие существа кажутся неземными, прилетевшими с Венеры, чей голубовато-холодный свет встречает меня в ночной тьме, распахнувшейся дверьми клуба.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































