Текст книги "Оклик"
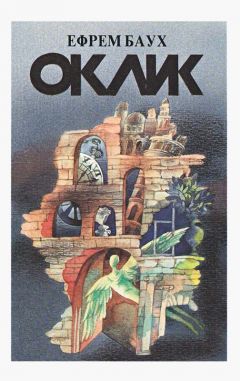
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 41 страниц)
Я прощаюсь с Гуревичем, я иду домой окольными переулками, слезы наворачиваются на глаза, я твердо знаю, есть у меня в жизни три ангел а-хранителя – бабушка, мама и Верушка.
Наши письменные работы по литературе и математике, несколько человек, представленных к медалям, послали в министерство. Наступает полоса ожидания, этакий мертвый сезон, чем-то сильно напоминающий ту давнюю ночь, когда мы пребывали в нейтральном пространстве, затаив дыхание от страха – румыны ушли, русские еще не пришли.
Мы продолжаем как ни в чем не бывало ходить с утра на речку, а под вечер – в старый парк, но ощущение неизвестности сосет под ложечкой, Маша уезжает куда-то на практику, последний раз провожаю ее в плавни. До Машиного дома подвозит нас ее старший брат на полуторке. В кузове нас швыряет друг к другу, какие-то предметы катаются под ногами.
Допоздна сидим у реки. В полной темноте, в обнимку. Вслушиваемся в шорох бегущих вод, зная, что не быть нам вместе; мы и так никогда особенно не сближались, хотя, вероятно, никогда больше не встречу более преданного существа. Теперь и вовсе расстанемся, я уеду учить-с я – в институт ли, в университет, до того, как она вернется с практики.
Наконец, радость. Утверждены медали, на выпускном вечере я получаю коробочку с медалью и аттестат с золотым обрезом, все возбуждены. В зале – танцы, но мы уединяемся группой, мальчики и девочки, сбежав даже от родителей, вспоминая школьные годы, в этот момент ощущаемые как опора и защита, которые мы теряем. Верушка и мама отыскивают меня, стыдят: вы что, дикари какие-то, в такой торжественный час забиваться в щели.
Июньская лунная ночь серебристо струящимся зонтом стоит над школьным двором, он пуст, он гулко отзывается на наши голоса, которые мы запускаем, как мячики, приникнув к щелям школьного забора.
Разбредается братия: Яшка Рассолов – в авиатехническое военное училище, Дуська Рязанов – в артиллерийское, Люда – в Ленинградский Политех, я уже твердо решил – в Одесский, на мехфак, отделение "станки и инструменты". Знающие евреи советуют в один голос: нужна твердая специальность, инженер, к примеру, а писать можно будет в свободное время.
Ранним утренним поездом, с мамой, впервые еду в Одессу, росистая свежесть зелени, просвеченная восходящим солнцем, волнами накатывает в окна вагонов, зашвыривая пригоршнями говор баб и мужиков, сидящих на груженных телегах у шлагбаумов, тарахтение машин, мычание коров. Поезд, выгибаясь дугой, с ходу пролетает станцию Кучурганы: значит это не плод моего воображения, станция Кучурганы, повисшая на длинных стропах дыма, вздымающегося взрывами бомб в солнечный день войны, так и врезавшаяся в память пугающе-гибельным видением и не воспринимаемая в иной реальности, но вот же он, а за ней и Раздельная, вот и пригороды Одессы с взлетным полем за деревьями и стрекозиными крыльями самолетиков, долго тянущимся кладбищем, пролетающими перекрестками улиц.
От невзрачного вокзала, рядом с которым на глазах вырастает новый, едем трамваем, позванивающим металлически под сенью разлапистых деревьев, сквозь густую листву которых пробивается с трудом солнце, усеивая всю улицу веселыми пятнами. На улице Чижикова, в старом колодцеообразном дворе мама отыскивает квартиру нашей родственницы, более шестидесяти лет живущей в Одессе, тети Мени. Голубиный помет, которым пропахли двор и лестничная клетка, подметен к стенам и запах его, врываясь через окно в заваленную рухлядью квартиру, смешивается с устойчивым запахом старости, и эта невыносимая смесь облаком стоит над старичком, мужем тети Мени, едва дышащим, со слезящимися глазами, в кипе, качающимся над молитвенником. Наглые голуби тут же садятся на подоконник, гадят, пытаюсь их отогнать, они лениво взлетают, роняя перья. Ощущение дряхлости и скудной жизни въедается в поры вместе с пылью, повисшей над двором солнечной взвесью.
Поспешно прощаемся с тетей, старичок нас вообще не замечает.
До открытия приемной комиссии времени много. Снова едем на трамвае в сторону Большого Фонтана: вагончик бежит по степи, сквозь бурьяны, мимо редких островков деревьев.
Моря я еще не видел ни разу в жизни, но ощущаю его запах. Остановка посреди степи.
Я уже знаю: темно-синее, необъятное, еще невидимое, но дышащее за бугром в километре от нас – море.
Залегшее за бугром, как бы вовсе отсутствующее, оно цепко держит в своем магнетическом поле все окружающее пространство, придавая странно вслушивающуюся сосредоточенность всему – от неба до малой кочки: все они, включая облака, деревья, камни, подобно раковинам, полны его молчанием, рокотом, гулом. И я это вижу, слышу, впервые в жизни, и чувство, с которым я преодолеваю этот километр, ощущая бьющееся сердце, непередаваемо: я бегу, я еще не верю.
С бугра – вразлет, до самых краев земли – море, и я стою, на миг обернувшись замершей на берегу раковиной.
Потом – Политехнический, сдача документов, получение свидетельства о том что я принят.
Со ступенек Политехнического – огромный акваторий одесского порта: строения, склады, пакгаузы, громоздящиеся оползнем со склона, налезающие на причалы; отчаливающий пассажирский лайнер, кажущийся не таким уже огромным с высоты, и – внезапный – басом – непомерно громкий его сигнал, не вяжущийся с его величиной, сотрясающий окрестность и открывающий для меня по-новому озвучиваемое пространство жизни.
Глава пятая
* * *
РАКОВИНЫ: ПОГИБШИЕ АРМАДЫ.
МУСОР ЦИВИЛИЗАЦИЙ.
ШЕЛКОВАЯ ПЛОТЬ ВОДЫ: МАТЕРИНСКОЕ ЧРЕВО.
СТАРЬЕВЩИКИ ИСТОРИИ.
СОЛНЕЧНЫЕ РУКАВА ДНЕЙ.
ПРЯТКИ ВОЛН.
ГРАНДИОЗНАЯ СТИРКА.
СТОЯЧАЯ ВОДА СМЕРТИ.
ТРАГИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ.
БЕРЕГ, НЕМЕЮЩИЙ В НОЧИ ОТ СТОНОВ.
САГА О СОБАКАХ И КОШКАХ.
ТРИ КАБАЛОПОКАЛИПТИЧЕСКИХ ЗВЕРЯ:
БЫК, ЛЕВИАФАН, КРОКОДИЛ.
Акко. Четвертый час после полудня.
Странное дело – вхождение в море, встреча с ним. Это не только ветер соленых пространств дует навстречу, затрудняя шаг, это само море дальним и ближним грузным, плоско катящимся шумом пытается замедлить и отяжелить значимостью каждый шаг нашей с ним встречи.
Волны, подобно младенцам, рожденным морем, кувыркаются, несутся наперегонки, ныряют, играют в прятки.
Вот одна напала на другую, поддала ей тумака под седалище, так, что первая, всплеснувшись, взлетела высоко и рассыпалась пеной.
Другая – вдрызг брызг, взрывом взрыв песок, взбитая в сливки ветром, в избытке обливает меня по щиколотку пеной. Уползает с песчаной насыпи, свистя змеиной несытью, сворачиваясь белопенным брюхом кверху.
Поодаль покачивается створоженная масса медузы: словно сгустившееся из вод морских пульсирующее существо, подобное изначальному зародышу в чреве.
В еврейской Кабале об этой тайне тайн, непостижимости – из неживого в живое – сказано просто: еш мэаин.[46]46
иврит: букв, «есть» из «нет».
[Закрыть]
Все бытие из ничего.
Море – чрево ли греха?
Лоно жизни или смерти?
Материк и море: кто с кем затеивал любовные игры?
Материк ли загляделся на зачатые и выброшенные морем миниатюрные цивилизации – конические, спиралевидные, готически острые, как рыбий скелет, эллиптические выпуклые, как купола иудейских храмов и мусульманских мечетей – перламутрово поблескивающие раковины внезапно выносимые из глубин прибоем?
Загляделся и породил подобное по кругу Средиземноморья: кольцо цивилизаций до следующего девятого вала гибели?
Море ли, ревнивое к очарованию силуэтов материковой жизни – куполов и башен, романтическому аромату армад и громад, зачало их и выкинуло мертворожденным мусором цивилизаций, чтобы показать материку участь его зачинаний?
Море эротично.
Не потому ли женщина, выходящая из вод, притягивает взгляд более, чем та, что на берегу.
Отдаваясь волне, ощущаешь нирвану, которой охвачен был в лоне матери, плавая в шелковой плоти охраняющих тебя вод.
Родиться, не захлебнуться.
Страх, примешанный к небытию: поистине непостижимое сочетание.
Обнажился берег: отошли воды…
И подобен вышедший из чрева ребенок утопавшему: шлепок – первое искусственное дыхание.
Каждый выход из моря на берег – рождение заново.
Быть может, и тяга к воде, и боязнь ее – от смертельного любопытства к непостижимым корням жизни и небытия?
Тогда, первый раз в Одессе, после подачи документов в Политехнический, я уговорил маму сходить со мной на пляж: я ведь еще не окунался в море.
Пляж на Лузановке был забит народом, у берега вода просто кишела человеческой плотью. У мамы не было с собой купальника; неуютно, как-то боком стояла она среди этой шумной массы обугливающих себя на солнце тел, одетая, прижимающая к себе мои вещи, тревожно следя за тем, как я уплываю все дальше в море. Она впервые в жизни видела вообще, как я плаваю, она даже толком не знала, умею ли я держаться на воде. В морской было намного легче плыть, чем в речной, но метрах в тридцати от берега я решил больше не волновать маму, я отчетливо различал ее в этом скопище, и вдруг, как никогда ранее, ощутил невидимую крепкую связь между нами, пуповину, соединяющую нас до последнего вздоха, и ее неосознанно острую ревность к морю.
… Здание центра абсорбции – в ослепительном мареве полдня. Слышу сквозь сон режущую слух шарманку, разносящую из размалеванного по-карнавальному автофургона мороженщика первые такты вальса "Голубой Дунай", и эта сиреной пронизывающая день австро-немецкая мелодия приходит из глубин сна сигналом воздушной тревоги.
А у женщины, продающей в лотке на углу сладости, игрушки и газеты, на руке – номер узницы немецкого лагеря, клеймо Катастрофы.
Клеймо еврейства.
Впервые оно обжигающе коснулось моего лба в том роковом – пятьдесят втором.
Странные видения, пахнущие паленной плотью, дымились тогда в бессонных моих ночах. Не демонические черты ростовщика из гоголевского "Портрета", не хищно-веселое лицо сухопарого Мефистофеля из недавно прочитанного "Фауста" Гете, слишком земного дьявола, увлекающегося наивными девочками, вином, золотом, а какое-то стертое, словно бы тронутое тлением и полураспадом лицо, как стоячая вода смерти на старой открытке начала века "Бетман и мученица", которую мама почему-то не сожгла в сорок девятом.
Это полуизглоданное, но жаждущее свежей жизни, пульсирующей в других, – особенно в беспомощно-юных – лицо существовало не в воздухе, а в мертвом течении свинцово поблескивающих под слабой луной гнило-стоячих вод.
Его оловянно-остановившийся взгляд тек студенистым зародышем нордической души с картин Беклина, страниц Сведенборга в жаждущие этого германские и скифские души, заложенные в такие на вид мирные, обывательски-примитивные существа, которые звереют, стоит лишь напялить на них воинские или карательские регалии, будь они в Баварии, Барвихе, на Баргузине.
Как хищнику раздувает ноздри кровь – так действует на них клеймо еврейства.
И приходит вожак их стаи, кровавый мусорщик, обязательно с усами столь же нафабренными, как и сапоги, будь то усы закрученные и пышные или – двумя узкими вертикальными черточками под носом.
Сверкающий мундир с регалиями напрочь скрывает сапожное или ефрейторское происхождение.
Идет он со своим совком да метлой, работает споро: иногда целые народы сгребает в одну ночь и вывозит на мусорку, в гниль, Сибирь, иногда их сжигает, аккуратно, к примеру, всем городком, и так и сбрасывает грудой угля в яму.
Яма середины двадцатого столетия.
Усталым шепотом шелестят слова Исайи через тысячелетья:
"…Кричат из ямы: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.."
С новым городом я начинал знакомиться с блошиного рынка.
Вот он, шумит вокруг меня, новоприезжего, в старом Яффо.
Дряхлое фортепьяно, быть может, одной из девушек, игравшей в песках Ришон-ле-Циона, кувшины, рюмки и медальоны времен моей бабушки.
Вещи моего младенчества, вот уже ставшие антиквариатом – бабушкина Тора, открытки от мамы – запекшиеся капли ее жизни.
На каких блошиных рынках продается коврик с мчащейся тройкой, вышитый мамой для меня и висевший над моей детской кроваткой, папины книги с его пометками, пережившие воину, а затем утянутые виду воротом мирской суеты, папин письменный прибор – чернильница, пепельница, спичечница из тяжелого серого мрамора, желтые металлические купола-крышечки, исчезнувшие после смерти мамы?
Куда девались десятки брюк и рубах моих, клетчатых, полосатых, широких, узких, неуклюжих, в карманы которых я прятал записки от девчонок, а бабушка тайком всовывала лоскутки красной материи "от сглаза", десятки туфель, острых, тупоносых, с пряжками, шнурками, несущих в себе такие кажущиеся сейчас смешными мимолетные капризы моды?
Сколько всего этого исчезло, унося в себе – как уносишь в одежде песчинки с пляжа – крупицы жизни.
Шумит блошиный рынок в старом Яффо горами вещей, по крою, вышивке, вязке, строчке, форме и характеру говорящих об их владельцах – евреях Польши, Румынии, Венгрии, России, Йемена, Ливии, Марокко.
Десятки изгнаний оседают здесь, складываясь пластами вкривь и вкось в какую-то диковинную планету, и все же, и все же я не хочу быть тенью Дантовой, с головой, намертво повернутой в прошлое, вижу, как оно "живой археологией" всплывает в настоящем, как груды вещей, несомые потоком времени, забиваются в его щели и закоулки.
Невысокая зеленая звезда стоит над Кирьят-Ганом, сельским садом. Солнечные рукава дней, их голубые ручьи и зеленые тоннели разбегаются по этой земле. Мгновения покоя и радости, слияния с самим собой, как ослепительные осколки зеркал – с поворота дороги песчаный колорит Натании с блестящими игрушками автобусов; монастырь, лепящийся ласточкиным гнездом в Иудейских горах над Вади Кельт с Иерихоном вдали; древняя давильня винограда среди развалин Эммауса, места явления Иисуса; холм Азека над темно-зеленой глубиной долины Аела, холм, на котором Давид поверг Голиафа; развалины замка Монфор, торчащие как обломки французской истории из густой сочной зелени галилейских предгорий над ручьем Кзив, даль Моава и гор Иудеи, увиденная в дымке с вершин крепости Масада, и особая прелесть сосновых рощ нынешней осенью в кибуце Маале Хамиша на высотах по пути к Иерусалиму, где воздух чист, как в оптическом приборе, и в ясный день в распадке видна вся приморская долина, вспыхивающая ночью тысячами огней мегаполиса; внезапно в окне какого-то дома в иерусалимском переулке, обернутом в прохваченную солнцем зелень, звуки чардаша Монти, пришедшие из юности; араб в чалме, курящий кальян на улице старого Яффо, по которой не иссякает поток автомашин, исчезающих под куполами старой мечети и колокольни собора Сен-Джордж, а мой собеседник, старик, знавший маму, упоминает имя Шики Гершенгорена, столько раз слышанное мной в детстве: его молодое пухло-нежное лицо на фотографии в мамином альбоме всплывает передо мной, как живое: оказывается, был архитектором Версаля, умер совсем недавно.
Время сумерек, замершее над морем в Яффо, черная шкура облака – в сгущающемся, теряющем контуры пространстве, время странное, бесполое, отчужденное.
Лампа, колышущаяся в водах, – судно.
Лампа, подвешенная в небе, – самолет.
Средиземноморская ночь совершает очередной обход по этой земле, и странен повторяющийся ее путь: слившись с мертвой тишиной кладбища, удостоверившись в сквозной пустынности блошиного рынка, идет она к морю и, внезапно навострив слух, печально замирает на полушаге…
Память нескончаемыми волнами катит к берегу, и, как оставшиеся в живых евреи Европы пытались под покровом ночи прибиться к этой земле, вот уже десятки лет к ней плывут в темноте, выходят, курясь и томясь темными шатающимися дымами, мертвые евреи, ибо согласно "Зоару" они под землей и под водой перекатываются в Израиль, и берег всю ночь немеет от стонов этих выходящих, мечущихся, кличущих, ищущих родных и близких, которые живут где-то на этой земле, и десятки тысяч в Израиле ворочаются во снах, слышат оклики, вскакивают в ночи, прислушиваясь к шуму волн вдалеке, и всю жизнь вздрагивают, узнавая днем в толпе знакомый облик, походку, печальную улыбку, жест привета, бегут за ним, но облик исчезает; миллионы душ живут среди нас, не улетели к звездам, сгрудились на этой земле, они не безбытны – дома их – наши сны, печали.
Соты человеческой жизни здесь уплотнены, как нигде в мире, эта малая земля, как звезда с невероятной силой тяжести и внутреннего притяжения, как вечная гиря каторжника у каждого еврея, и нет от нее спасения, куда бы он ни сбежал.
Никогда мне так часто, как на этой земле, не являлись во сне бабушка, мама, отец, ибо любовь их ко мне крепка, несмотря на мою вину перед ними – живой, остающийся всегда виноват перед уходящими.
Такая любовь не может исчезнуть бесследно, она существует, она действенна, и я спокойно вздыхаю во сне, видя, как бабушка, накрывшись платком, молится, потом кладет мне руку на голову, повторяя шепотом: "Гот, шрек мих аби штруф мих ништ",[47]47
идиш: Господи, страши меня, но не казни.
[Закрыть] и я иду сквозь время в их соприсутствии.
Вероятно, именно это вызывает ярость и шерсть дыбом дворовых собак, всегда питавших ко мне неприязнь – и больших, злобно-тупых, нападающих прямо, и малых, исподтишка, мелкозубым оскалом бросающихся под ноги; лишь бездомные, скитающиеся псы – с вытянутыми интеллигентными мордами, отточенными непричастностью к людским сварам и сворам и долгим вглядыванием в небо, полны ко мне понимания и сдержанности.
Вот и сейчас, когда я, выйдя из воды, сижу под навесом уличного кафе и попиваю галилейский сидр, один из них явился неизвестно откуда, улегся у моих ног, смотрит на меня неприкаянно и грустно всепонимающи-ми глазами скитающегося пса: он худ, но у него гладкая светлокоричневая шкура. Вздрагиваю, вспомнив, как рабби Ицхак Лурия, великий учитель Кабалы, живший в Цфате, указал ученикам на черного пса: в нем неприкаянная душа рабби Ди Ла Рейна.
Чья душа таится за глазами этого, улегшегося у моих ног, не отрывающего от меня взгляда, ничего не просящего, не помахивающего хвостом?
Более получаса сижу, приглядываясь к небольшой, забранной в камень площади, на которую выходят кафе и ресторанчики; то исчезая в кустах, то появляясь в какой-то щели, бродит по-разбойничьи кошачья шайка, цыкнешь на них – ухом не поведут Любопытно на фотографии в мамином альбоме всплывает передо мной, как живое: оказывается, был архитектором Версаля, умер совсем недавно.
Время сумерек, замершее над морем в Яффо, черная шкура облака – в сгущающемся, теряющем контуры пространстве, время странное, бесполое, отчужденное.
Лампа, колышущаяся в водах, – судно.
Лампа, подвешенная в небе, – самолет.
Средиземноморская ночь совершает очередной обход по этой земле, и странен повторяющийся ее путь: слившись с мертвой тишиной кладбища, удостоверившись в сквозной пустынности блошиного рынка, идет она к морю и, внезапно навострив слух, печально замирает на полушаге…
Память нескончаемыми волнами катит к берегу, и, как оставшиеся в живых евреи Европы пытались под покровом ночи прибиться к этой земле, вот уже десятки лет к ней плывут в темноте, выходят, курясь и томясь темными шатающимися дымами, мертвые евреи, ибо согласно "Зоару" они под землей и под водой перекатываются в Израиль, и берег всю ночь немеет от стонов этих выходящих, мечущихся, кличущих, ищущих родных и близких, которые живут где-то на этой земле, и десятки тысяч в Израиле ворочаются во снах, слышат оклики, вскакивают в ночи, прислушиваясь к шуму волн вдалеке, и всю жизнь вздрагивают, узнавая днем в толпе знакомый облик, походку, печальную улыбку, жест привета, бегут за ним, но облик исчезает; миллионы душ живут среди нас, не улетели к звездам, сгрудились на этой земле, они не безбытны – дома их – наши сны, печали.
Соты человеческой жизни здесь уплотнены, как нигде в мире, эта малая земля, как звезда с невероятной силой тяжести и внутреннего притяжения, как вечная гиря каторжника у каждого еврея, и нет от нее спасения, куда бы он ни сбежал.
Что скрыто за таинственным движением духа, который гору сгустившегося тумана мгновенно и так убеждающе зримо одушевляет формой, вселяя в нее нашу тревогу и страх?
Крокодил вытягивается в ехидну, и месяц, налившись бледным светом при солнце, зашедшем за трехголовое с единым туловищем чудовище, выскальзывает понизу медленно и тяжело бледным яйцом ехидны.
* * *
КАМЕННЫЙ КОМАНДОР – ВО СНЕ И НАЯВУ.
УДАР НИЖЕ ПОЯСА.
КОЗЛЫ ОТПУЩЕНИЯ И КОЗЛЫ
ПРЕСЛЕДУЮЩИЕ:
КОЗЛЯКОВСКИЙ И КОЗЛЮЧЕНКО.
БЕССМЫСЛЕННОСТЬ ЖИЗНИ И ЧУДО
БЕССАРАБСКОЙ ОСЕНИ.
ЧУГУННОЕ СВЕРЛО ЛЕСТНИЦЫ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО: МНЕ В ЗАТЫЛОК.
ПАМЯТНИК ДЮКУ – СОЛОМИНКА УТОПАЮЩЕМУ.
БУМАГА С ЗОЛОТЫМ ОБРЕЗОМ: ЛЕНИНОСТАЛИН
– СИАМСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ.
СИНИЕ И БЕЛЫЕ МУНДИРЫ.
ГОРОСКОП: РАСПИСАНИЕ ПОЕЗДОВ.
СОУЧАСТИЕ ОГОРОДНЫХ ЧУЧЕЛ.
В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ, КАК СБЕЖАВШИЙ
С КАТОРГИ.
ПОДОЗРЕНИЕ В НЕВИННОСТИ.
КАУШАНЫ – ЗАУШАНЫ.
ТОНУЩИЙ ДЕКАБРЬ.
ЛЕС, ИГРАЮЩИЙ ПОД СУРДИНУ ДУШИ.
СТРАШНЫЙ СУД: СУКОННАЯ СКУКА
ПРИСУТСТВЕННЫХ МЕСТ.
НОВЫЙ ГОД: СПЕШНО ВЗВЕШЕН.
НЕПОКРЫТЫЙ ВЕКСЕЛЬ ЖИЗНИ.
НОЧЬ: ЯМА ОДИНОЧЕСТВА И ВОЛЧЬЕЙ СТУЖИ.
ВОЕНЩИНА: ДРЕВЕСНО-ПОРТЯНОЧНЫЙ ВКУС
ВО РТУ.
КАПЕЛЬ, СЛЕЗА И ПЯТАЯ СИМФОНИЯ
БЕТХОВЕНА.
ЛАВРЕНТИЙ ПАЛАЧ.
ЛЕТО БЕРИИ: ЛЕТУЧИЕ МЫШИ НАД ТЮРЬМОЙ.
День тридцать первого августа пятьдесят второго выпадал на воскресенье. За несколько дней до этого надо было сняться с воинского учета перед отъездом в Одессу. Понедельник – день тяжелый, чем военкомат не шутит, и я решил пойти во вторник, двадцать шестого.
Спал я на свежем воздухе, в узком, как нора, шалаше, пристроенном самодельно к дряхлому нашему забору, и первое предутреннее, едва уловимое движение ветерка с реки поверх охладившейся за ночь суши будило меня: словно кто-то осторожно шарил в еще зеленых, но уже теряющих мягкость листьях. В сырой свежести раннего часа вокруг малой травинки, замершей перед моими глазами, тьма ночи начинала выдыхаться, терять свою силу и аромат, звезды выцветали и блекли. В плавнях начиналась перекличка петухов. Я шел по спящему, почти пустому и потому такому беззащитному городку: ранний час обострял чувство прощания. Я старался ступать помягче, чтобы стук шагов не прогонял своим безжизненным равнодушием это чувство.
Первые розовые проблески зари я увидел в широком прогале между аллеями старого парка. Птицы в листве прочищали со сна свои горла, и щебечущий мусор сыпался с деревьев.
Скамейка, на которой мы сиживали с Валей, была мокрой от росы. Грубо выкрашенные под бронзу то ли гипсовые, то ли каменные сапоги вождя (Лоцмана, Командора, Вперед смотрящего, имя которого со всех сил стараешься не держать в уме в сложных манипуляциях математики подсознания) топтали зарю. Эта опасная метафора, на миг выскользнувшая из-под контроля сознания, была тут же проглочена страхом и внезапным видением темного коридора военкомата, как выстрел кольнувшим грудь.
Но все заливая потоками нового дня, мягкие воды рассвета вовсю хлестали между деревьями, поверх крыш, прорываясь в наималейшую щель.
Солнце колыхалось в собственном золотистом дыму, оживляя даже угрюмое, длинное, как амбар, с решетками на окнах здание военкомата. В коридоре в этот первый час рабочего дня было пусто. Я постучал в дверь.
За столом сидел майор Козляковский, голенастый и длинный, как его фамилия, со страдальческим выражением на вечно пепельном его лице мелкого садиста и пакостника. О свирепости его ходили легенды. У окна стоял незнакомый мне подполковник со старым бабьим лицом и бескровными губами, так, что казалось, лицевое тесто просто рассекалось отверстием хилого рта.
Чего надо? – спросил Козляковский, уставившись в стену.
Сняться с учета… в связи с отъездом на учебу… – я положил осторожно на стол приписное свидетельство и справку о зачислении в институт.
Выйди, – сказал Козляковский, не отрывая взгляда от стены.
Испытывая глубоко затаившееся омерзение, я вышел, как выходят из палаты тяжело больного, и тихо прикрыл железную дверь.
Прошло более десяти минут. Я впервые в жизни снимался вообще с какого-то "учета" и потому не знал, сколько это должно продолжаться.
Вдруг дверь резко распахнулась и Козляковский вышел на своих полусогнутых, заправленных, вероятно, в козловые сапоги, глядя поверх меня в серую стену коридора, резанул с гнусавинкой в голосе;
Зайди!
Подполковник сидел за столом, в фуражке, и тут я вспомнил, что он совершенно лыс.
Стой, как положено, – заорал Козляковский, – распустили вас в школе.
Подполковник рассматривал мои документы:
Паспорт с собой?
Я подал паспорт.
Мы направляем вас в летное военное училище, – заговорил подполковник, шлепая губами, как человек, у которого отсутствуют передние зубы. Краем уха я уже слышал о внезапных разнарядках, спускаемых в военкоматы из училищ: вот и влип со своими расчетами – вторник, утренний час. За решетками окна весело клубилось августовское солнце, еще более подчеркивая мою беспомощность, и сапоги Козляковского, то ли козловые, то ли хромовые, бронзовея на глазах, топтали световую полоску на казенном полу.
Но я же принят в институт… И у меня… медаль…
Медалист!.. Брезгуешь военным училищем? Забыл про долг призывника перед родиной?.. Задрал нос? – заорал Козляковский, и лицо его стало еще более страдальческим, сморщившись, как от сильной зубной боли, он почти плакал и временами гнусаво блеял, – подполковник окружного военного комиссариата с ним разговаривает, а он… медаль, институт.
За восемнадцать лет жизни никто еще на меня так не орал. Внутри что-то оборвалось, как от удара ниже пояса. Гнусавый голос хлестал, как плеть по обнаженной печени.
Но в училище… это… добровольно, – обрел я слабое дыхание после удара, едва шевеля губами.
Доброволец! – взвизгнул Козляковский. – Ишь, свободы захотел? Ученый?.. А ты знаешь, что есть закон: после окончания средней школы берут в армию с восемнадцати?.. Будешь выпендриваться, заберем в два счета.
Где ваш отец, этот… Исак? – брезгливо прошлепал губами подполковник, не отрывая взгляда от первой странички паспорта.
Был тяжело ранен… под Сталинградом. Умер в госпитале.
Так вы что, тоже боитесь умереть?.. Все вы?..
Впервые в жизни так отчетливо и в мерзко-публичном месте вспыхнуло на моем лбу клеймо.
Даю два дня на размышление. Выметайся! – заорал Козляковский.
Паспорт можно взять?
Оставь паспорт, – он почти зашелся в истерике, – пошел вон.
Я вышел, пошатываясь, на улицу. Все двоилось в глазах.
Охранник вызвал маму из банка, который был всего в полуквартале от военкомата.
Что случилось? – испуганно спросила мама.
Она тут же, как я и предполагал, побежала за советом к главному бухгалтеру банка Вайнтраубу, старому лису, крупному мужчине с огромным животом, ранней лысиной и ястребиным носом, слывшему бабником среди женской колонии служащих банка.
Я вернулся в старый парк Скамейка была на месте. Птицы в листве продолжали чистить клювы, сыпля с деревьев чириканьем и мелким пометом. Но все напрочь изменилось, отсеченное слепой стеной каземата-военкомата и в этот миг не было даже щели, через которую можно было проскользнуть, вернуться в беззаботность утренних часов школьных лет, отроческой жизни.
Я тупо уставился в каменные с облупившейся бронзовой краской сапоги на низком пьедестале: гнусавый визг Козляковского стоял в ушах, заглушая птичий щебет.
По совету Вайнтрауба надо срочно, завтра, первым утренним поездом, ехать в Кишинев, в республиканский военкомат.
Я наотрез отказался спать в доме, забрался в шалаш.
Всю ночь мне снились сапоги Командора, каменными подошвами давящие на грудь, наступающие на горло.
Самым ранним был поезд из Рени через Кишинев на Унгены; мы вошли в плацкартный вагон, из рассветной свежести в спертый с сивушным запашком воздух, скопившийся в купе от нечистого дыхания спящих, несвежей одежды, заношенной обуви; мама села на краешек полки, я стоял в коридоре, у окна вагона без всякого интереса следя, как слабое отражение моего лица накладывается на пролетающие с металлическим лязгом полустанки, насыпи, луговые пролежни, сады, мостики, лески, обрывы, только и видя затаившийся в уголках глаз испуг.
Кишиневский вокзал, увиденный мной впервые, был весь в каких-то деревянных щитах, настилах, рвах: то ли доразрушали старый, то ли доделывали новый. Мы пошли пешком, через какую-то захламленную площадь, которую пытались превратить в сквер, мимо серых закопченных стен с колючей проволокой поверх, горами металла, скрюченных рельс – все это скопом, согласно вывеске должно было представлять завод имени Котовского. Мы поднимались по узко петляющей, в глубоких промоинах по склону холма, улице Ленина. В действующей церкви, на пересечении улиц Свечной и Щорса, шла утренняя служба, старухи с нищенской терпеливостью высиживали паперть, глядя подслеповатыми в бельмах глазами на приземистое выкрашенное в казенно-желтый цвет с длинными рядами окон здание республиканского военкомата, уходящее двумя сторонами треугольника по Свечной и Киевской, с парадной дверью на пересечении этих сторон.
Весь похолодев, с привкусом жженной резины во рту (позже это будет повторяться каждый раз, когда буду оказываться в присутственном месте), ожидая человеческого окрика или лая, отворил тяжелую филенку Мама шла за мной тенью, но вид у нее был более решительный и бывалый. В небольшом вестибюле за неким подобием прилавка сидел молоденький лейтенант, не гаркнул, не вызверился, вежливо спросил в чем дело Я начал сбивчиво объяснять, мама меня поправляла.
– Извините, вы кем ему будете? – спросил лейтенант, – матерью?.. Посидите здесь, я все понял… Сын ваш пойдет со мной.
В длиннющем с десятками дверей по обе стороны коридоре сновали военные, гражданские, девушки с папками, кипами бумаг, лейтенант же объяснял, что к военкому полковнику – Корсуну попасть невозможно, ведет он меня к заместителю полковнику – Бугрову и чтобы я не рассказывал тому так сбивчиво.
Лейтенант исчез за одной из дверей. Я сел на скамью у стены, собираясь терпеливо ждать. Передо мной на стене висел красочный плакат с портретами героев Советского Союза, времени на изучение его было у меня достаточно, да и на удивление тоже: из трех героев-евреев, о подвигах которых я читал в книгах и статьях, двое на плакате были белорусами – легендарный морской пехотинец, погибший на малой земле, дважды герой Советского Союза Цезарь Куников и не менее легендарный, и тоже дважды, контрадмирал Фисанович, третий – Машкауцан – на плакате выступал молдаванином.
Заходите, – сказал лейтенант.
Я весь сжался, бочком проскользнул в кабинет, где за столом сидел подполковник с явно располагающей к себе внешностью, жестом указал на стул:
Ну, так что случилось, молодой человек?
Я начал рассказывать, стараясь быть спокойнее и сдержаннее, хотя давалось мне это с большим трудом.
Документы у вас какие-нибудь есть с собой?
Нет. Майор все забрал… Даже паспорт.
Паспорт? – удивился подполковник. – Ну и ну… Ладно. Все понял, Знаю, о чем речь. – Мы дали указание всем военкоматам снимать с учета тех, кто поступил в ВУЗы. Возвращайтесь, – Все будет в порядке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































