Текст книги "Оклик"
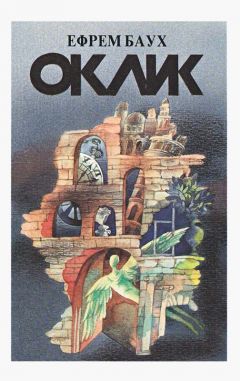
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 41 страниц)
Долго и безуспешно пространство пытается прийти в себя, а придя чуть-чуть, не узнает себя.
Из него вырвали сердцевину.
Прекрасный ландшафт с изумрудным лесом, истоптанными тропами, сокровенной глушью и родниковой тайной, стерло одним махом.
Убили гору, внутренностями вывернув наружу.
Только через день отправляемся на Перевал: каменные глыбы величиной с двухэтажный дом, отброшенные на десятки километров, встречают нас по старой, изменившейся до неузнаваемости дороге.
По мертвым мраморным внутренностям горы сизо-зелеными фасеточноглазыми трупными мухами ползают бульдозеры, скреперы, трактора.
Мрамор всех мыслимых оттенков, от голубого и лазурного до алого и фиолетового, с такой удивительной кристаллической структурой, грузят на цемент.
И мы ползаем с Мишей, жадно набирая в рюкзаки образцы породы с невиданной красоты сочетанием минералов: в бесформенном обломе полевого шпата цвета слоновой кости торчат толстыми карандашами кристаллов изумрудно-зеленый диопсид, голубовато-прозрачный апатит, с сиреневой подсветкой горный хрусталь, алмазно блещущий гранями циркон, кроваво-алый гранат.
Мы не можем все унести. Мы пытаемся припрятать назавтра.
Надрываясь, из последних сил, добираемся до поселка, сбрасываем, как обычно, рюкзаки возле почты – справиться, нет ли писем: вот уже более месяца ничего от мамы нет. Толстая бабенка даже окошка не открывает, головой лишь качает, как будто делает упражнение шеи.
Стоит серый облачный день. Никого не хочется видеть. Переодевшись, иду к Байкалу. Пустынный берег, тишина, сырая и в то же время стерильная, как будто ты под наркозом, как будто в дурном сне, когда руки и ноги закоченели, снятся тебе эти холодные прозрачные воды, низко, очень низко плывущие облака, словно бы вываливающиеся и вываливающиеся из каких-то слепых глубей, из какого-то сатанинского механизма, всасывающего все живое, переваривающего его эти мутно-белые, как белки слепого, бесформенные, как безумие, облака; а, быть может, и не механизма, а опустошенности в последней ее степени, втягивающий человека страшной иллюзией, что если он отдаст ей себя в распоряжение, то наконец достигнет свободы, и поглощает она его, выпивает его кровь и дух, высасывает все соки и выплевывает. Какая боль и последний крик миллионов душ погребены в этих просторах?
Сновидение о Байкале.
Ощущение безвыходности, особенно острой, ибо вокруг бескрайние пространства свободы. Но здесь она равнозначна гибели.
Спасает знание, что это не навечно, что скоро уедешь отсюда.
И – жалость к тем, кто прикован к месту, хотя баркасы, замершие у берега, все время обновляют в душе ощущение, что всегда есть возможность отчалить: вот они, стоят у берега, изо всех сил стараясь, чтобы все их видели, чувствовали уверенность, пусть и воображаемую, что они, люди, не пленники места, что можно уехать, даже если это всего лишь до следующего скрытого в тумане берега Байкала.
Пробуждение окатывает ледяной водой, и придвинувшееся вплотную пространство смотрит тебе в душу отрешенно-остановившимся, обдуманно-жестким, холодно-мечтательным взглядом убийцы и самоубийцы одновременно.
Я сорвался с места, я бежал в сторону почты: надо немедленно дать маме телеграмму. Окошко телеграфистки было с противоположной стороны от окошка, куда выдавали письма. Телеграфистка, сидящая спиной к спине толстенной, уже знакомой мне бабенки, смотрит на меня, как будто я свалился с луны:
– Да вам уже третью неделю идут телеграммы.
– Что-о?
– Вот пачка целая.
– Я ведь столько раз справлялся – есть ли письма.
– Письма это по другому ведомству.
– Ведомство же это к вам спиной сидит.
– Спиной, паря, не видють, – с игривой наглостью отвечает бабенка, обернув толстенный свой корпус ко мне.
Телеграмма одна от матери, чтобы немедленно откликнулся. Остальные из Москвы от однокурсников: наш факультет расформировывают, мы добиваемся в Министерстве высшего образования, чтоб хотя бы наш, теперь уже четвертый, курс оставили, срочно приезжай.
Собираюсь в два счета, с сожалением расстаюсь с моими образцами, только наилучшие запихиваю в чемодан, который быстро обретает бетонную тяжесть. Спираль времени, сжатая в груди вот уже более трех с половиной месяцев, давит, начиная разворачиваться в обратную сторону, поглощая ночь, утренний бег с Мишей к поезду, станцию Слюдянку, вагон, и мы запихиваем тяжеленный чемодан на первую от входа полку: никто не тронет, а попробует, чемодан просто оторвет ему руку и расшибет голову; уже поезд трогается, за окном проплывает Миша в обратную сторону, машет, печальная улыбка подрагивает овечьим его подбородком.
А в окнах, разворачиваясь, уходит уже освоенное мной пространство жизни, и слепящий под низкими облаками Байкал и рвущиеся ко мне в облачные прорехи поднебесные Саяны полны цельной печали, ибо прощаются с моим взглядом и жизнью навсегда.
В купе все вновь и вновь, как и во время моего отъезда из Москвы, озабоченно шелестят газетами. И плывут-уплывают знакомым ландшафтом беспамятство глуши и сонность души.
Глядя со второй своей полки, пытаюсь прочесть что-то в газете, которую держит в руках сидящий подо мной; лица читающего не вижу, буквы чуть прыгают, но все же разобрал сначала дату: 24 октября 1956; затем сообщение ТАСС: "На собрании венгерского ЦК первым секретарем избран Эрне Гере. Политбюро назначило премьер-министром Имре Надя. Жизнь постепенно входит в нормальную колею".
Что случилось?
И как бы ответом чей-то возмущенный голос:
– Венгры, суки, восстали. Убивают наших, гунны гунявые.
Спрыгиваю с полки:
– Венгры восстали?
– Да ты что, с луны свалился?
– С полки, – шутит кто-то.
– Да я только с тайги.
– Оно и видно.
На станциях бегут первым делом за газетами. Радио бубнит беспрерывно. Заголовки более реально обозначают дни, чем проносящиеся за окном призраками, – Иркутск, Новосибирск, Омск, Томск, Тюмень, Свердловск: 25 октября – "Янош Кадор сменил Эрне Гере на посту первого секретаря. Порядок восстановлен"; 26 октября – "Объявлена амнистия всем участникам вооруженной борьбы, которые сложат оружие"; 27 октября – "Как указал в своем выступлении Имре Надь, в борьбе против фашистских элементов принимают участие, наряду с венгерской армией, советские войска, дислоцированные в Венгрии".
Радио будит пассажиров на рассвете следующими тревожными словами:
"Будапешт. Ночь прошла спокойно. Отдан приказ, запрещающий открывать огонь".
Как ни странно, страх, сковавший всех пассажиров и делающий их похожими один на другого, вскрывает в них явно заглохшие родники народного творчества, особенно прибауток в рифму…
– Матиасракоши, собака, прихвостень фашистский, во всем он виноват.
– А эта б… Имренадь, предатель, он что, лучше?
– Ну, скажу вам, братцы, и кадр этот Кадар.
За окнами – холод октября, синие лица, убогие пейзажи, нищета северных полей, почерневшие копны соломы, покосившиеся избенки, низко стелющийся дым из труб, худосочные коровенки; в Иваново бабье стаями кружится по перрону.
Чей-то голос в соседнем купе:
– Мужика, вишь, нюхают. Их тут, баб с текстильных фабрик видимо-невидимо. Так у них веселье такое: к поезду выходить – мужика нюхать.
Под Кировом пьяный попадает под колеса.
– Ему ноги отрезало, а он смеется. Пьяный ведь, как блажной, не чует собственного тела.
Вот и Москва. Дождь, слякоть. Автобус до Кунцева. Опять дядя Сема. Чемодан еле выволок из поезда и сдал в камеру хранения.
У подъезда министерства высшего образования все наши, кто проходил практику за Москвой, в Казахстане.
Крик, шум.
– Знаешь, Пысларь в Енисее утонул.
И у нас есть жертвы.
Толком не могу понять, чего все тут околачиваются. Кажется, болеют за кого-то, кто в бюрократических недрах этого здания отстаивает наши интересы. Водят шашни с девочками из архитектурного, которые высыпают на переменах; мальчики из архитектурного заняты интересным по соседству, в минсельхозе, вовсе фантастическом учреждении, шумящем как пчелиный улей: оно столь огромно, что в нем каждый день кто-то меняет кабинеты и, соответственно, мебель, работ полон рот: это стало дополнительной статьей заработка для студентов архитектурного.
Поехал к Люде, на Авиамоторную, мать ее, весьма общительная и говорливая женщина, накормила нас обедом, пошли мы по Москве, но что-то мешало нам: ушедшие в прошлое, повитые ностальгической дымкой Саяны, выделявшие наше существование в окаменелой и все же романтичной глуши, забросало пыльной суетой Москвы, Люда обернулась обычной, ничем не примечательной девчонкой, и даже совместное посещение Новодевичьего кладбища, чье чистое и благоухающее имя, казалось, было заповедником тишины и вечного покоя среди балаганной суеты радио и газет с выпрыгивающими и исчезающими фигурками Имре Надя, Гере и Кадара, ничего не изменило. Я проводил ее до автобуса, и мы распрощались.
Москва, казалось, была забита жующей публикой: на всех углах, в автобусах, метро, жевали пирожки, хлеб, тахинную халву, челюсти двигались, а глаза с расширенной сосредоточенностью были прикованы к газетным строкам и к звукам радио, как будто это остервенелое внимание могло остановить ход каких-то действий в мире, вырвать из беспрерывной сорокалетней панихиды, лишь на время прервавшейся залпами своего Ватерлоо-Будапешта: и неизвестно было, где пружина, отпущенная "разоблачением культа", прорвется в следующий раз.
Среди сосредоточенно перетаскивающих мебель архитектурных мальчиков мы безобразно прыгали, кричали "ура" и в воздух бросали все, что было в руках: наш курс оставили, все младшие расформировали и разбросали по другим институтам.
Не помогла бдительность москвичей, несмотря на сосредоточенное жевание, находящих возможность полной поддержки нового шута, возникшего на арене года с его непристойной для русского уха фамилией Насер, в его законном закрытии Суэцкого канала, Тиранских проливов и еще, кажется, чего-то.
Была бы зацепка.
Вместе с началом ноября, вместе с отплывающим вправо за окном вагона Киевским вокзалом, с Переделкино, защемившим сердце на миг и растворившимся в серой мороси, с еще незавершившимся и весьма путанным венгерским восстанием, все мы с ходу и по ходу поезда, идущего на юг, влетели в Синайскую кампанию, в "тройственную агрессию Израиля, а за ним Англии и Франции, напавших на Египет".
Было ясно, что тектоническая трещина этого неспокойного года проходит по линии Будапешт-Синай.
Набитая взрывоопасной скукой, советская пресса втянула в свою трясину Имре вкупе с Матиасом и Яношем, и на краю тектонической трещины забалансировали новые имена – Бен-Гурион, Энтони Иден, Ги Молле; но все это доходило до сознания, как сквозь толщу воды, и легендарный Синай казался пустыней за тридевять земель, гораздо отдаленней, чем дальняя Сибирь, которую я оставил всего десять дней назад.
В память врезались лишь два синайских места с диковинными именами, под стать сказочной реке Сам-батион, – Абу-Агейла и Шарм-а-Шейх.
6 ноября 1956 года, сойдя с поезда на перрон кишиневского вокзала, я прочитал в прикрепленной к доске под стеклом газете "Правда" воззвание против агрессии Израиля, подписанное тридцатью двумя моими соплеменниками: среди них был дряхлый циничный волк Заславский и писатель Наган Рыбак, взахлеб воспевший легендарного погромщика Богдана Хмельницкого, который первым в истории занялся всерьез разрешением еврейского вопроса.
ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭЦИОН-ГЕВЕР
В последние дни сборов едем сопровождать груз на базу в Шарм-а-Шейх, переименованный в Офиру.
Выезжаем на рассвете.
Небо, наливающееся бирюзой на востоке, поверх Моавитских гор, предвещает пекло. Взгляд рвется в Синай, впитывая и тут же отбрасывая остров Жемчугов с развалинами древней крепости, острыми своими очертаниями и одновременно мягкими изгибами берегов похожий на блестящую переводную картинку, сухие и жесткие пучки зеленых и желтых растений вдоль дороги, дальние отроги и гребни багровых габроноритово-железных гор, похожих на чешуйчатые панцири циклопических ящеров, легендарных библейских чудищ, тысячелетиями ползущих к червленно-синему или скорее иссиня-черному морю, более похожему на расплавленный купорос, чем воду.
Среди едва различимых на утреннем солнце, бьющем в упор, колышущихся очертаний вершин взгляд с неосознанным, каким-то генетическим беспокойством пытается отыскать ту, которой касалась стопа Предвечного.
Стоит на миг остановиться, как слепым жаром охватывает абсолютная тишина Синая.
Ни одной птицы.
Память, как натянутая звенящая тетива, мгновенно связывает с теми, кому наказано было по этим же камешкам странствовать сорок лет и так и не войти в землю, от которой нас отделяют считанные часы езды на машине. И тут же ощущение, как это пространство забвения и жара концентрирует в себе особую силу жизни.
Вот уже показалась справа и вдали от дороги четко отделенная от каменной массы голова Кеннеди, а слева – на невысоком лессовом плато – городок (Офира, выросший после Шестидневной войны, вот мы уже проносимся мимо его невыразительных серых коробок, вылетаем по гальке и суглинистым комьям на край обрыва.
Это и есть Шарм-а-Шейх.
И – за расстилающимся в даль Красным морем – тоненькая, почти пропадающая полоска африканского берега, завершающаяся мысом Рас-Мухаммед – головой Магомета.
А в памяти – потрясшая в один из вечеров в иных землях песня, казалось, пришедшая в те часы из каких-то темных и влекущих лабиринтов, в которых рождаются притчи, легенды, вечность…
О, Шарм-а-Шейх,
Мы снова вернулись к тебе…
Небо здесь не ощущается бездонной голубой глубью, а выпуклой полусферой, посаженной на края земли, ибо густо синее в высоте, оно светлеет ближе к горизонту, а по краю гор становится совсем белесым.
На обратном пути делаем несколько привалов, не торопимся, ибо знаем, что, вероятнее всего, это наша последняя поездка в Синай: считанные месяцы остались до того, как начнут отдавать эти земли Египту.
Спускаемся к Тиранским проливам по грунтовой дороге между заборами колючей проволоки, ограждающими еще не обезвреженные минные поля. За узкой, мутно-серой, четко обозначенной полоской прибрежного моря – чернильные воды пролива.
В полуразрушенном бетонном капонире – заклиненное, полузасыпанное песком, неуклюже огромное орудие береговой батареи, брошенной в свое время египтянами без единого выстрела.
Странно представить, как эхо этого невыстрела раскатилось по всему миру, влетев облачком и в окна поезда, несущего меня через Россию на юг, и помнится, в памяти, под стук колес вертелось: Тирана – Медитерана, тирана-медитерана.
Потоки сухого жара опаляют лица и, отбрасываемые движением, заверчиваются сзади, за бортами машин, как за кормой корабля, перемещаются и переливаются между скалами, и такое ощущение, что мы сворачиваем за собой шагреневую кожу пространства нашего существования.
Проскакиваем Невиот.
Заезжаем в Ди-Захав. Место стоянки колен Израилевых, ведомых Моисеем. Полно купающихся, палаток, автомашин, детишек, взъерошенных финиковых пальм, синей дали, мягко втягивающей и успокаивающей сначала взгляд, потом и все твое существо.
Среди рычащих автомашин – первобытный рев тоскующего по дальним странствиям верблюда, которого покрыли рогожкой, ковром домотканным с бело-красными шахматными узорами и огромными малиновыми шнурами; мальчик-бедуин в полосатой кубовой рубахе и белой чалме катает на нем детишек, а то и взрослых за плату, галдеж вокруг невероятный. Верблюд печальным взглядом смотрит вдаль, словно бы еще видит пыль за уходящим в тысячелетия караваном собратьев, вместе с седоками, ношей и погонщиками погружающимся в глубь легенды, которая стелется скудным путем в лучезарно-ослепительную за горами землю обетованную. А его так вот бросили, на растерзание времени, оставили здесь, и вот до чего докатился.
Купаемся.
Ныряем к поверхности неглубоких коралловых рифов: задерживаем дыхание, как задерживают его перед чудом.
Весь Синай – это чудо.
Дорога вьется среди железных гор.
В неверном свете солнца, клонящегося к закату, – черные тени каньонов, угловатые пики гор, лунный пейзаж.
Возвращаемся в Эйлат.
Возвращаемся в древний Эцион-Гевер, где ждет очередная стоянка – нас, наших предков, который год странствующих по Синаю: развалины древней крепостцы Эцион-Гевер, – при виде даже обломка зубчатой крепостной стены мгновенное ощущение беззащитности и окружающей пустыни, от века затаившейся полчищами конных и пеших.
Неожиданно – вставленное в расселины железных дымящихся на солнце гор зеркало – выположенное пространство, и складка его – у горизонта – как бы защемившая толику неба, выжавшая невидимую небесную росу в озеро миража.
Миражи Синая.
С ними труднее расстаться, чем с реальностью.
Он вечен, как самый корень человеческого существования, феномен этой пустыни, жаждущей приобщиться к небу.
Книга третья Под крылом ангела

1. Осень 1981
И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: отец мой!.. Вот огонь и дрова, а где же агнец для всесожжения?..
Бытие 22, 7
Судный день. Корабельная сага. Время.
С вечера седьмого октября, в канун Судного дня, ни крошки, ни капли во рту, теснота и гул молящихся в огромном, как трюм корабля, зале, в семидесяти метрах от обрыва к морю, замершему в октябрьском штиле и потому как бы отсутствующему; луна в стрельчатых высоких окнах; и чудится зал ковчегом, вздымающимся на волнах псалмов Давида над мирской суетой, залитой безмолвием, как при потопе: ни движения машины, ни звука радио, ни прожектора самолета, висящего над бездной вод, только из отдаленных переулков вынесет на миг слабый плеск.
И никаких проводов, благословений: поднялся в автобус, махнул рукой.
День был пуст и ветрен. Я пошел к морю. Город, гигантский мегалополис, убегая от высотных зданий, выбрасывал себя в дряхлые прибрежные переулки, ветер нес поземкой ослепительно белый песок между пляжных грибков, окрашенных в белое, и бетонных сараев, покрытых известкой; песок был подобен снегу, и, казалось, белое пространство несется холодом солнечно-снежного дня вдоль моря с горами буро-белой пены, разбивающейся о камни пустынного мола, несется среди жаркой безмятежности августа, замершей островками дремы в береговых складках. Из-за скалы внезапно открылось в даль лукоморье, словно бы вдруг я сбросил десять лет жизни, ощущая себя на лукоморье Коктебельской бухты с восьмилетним сыном по дороге к могиле Волошина.
Водные лыжники пытались взобраться на серые катки волн, летели, падали. По краям обрывов стояли кучками любопытствующие, следя за теми, кто в море: тревожность в их замерших и вглядывающихся в даль фигурах сливалась с леденящей белизной песка и пены. Дальше тянулись редкие кусты среди песков, разрушенное здание с полустертой надписью на стене – "Винный подвал "Цветок Негева". И никого рядом. Только незнакомый мальчик лет восьми бежал к волнам, увязая в песке, и птичий его крик уносило ветром.
Я пошел обратно, в каменный лабиринт, ощущая родство с домами, у которых глухие боковые стены: они вдруг обнаруживались одиноко и слепо беспомощными в высоте и пространстве. Но возникала слабая надежда, стоило лишь в глухой стене оказаться проему, окну, карнизу: мгновенно возникал ток уюта, одомашнивания, успокаивая пространство, открытое ветру и тревоге.
Вдалеке маячили коньки и шпили старого Яффо видением Наполеона, посетившего в этих местах чумной госпиталь: частный случай в потемках истории высвечивался в легенду из уст в уста сквозь время.
Примешивалась ли к моей тяге вернуться к легендам и истокам национальной жизни, в Израиль, жажда риска, заложенного в двусмысленности слова "проиграть": желание проиграть всю жизнь сызнова, как игру по новым правилам, и риск проиграть все? Душа ли теряет стыд и такие мгновенья, внезапно обнажая свои пугающие извивы.
Словно прострелило из щелей прошлого сквозняком набивших оскомину споров в смеси с водкой и скудной закуской – кухонных диспутов российских со времен Герцена: среди пьяной болтовни и судорожного проживания минут мелькает малыш, мой сын, внесший морозную свежесть с улицы в кухонную тесноту, и вот мы уже вываливаемся гурьбой на снег, бежим, несемся на лыжах, мимо кустов, заборов, вниз, к заброшенной парашютной вышке над Комсомольским озером, рядом со мной малыш и грузный, пыхтящий наш сосед; падаю в снег, рассекаю до крови кожу на суставах пальцев левой руки, кровь кажется неправдоподобно яркой в сером обволакивающем холодным угаром дне; через день умирает мама, через пятнадцать лет узнаю, сын соседа уехал в Америку, а он разбит параличом, тучный любитель еды и женщин, всего на несколько лет старше меня – так ткется от человека к человеку мимолетный кусок жизни, и существуешь в нем, не думая о будущем, но раздается трубный глас, белеют шрамы на суставах пальцев, и малыш, который уже выше тебя на голову, махнув рукой, растворяется за поворотом.
Болтовня, как привычная среда проживания, накрывала с головой свинцовыми водами: там мы знали, как не быть патриотами.
Здесь мы не знаем, как ими быть. Для них, сыновей наших, это не знание, а – судьба.
И тайный укор точит сердце…
"Кол нидрей…" – "Все обеты, зароки, клятвы, необдуманно данные самим себе, отпусти нам… ибо раскаиваемся".
Тяжкий вздох огромного зала, как внезапно возникший среди тишины и низин вал, выносит на гребне плач кантора: "Кол нидрей…"
Душа ли теряла стыд, судил ли я криво, возводил напраслину на собственную жизнь, сетовал на судьбу?
«Прости за грехи, которые мы совершили вынужденно и по своей воле…»
Вчера, 6 октября, годовщина войны Судного дня. Целый день – в Иерусалиме. Музей Катастрофы: ослепительное солнце, каменное подобье шатра среди Иудейских гор, щебенка, острые осколки камня, залив олив, дальний олеографический силуэт старого Иерусалима с башней Давида; огромен шатер, масса народа, но слышен каждый всхлип, голосом кантора плачет пространство, неуловимым дымом уносится в отверстие в крыше шатра поминальная молитва – «Кадиш».
Арочное небо пророков Исайи и Иезекииля недвижно.
"Итгадал вэиткадаш…" – «Да возвеличится и воссвятится имя Его…»
Лишь древо жизни обладает прозрением, а я – лист ли, побег корня – слеп, но всеми силами души восстаю против этого: может это и есть самый тяжкий грех, и я должен в нем раскаяться, ибо сейчас, как никогда, боюсь поплатиться?
Солнце клонится к закату над Иудейскими горами.
Тревожное перешептывание по улицам и кровлям: убит президент Египта Садат. Из низовий Нила по радиоволнам еще доносится какое-то бормотание, призванное заменить надежду, но всем ясно: убит.
"Ви ихье шалом алейну вэ ал кол Исраэль…" – «Да будет мир всем нам и всему народу Израиля…»
Да будет…
Ибо у каждого – свой "Кадиш" – под одну и ту же землю на разных кладбищах мира ушла часть моей жизни с отцом, матерью, бабушкой; в потаенных нишах ночи копошится воронье: царапанье, шуршанье, гнусавый крик, летящий в пустоту над Средиземным морем:
"Кэ-р-р-а, кэ-р-а-ра…"[68]68
Кэра (иврит) разрыв.
[Закрыть] – как обрывки сатанинской молитвы – «Разрыв, разрыв… никакой сущности, только пустота, пустота, и в ней лишь сладкая жажда греха, уже в зародыше своем несущая столь же сладкую жажду раскаяния…»
Тонкий, едва уловимый, парок стелется по земле, словно парок голосов молчания – всех ушедших: зримое эхо их жалоб о несбывшихся желаниях и нарушенных обетах…
Возвращаюсь в зал огромный, как трюм корабля.
Обвал слов – повторяемых в мистерии покаяния, оживающих в плаче пения…
Человек, оплакивающий свои грехи как собственную смерть, как время пребывания в неживой среде. Напоминает ли это хотя бы отдаленно изначальный миг перехода от бесчувственного камня к живой боли?
Можно ли быть хладнокровным и насмешливым в этом кратере очищения, в этом вулкане извергаемых слов, пусть ежегодно повторяемых, но ведь и лава и вулканический пепел постоянны в своем составе?
Неужели лишь страх за сына, только начавшего спускаться в кратер пусть дремлющего, но в любой миг готового взорваться вулкана, сжег в душе кощунственный скептицизм по отношению к любой людской мистерии, воспринимаемой как давно сыгравший себя спектакль?
Где суждено мне бросить якорь – между молчанием камня и велеречивостью молитвы? "Прости притворство преклоняющихся ниц перед Тобой, упорство надеющихся на Тебя, вину простодушных, прости лукавые умыслы, злоумышление, ужесточение, зависть сердца, прости грехи мудрствования, оправдывание перед самим собой в часы ночи… "
И вспыхивает странный свет, обращенный в прошлое: беспамятно солнечный день, изнуряюще ослепительный и печальный, призраки студенческой юности – в окнах знакомого общежития, мимо которых иду и пропадаю в кривых переулках Малой Малины в лето шестьдесят девятого, карабкаюсь по каким-то тропам среди хлама, тлеющей свалки, сквозь пролом в заборе вхожу в больницу; стоит август, зной, застой, пыльная взвесь, мухи, ощущение длящейся жизни, какое-то строение, похожее на морг; лестницы, пролеты, темень по углам, запах больницы, имя Милика Мильмана, товарища по школе, ныне заместителя главврача этой больницы, вместе с мухами носящееся в хлорированном воздухе; палата, и в ней – бабушка, с переломом шейки бедра, вокруг сестрички, доктор Андрей Буряк, знакомый Игната; бабушка беспомощно и виновато улыбается; и все, все выглядит как сюрреалистическое пробуждение в некомфортном мире, все теснит, давит, неверный свет из всех углов, все безмерно временно, знакомо – посреди мира – ощущение, что нет опоры – ни в прошлом, где всего год назад умерла мама, ни в будущем, куда уходит бабушка, и ты связан с ней пуповиной и нескладицей разрушенных связей, а за спиной – семья, семилетний сын, но в этот миг ощущение, что ты один, совсем один; и бабушка это понимает и чувствует свою вину, и даже успокаивает меня, и в ней еще такая цепкость жизни, а солнце стоит, не колышется, за марлевой занавеской, в этом ничем не подпертом в растекшемся времени дне, и мне всего – тридцать пять…
«Прости грехи, совершенные в смущении сердца или упрямством… Прости… Как глина в руках гончара, так мы в Твоей руке…»
И опять "Кадиш" завершает вместе с "Адон Олам" Канун Судного дня.
Голоса последних расходящихся канули в колодцы переулков.
Море замерло в октябрьском штиле. Вода лежит плашмя, едва лижет песок и скалу – Кармель, кара-мель, отмель. И в этой как бы пустоте и тишине несуществования раздается слабый крик, голос на миг обретший плоть во тьме маленькой птички, печально трепещущей в снастях, как сердце, в давний ночной час августа шестьдесят второго над палубой теплохода "Аджигол", который везет нас с женой из Евпатории в Одессу; жена спит в тесной каюте, а я стою на качающейся палубе среди внезапно и резко уходящих к звездам снастей, и ветер, в них шумящий, вместе с гулом судовых машин на всю жизнь отпечатывает это мгновение: тьма, смола, пропасть, вода, идущая тяжкими развалами и желваками, напористость рассекаемых и сонно сопротивляющихся кораблю волн, вздувающихся пеной и нехотя раздающихся; снасти, собирающиеся к высокой мачте, спичкой чирикающей по холодным звездам; влажная пыль, холодящая лицо; и гул ночи, ее неустойчивость внезапно, впервые в моей жизни приходят ощутимой бренностью всего живого на гигантских ладонях вод и неба, глупой человеческой беспечностью, отдающей себя воле стихии: ведь я не один, а с женой, в которой дремлет на шестом месяце существо, еще незнакомое, но уже дорогое и неотменимое, сын ли, дочь, и это еще более усиливает ощущение зыбкости существования в этом ходко идущем гуле, в бездонной глухой пустыне, на этой палубе, где ни одной живой души, все попряталось по углам этой посудины, вобрало головы в плечи, под одеяла и пледы, лишь какие-то полупроявленные тени, скорее выдающие себя движениями, словно таясь и боясь собственной дерзости, возятся среди снастей ли, страстей, как будто тайком, по-воровски, стараются повернуть канаты, привязанные к оси, на которой в этот миг – весь ночной остов Вселенной, изменить ее уже вырвавшийся из-под их власти ход.
Даже переговоры их украдкой кажутся какими-то скрытыми, закодированными обрывками речи.
Внезапен чистый порыв воздуха, запах озона, лермонтовской строки о воздухе, чистом, как поцелуй ребенка, которого еще нет. и в ровном шуме вод за бортом, обдающих брызгами, я ощущаю свою странную как бы видимую мною со стороны включенность в некий вечный бег, шедший стороной, мимо, и захвативший меня в этот короткий срок странствия, и вижу себя поднимающимся на борт в Евпатории, – и это некто иной, далекий и маленький, как куколь в неподвижном свете послеполуденного солнца; я не тот, кто поднялся на борт, и не тот, кто сойдет в Одессе, и близкое мне существо, там, в тесной каюте, в этот миг как бы спит во мне, а в нем, также, как и мы, колышется в чревных водах еще одно существо, и все мы, как матрешки, – одна в другой – и в этот миг мое бодрствующее я – и есть самая верхняя оболочка матрешки – в водах вечности, обернувшейся ветром из азиатских глубин, ровным движением корабля, до того ровным, что, кажется, время остановилось, и в нем с шумом пролетает все прошлое, обладающее сбивающей с ног инерцией, и душу окольцовывает страх приближающегося мгновения, когда спасительное – ибо уже свершилось – прошлое проснется, и останешься лицом к лицу с рыбье-серой пустотой рассвета, называемого будущим: что сулит оно куколке, которая отбросив скорлупу, беззащитно и доверчиво выйдет на свет?
Спускаюсь в узкую каюту, жена просит воды, пьет спросонья, и вода, выплескиваясь за край стакана, льется на рубаху, на живот ее, заметно выросший…
Светляк, мачтовый фонарик – в бездне замерших средиземных вод, обломок весла на берегу, вчерашняя полузасыпанная песком газета с сообщениями об убийстве Садата…
Высокие звезды.
Гороскопы при лунном свете, мелким шрифтом – телескопы, стетоскопы Вселенной: все суетятся у ног Сфинкса, называемого будущим, все жаждут нащупать хотя бы щель в нем, трещину – беседуют с привидениями, скрещивают знаки Зодиака; по линиям ладони и почерку пытаются разгадать Судьбу; составляют гороскопы, раскладывают пасьянсы, а на этой узкой полосе земли, напоминающей стопу, желание разгадать будущее обретает уже навязчивый характер.
Не пришло ли время, когда мир чудится гигантским компьютером, куда тебя, только родившегося, вводят первой и простейшей командой "Enter", и ты увязаешь в бесконечных сотах информации и команд?
Лишь "вывод" из программы – на короткий миг – и слышишь музыку истинного, но недостижимого мира.
Ранняя луна растворилась в бездонных пространствах.
Спит эта полоска земли, от первой звезды до звука шофара выключенная из времени, и в этом безвременьи прошлое с будущим примеряются и примиряются.
Где-то на дальних холмах Иудеи он уходит в ночной дозор, я сижу на пустынном ночном берегу, но ощущение, что край света – этот берег, ближайший дом, изгородь, темень.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































