Текст книги "Оклик"
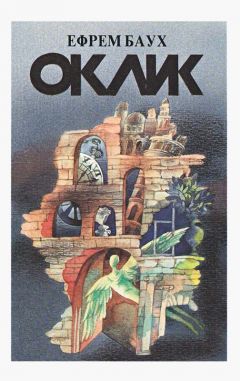
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 41 страниц)
5
НОЧЬ НА 8 ИЮНЯ 1981. СТРЕКОТ КИНОПЕРЕДВИЖКИ У ПОДНОЖЬЯ МОАВИТСКИХ ГОР. В НОЧНОЙ СТРАЖЕ. ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ НАД КРАЕМ СТАНА. ГОЛОС, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ЗАСЕЧЬ. СТРАННЫЕ НОЖНИЦЫ ПРОСТРАНСТВА. КОВРЫ ПУСТЫНИ ПОД ВОСХОДЯЩИМ СОЛНЦЕМ. ДВИЖЕНИЕ, НЕ СМЫВАЕМОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТНИМ ЛИВНЕМ ВРЕМЕНИ. 8 ИЮНЯ: ДНЕВНОЙ СОН – ПОЕЗД, ВЕТЕР ПУСТЫНИ. ПРОБУЖДЕНИЕ: СООБЩЕНИЕ ИЗРАИЛЬСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
Над военным лагерем лиловые сумерки. Пытаемся вздремнуть, ощущая, как прохлада пустыни подымается еще слабым дыханием из-под коек. Битерман уже успел все разнюхать, с кем-то поругаться, с кем-то наладить связи: заступаем на дежурство в ночь, никакого тебе отдыха после такой задрипанной дороги, даже ему, шоферу, который на ней все руки оторвал и глаза выел, и вообще ему не нравится настроение в лагере, напряженное какое-то, как перед Шестидневной войной, и все это чувствуют, а вам тут все нипочем, вечно он влипает с какими-то дрыхунами, черт бы вас всех побрал.
Невозможно уснуть: по всему лагерю приглушенный шум, движение, голоса, щелканье оружия, плеск воды, треск хвороста, запах горелого, незнакомое, какое-то тревожное стрекотание.
Бегом вернулся Битерман.
– Что это там стрекочет?
– Так я ж потому и прибежал, – радостно орет Битерман, – кино показывают.
– А перед Шестидневной тоже показывали?
– В том-то и дело.
Над краем Моавитских гор, над нами, – новехонький серп луны недельного возраста в месяце Сиван пять тысяч семьсот сорок первого года со дня сотворения мира; стрекочет кинопроектор; в лагере, погруженном в необычное затемнение, особенно ярок прямоугольник полотна, зрители встают, уходят, приходят, кого-то выкликают, какая-то масса ночного стана Израилева, усевшись на землю, слилась с нею. Стрекочет уже достаточно долго, и потому ощущение, что вошел в какой – то безначальный фильм, и в нем тоже засады, погоня, но и девица в купальнике, светящаяся длинными ногами; и все это, столь наторевшее и незамысловатое, кажется полным странного смысла у края пустыни Фарран, выражает – через всю жизнь – стремление отгородиться этим от хлещущего сквозь любую щель пространства, болезненное желание сочетать кафель, вазы, безделушки – строить из них холодно-совершенный мир – плотиной все опрокидывающему потоками ручьев Син и Фарран движению изначального духа в синайских каньонах, чтобы довыродиться до иудейских лиц с антисемитских плакатов, хрипло выкрикивающих на биржах мира, выражающих нетерпение собирать и копить и рабством платить за сокровища, которые развеет в прах на бесконечных обочинах синайских странствий.
В безмолвии этих мест со столь рано осознавшей себя вечностью кадры биржи с автоматическими очередями цифр, кричащими ртами и глазами, вылезающими из орбит, кажутся последними мгновениями перед гибелью человечества.
Ностальгия длиной в пять тысяч лет сладкой тягой охватывает душу: вернуться на стоянку колен Израилевых у Йотваты.
Девица, сбросив с себя последний клок ткани, уходит за край экрана: явно своровано у Жан-Люк Годара[65]65
Годар: французский кинорежиссер – один из основоположников «Новой волны».
[Закрыть] и бездарно использовано.
Сцена из годаровского фильма "Карабинеры" внезапно и остро всплывает давним потрясением и невозможностью вернуться на пять тысяч лет или пять дней назад: герой фильма, молодой парень, впервые в жизни входит в зрительный зал, видит на экране женщину, сбрасывающую халат и скрывающуюся влево, за край экрана; он бросается за нею, начинает гладить оставленный ею халат, рвет экранное полотно.
Кажется, с закрытого просмотра в Доме кино выходишь не на улицу Воровского, а прямо в синайскую ночь, которая и сама как сновидение: в глубине ее продолжает стрекотать кинопроектор, какие-то типы явно уголовного вида рассматривают Рембрандтов у картину "Паломники в Эммаусе", а я ведь всего дней десять назад побывал на развалинах этого города, который по дороге в Иерусалим, за монастырем "молчальников "у Латруна, на развалинах Эммауса, где паломникам встретился Иисус после воскресения, где с тех времен сохранилась давильня винограда, и, чудится, багряный цвет пьянящего потока несет в себе все сумеречно-иудейские краски Рембрандта.
Последние кадры: пустынные улицы города, спокойно спящего за миг до катастрофы. Город похож на Авдат, Прагу, Тель-Авив – в предрассветный час дня отпущения грехов, Йом акипурим.
Но железной конницей уже полны долины.
Перед отъездом в ночной дозор нам сообщают, что по всей границе объявлена повышенная боевая готовность, запрещено курить, варить кофе, за любое нарушение немедленно утром дивизионный суд.
– Что я вам говорил? – с веселым злорадством утопающего шепчет Битерман.
Разъезжаемся.
Вдоль границы сорок сторожевых точек.
На радиоволне, которую одновременно слышат все точки, – тишина.
– И ангела-невидимку нашего, гляди, припугнули, – говорит один из парней, которые здесь уже десять дней на сборах.
– Кого, кого? – тут же навострил уши Битерман.
Еще услышишь.
Ночью, даже если бодрствуешь на страже, кажется, спишь с открытыми глазами, ночью живешь как в постоянном кинотеатре, только видишь развертывающий ся фильм в приборах ночного видения – деревья, кусты, камни, силуэты – негативы иных миров и времени. Жажда понять жизнь, сама душа, скрытые днем, как невидимые, но существующие звезды, выступают в темноте и безмолвии, обретают объемность и свет, овладевают всем существом, но свет их слаб и загадочен. Сродни этому кино – ночное бытие, хаотично-бессюжетное сновидение. И сюжетное вторжение ощущается фальшью.
При слабом свете звезд мир и все предметы в нем меняют свой облик, размываются очертаниями, вызывают прилив воображения, слышишь шорох ангельских крыл, их легкое веяние, которое с первыми лучами исчезнет, но сохранится память их реального открытия, их существования, и в такие мгновения становятся понятными долгие ночные бдения еврей с-ких мудрецов и пророков, обостряющие интуицию, открывающие бездны и высоты.
Странные звуки, уханье ночных птиц, шорох полевого зверька, лопотание крыльев, как сухой шелест листвы, слепой зигзаг летучей мыши: шкурой переживаешь ночь на краю стана Израилева у Йотваты, резкую смену дневного пекла ночным холодом, обильное выпадение влаги, от которой тяжелеет брезент, мокнет металлическая обшивка "джипа", безмолвие земли, и после дневного топота множеств – пронзительное ощущение близости первой и последней высоты Божьего присутствия.
Только сей час, когда холод прохватывает до костей, понимаешь, что значит для курящего затяжка сигаретой, для того, у кого зуб на зуб не попадает, глоток горячего кофе.
И в этот миг, в половине третьего ночи, когда уже от холода просто некуда деться, на все сорок точек по радио среди мертвой тишины раздается:
– Б-р-рр-рр…
– А вот и он… Ангел-невидимка, – оживляются те, что уже неделю ходят в ночное.
И тут же по радио крик командира дивизии:
– Я тебе покажу, бен-зона.[66]66
иврит: сын потаскухи, сукин сын.
[Закрыть] Я тебя засеку. Я тебя под суд утром отдам.
В радио – тишина. Дело в том, что баловника, который уже не впервые шалит ночью, невозможно засечь, а выдать его никто не выдаст.
Опять по радио – ангельское пение:
– Адони ашофет, адони ашофет…[67]67
иврит: Господин мой, судья, господин мой, судья… первая строка припева эстрадной песенки, популярной в 1981 году в Израиле.
[Закрыть].
Опять крик комдива:
– Ты у меня попоешь и попляшешь. Я тебя засеку.
Тишина – пронзительно-долгая. При напряженном вглядывании и вслушивании – странное ощущение бестревожности, хотя Битерман и особенно объявление повышенной боевой готовности вселили в нас неясную горечь ожидания чего-то: ведь по словам тех, кто здесь раньше нас, такая готовность в ночь объявлена впервые. С другой стороны никаких особых указаний не дано, кроме обычных: быть бдительным, следить в оба. И это успокаивает. Граница здесь, как правило, спокойная, заповедник дикой жизни на довольно обширных и плоских солончаках Йотваты. От просторной рощи высоченных пальм у шоссе, в тени которых обычно останавливаются туристы, катится вал кустов и деревьев, разрежаясь полянками, где можно увидеть лань или цесарку, с торчащим на голове, как у индейцев, пучком цветных перьев. Вал зелени обрывается иорданской границей. Солончаки, как бы освободившись от растительности, с редкими кустами и деревьями, которые они волокут на своей продубленной солями шкуре, в два прыжка добегают до подножья гор и, сменив солончаковую шкуру на верблюжьего цвета суглинистую, начинают карабкаться сразу и вверх, обтягивая ребра скал.
Одна земля, единой шкурой обтянутая. Но – граница. Мгновенно сменяющееся переживание одного пространства: здесь – пан, там – пропал.
Заповедник живет ночной жизнью: дышит, лопочет, попискивает, как только "джип" заглушит мотор. Проезжаем участок, останавливаемся. Замираем на какое-то время. Опять движемся.
В одну из внезапно наступивших пауз – слабое колыхание фортепьянных звуков из транзистора, который Бени прижал к уху, концерт Артура Рубинштейна, кажется, записанный в Вене.
Звуки испаряются в древней синайской ночи, у подножья Моавитских гор, как невидимый пар над чашкой кофе, о котором приходится только мечтать.
Скрытый огонь души в этих звуках проступает мгновенной связью с теми, кто пять тысяч лет назад нес ночную стражу у края стана Израилева, лежа в засаде, слыша ангельское пение высот и не подозревая, что лежит у подножья мировой истории.
Миражи, притекающие днем из расселин Моавитских гор, от Красной скалы, в жгучее марево пустыни Фарран, претерпевают в ночи странные метаморфозы: частокол колючей проволоки по краю стана Израилева, за которым верблюжьи земли королевской Иордании, внезапно и болезненно заостряется в сознании частоколом готических букв, через которые пропущено электричество, на безглагольных вывесках ночной Вены, с антисемитской поощрительностью слушающей гениальную игру старого еврея – Артура Рубинштейна.
Гегелева триада нуждается в жертвенной крови.
И готический частокол вновь оборачивается колючей проволокой, через которую пропущен ток, по краю иного стана Израилева, ведомого не Моисеем к земле обетованной, а австрийцем Шикльгрубером в печь огненную. Бесконечна очередь колена Рубинштейна – к обрыву, грани между жизнью и смертью, краю. Бесконечен Исход, в котором неизбежность предстоящей гибели рождает ликование, не менее, чем видение горы Синай, и взрослые говорят детям: "Еще немного осталось".
И юность моя прожигается мерзко обнаженным в смерти лицом, столь близко проплывшим мимо меня в Мавзолее, такое сближение – лицом к лицу – с тираном, возможно лишь после его смерти.
И уносит меня через время от этого странного сдвоенного гнезда смерти одновременно в две противоположные стороны – в ледяную глушь Сибири и в стеклянное пекло Синая, и два этих разбегающихся странствия странными ножницами пространства охватывают разрыв времени в двадцать пять лет (1956–1981), давая ощущение глубины моей жизни, данной мне волей случая и судьбы, и вершатся события, и темен их поток, но время от времени пронзает меня ощущение, что все это лишь внешние обстоятельства, в которых длится самое стержневое – скрытая встреча, столкновение, озарение и печаль – с Высшим началом, той Мощью и Милосердием, чья стопа обожгла эти аспидно-черные железные горы, эту снежно-белую на ослепительно-стеклянном солнце пустыню, необходимо лишь быть на время вырванным из кругооборота обычных дней с работой, суетой, крупными поломками и мелкими починками, чтобы вернуться к подножью Истории с пустыней, жаром, жаждой, миражами, которые убедительней реальности, следами разрушенных и покинутых городов, что подобны годам прошедшей жизни, вернуться к изначалию – и вновь коснется тебя впрямую, ожогом, истинное на этой земле твое существование.
Всего каких-то сто пятьдесят километров от дома световыми годами отделяют от оставленной жизни, и сотни световых лет протянулись до погасшей планеты, где прошла юность, словно ты вернулся на эйнштейновском, только наоборотном корабле, и в полете пролетели годы, эпохи, а здесь все осталось, как пять тысяч лет назад, на заре времен, и слабый огонек сигареты из-под ладони рядом, на миг очерчивает край и всю громаду стана Израилева, расположившегося привалом у Йотваты по дороге на Эцион-Гевер.
Окрик комдива по радио:
– Кто курит? Немедленно прекратить.
Небесный Воз гнется под всей Вселенной, поворачиваясь вокруг оси, отмеченной верхушкой дерева. Предчувствие рассвета приходит вместе с запахом сухих кустов, обрызганных росой и ощущением края земли за пограничной межой.
Задержка темноты кажется неестественной, словно речь идет о ночной страже длиной в пять тысяч лет, в ожидании света, столь же медово-тяжко и ослепительно отмечающего свой возраст.
Солнце еще за Моавом, но на западе, в лилово-прозрачном глубокофокусном пространстве, слабо мерцают конусы легендарных гор Синая, среди которых та, единственная и предвечная.
Редеют в небе стаи перелетных птиц, чье слабое курлыканье слышалось над нами всю ночь.
В этот миг, когда глаза свербит от бессоницы, особенно и необъяснимо ощущаешь свою приобщенность к вечности пустыни, ее мистическому молчанию, ее – оглушающему топотом тысяч ног – грому; они возникают и исчезают, как в приборах ночного видения, силуэт за силуэтом, возникают и исчезают, и никаким пескам, никаким тысячелетним ливням времени не дано смыть исход – этот первый и вечный прорыв из рабства к свободе.
Белым бархатом вспыхивают дальние ковры пустыни под восходящим солнцем. Свет солнца – из-за горы – сразу и врасплох синим синайским пламенем.
Спать.
Соскальзываю в сон под дальние голоса: более молодые после бессонной ночи лишь собираются прокатиться в Эй лат, поглядеть на шведок, загорающих почти нагишом.
Ветер пустыни обдувает меня или сухое старушечье дыхание? Если у смерти есть дыхание, оно вероятно так пахнет – тлетворным жаром, пеплом, золой.
Слабый плеск воды, льющейся в горло из фляги, отдается влажным живым шумом целого моря.
То ли это тонкое пение песка, то ли стеклянные миражи запели, как поет краешек тонкого стакана, когда по нему ведут кончиками пальцев?
Долгое нашептывание.
Наплывающие круги оранжевого солнца под веками.
Жарко распластывающее ощущение дневного сна.
Долгое нашептывание о спасении души, обнажении космического сознания, однажды коснувшегося этих железных гор и стеклянных пустынь, и в нем пульсирует всеобъемлющее знание, и все сливается так, что идущая по пустыне человеческая масса вовлекает в свое движение страхи, надежды, печали, тягу к звездам и луне, мерцающей в свете дня. И давние жизни соединяются в цепь, потрясают внезапными воспоминаниями каких-то дальних перекрестков счастья, мгновений солнца и тишины, музыки и света, и все это рвется в символы, полустертые и потому еще более влекущие, и так легко, будто вся твоя жизнь лишь на то и задумана, чтобы тратиться на разгадку этих странных символов.
Душа жаждет остаться на синих высотах, но там ее как бы и нет, и ощутить себя она может лишь в этом душном мире пустыни, но и тут она в слишком большой безопасности, чтобы себя познать, ибо лишь на лезвии гибели открывается ей собственная сущность.
Кому быть слугой, как Иов?
Чьим быть любимцем, как Авраам?
С кого требовать равенства отношений, а не облагодетельствования слуги и обласкивания любимца?
Над кем заносят нож, чтобы познать или погибнуть имеете с жертвой?
Поезд идет и идет, постукивая колесами на стыках.
Конечная остановка – в пустыне.
Рельсы просто обрываются, уткнувшись в дюны.
Поезд стоит.
Можешь выйти. Вокруг и вдаль – ни души.
Только – присутствие Бога.
Можешь вернуться. Еще и еще раз приехать – никаких ограничений.
Но выйти – к Богу – это решение раз и навсегда.
Нет, это не смерть, и никакой не символ.
Это выход в высокое одиночество, в сверхчеловеческую сосредоточенность перед Высшим, толика которого – в этих синайских пространствах.
Это – одновременное путешествие в реальности и по сне, ибо реальный облик пустыни под легендарным названием Синай целиком совпадает с нею же – в сновидении.
Обостренность слуха, зрения, восприятия благодаря тому, что присутствуешь в этом магнетическом пространстве сотворения народа из пестрого племени кочевников, прижатых деспотией Пирамид, мучительна и влекуща.
И нет никаких приборов ночного видения, никакого радио.
И таинственный чей – то голос, которого командир дивизии никак не может засечь, – и вправду голос Ангела, уже открывшего к собственному удивлению живительную силу юмора, не менее важного, чем теплая одежда, затяжка сигаретой или глоток горячего кофе в момент, когда вовсе окоченел.
И ты замер в ночной страже на краю стана, страны, прислушиваясь к печальной перекличке перелетных птиц, но в отличие от предков своих, ты еще и знаешь откуда или куда они летят, неся на крыльях печаль и свет молодости. И возносятся эти мгновения таким целостным переживанием собственного бытия, что это делает их причастными к лучшим мгновениям жизни.
Опять отправляется поезд, странное существо, подобное библейскому змею поглощающее пространство, совратившее Адама и Еву, переваривающее всю земную суету в своем долгом извивающемся коридорами металлическом чреве с резиново-каучуковыми гармошками, соединяющими вагоны, и вправду подобными змеиной шкуре.
И я на ходу вскакиваю который раз в этот поезд.
Трясут за плечо:
– Кончай дрыхнуть. Слушай.
Полдень. 8 июня 1981. Последние новости: заявление израильского правительства об уничтожении иракского ядерного реактора у Багдада.
Близится вторая ночная стража повышенной боевой готовности.
История на миг задержала дыхание.
Свет послеполуденного солнца галлюцинирующе неверен.
Тревога, восхищение, причастность, и высоко в небе – меньше комариного носа – самолетик.
Мираж или фантом?
6
ИЮНЬ-ИЮЛЬ 1956. ПОЕЗД МОСКВА-ХАБАРОВСК. ВОКЗАЛЫ: ЧУВСТВО МИМОЛЕТНОСТИ И ПОГИБАНИЯ. ПЛАЦКАРТА: ВЗБИРАНИЕ НА ХОРЫ И ПЬЯНЫЕ ХОРЫ. ИОНА ЯКИР И „РЫЦАРЬ СОЛНЦА”. ДЕКОРАЦИИ ЛЕСОВ И ГОР: ВСЕ ЗАДВИНУТО. ДВЕРЬ В ПЛОТИНЕ. ТРУБНЫЙ РОГ: ВОССТАНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НА ЗАПАД. ВОЛЧЬЯ БОЛЕЗНЬ ПРОСТРАНСТВА. ЗАБОЙЩИКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЖИЗНЕЙ. МОСКИТЫ-МОСКОВИТЫ. СЛАВНОЕ МОРЕ БАЙКАЛ. ЛЕВИАФАНЫ ТОННЕЛЕЙ. НО НЕСТЬ ПРОРОКА ИОНЫ.
Последний день июня 1956 жарко висел над поездом, казалось, бессильно буксующим в жажде отбросить назад пространство, которое упорно проворачивалось на вертикальной оси этого дня подобно огромному запущенному навечно волчку. Я лежал на верхней полке в плацкартном купе.
Только утром мы отъехали от Москвы в путь до самых до окраин, но я уже по горло был сыт костью, брошенной мне пространством в тошнотворный закуток полки, сродни собачьей конуре, хотя изо всех сил пытался представить себя перекати-полем, прохваченным ветром дальних странствий.
Угрожающе шелестели газетами, начиненными взрывчаткой такой силы, что она в любой миг могла взорваться спором, а то и дракой, необъяснимой дружбой и неоправданной враждой: открытым текстом во всех газетах печаталось принятое ЦК постановление "О преодолении культа личности и его последствий". В эпоху поголовной грамотности каждый на виду у всех проглатывал этот пылающий, обдающий смрадом факел, становясь факиром на час.
Можно было, конечно, принимать все, как есть, можно было лицемерить, колеблясь вместе с линией и всем поездом, со скрипом идущим в завтра, но если уж отрицать – надо было все до последнего пункта: в этом отрицании все четко связывалось, выстраивалось, и получалось, что, как ни верти перед собой факты, как ни выкручивайся, налицо была историческая катастрофа, унесшая десятки миллионов безвинных, и если дьявол задумал сократить народонаселение мира, то очень удачно выпестовал двух своих учеников с усиками, только у одного был лихой разбойничий чубчик, а у другого – благородный зачес от лба к затылку.
Надо же было, чтобы событие опять захватило в пути, когда пространство твоего проживания трясет, швыряет из стороны в сторону с металлическим скрежетом и звоном то ли сцеплений, то ли цепей; трясло посильнее землетрясения; через всю одиннадцатитысячекилометровую евразийскую махину шли трещины. Сам черт по народному поверью является строителем мостов, и по ним, чертовым, летели мы через Волгу, Оку, Каму, в даль, которая уже только потому, что – даль – обретает дымку и влечение легенды.
Только Сибирь оборачивалась тягой в гибель и забвение.
Опять событие заставало врасплох всех и каждого по-разному: в страхе, в запоздалой радости, в оглядке, в неверии.
И все же, как прежде и всегда, дети жались к мамам и папам, и светлый ореол неведения над их детскими головами бросался в глаза: они были у начала нового наплыва всезаливающего света.
И хотя я очень остро ощущал все происходящее вокруг и притекающее ко мне сквозь строки этой нескончаемой книги о масонах, тоскливая зависть приковывала мой взгляд к детишкам у родителей за пазухой, и особое чувство мимолетности и погибания, несущее меня от вокзала к вокзалу, особенно обострившееся после аварии, когда я висел на стыке вагонов, чувство отрубленности от родного дома, угла, прошлого, к которому нельзя вернуться, глубинной горечью и неосознанным страданием несло меня в новую полосу жизни, в неизвестное и дышащее гибелью пространство.
Отход поезда в экзистенциальной глубине воспринимался как миг, доящийся бесконечно, когда тебя, слепого щенка, швырнули в реку, и ты летишь, летишь, и наконец начинаешь барахтаться, чтобы научиться плавать и уже никогда не доверять руке, принявшей тебя в жизнь, и тебя швыряет и кружит, как щепку, пространство, обтекающее со скоростью, стирающей устойчивые изображения привычного мира – деревьев, дома, улиц, реки.
Между тем на поверхности ты куда как хорохоришься, играешь в карты со спутниками по купе, кто-то тебе даже по ним гадает, а за окнами мелькают пейзажи, мгновенные снимки странствия, как разные карты одной колоды, но что пророчит выкидываемый тебе пасьянс жизни?
Суждена была тебе гибель от рыжего, в оспинку, короля, да вот же спасся, ученик воды проточной.
А масоны играют в карты на жизнь, как и уголовнички в Сибири, о чем со знанием дела и захлебываясь слюной от восторга, рассказывает один из пассажиров купе.
Печалит или успокаивает мелькающий в окнах солнечный свет, приклонивший голову на лесных полянах?
Ехать предстоит неделю: ощущение общности с движением, как второе дыхание. Встречные рвут воздух с треском и сиреной, которая глохнет, задушенная пространством. Перед сном всплывает все время подстерегающее чувство беззащитности и осязаемое ощущение веревки, которая держит тебя за щиколотку ноги, разматываясь на тысячи километров от ворот родного дома, и ты паришь в пустоте подобно бумажному змею. Но кто, кто разматывает ее, веревку?
Тысячекилометровая растянутость пространства все более ослабляет душевные связи, и ты ныряешь в сон, проглатывающий за ночь сотни километров, ты "засыпаешь" пространство, спишь, как птица на ветке, держась пальцами за край полки, как рыба, замершая в течении, несущем тебя в глубь спокойного моря или к внезапно падающему в пропасть водопаду?
Днем заигрываешь с проводницей Марусей, допытываясь у нее, почему это у станций такие странные имена – "Яя" и "Ерофей Палыч"?
Начавшееся с отходом поезда легкое питие, впадает в тяжкую почти по всем купе вагона всасывающую и не отпускающую душу на покаяние пьянку с прострацией и полным наблевательством на всех трезво жмущихся по углам и в пропавших сивухой туалетах. Тянутся за окном леса, леса, изредка вдалеке – знакомые силуэты вышек – колокольни острожного мира: они молчат, но вопиют камни острожных стен да вопят алкаши.
Под пьяные хоры взбираюсь на хоры – осточертевшую свою полку. "Бежал бродяга с Сахалина", – зверски захлебываются голоса, и тут же ревут тосты – "За Сталина", который, очевидно, придан нам навсегда.
Странные какие-то алкаши: если после отсидки, так не в ту сторону едут, правда, блатные песни поют. Освобожденные, насколько улавливаю из осторожных разговоров трезво жмущихся по углам, едут с востока на запад, их выпускают каждого в другое время, дают прогонные, их можно узнать по пепельным лицам, вздрагивающим от каждого крика, принимаемого ими за окрик.
Пытаюсь отвлечься, читаю о великом Каменщике ложи масонов, который замуровывал в прокрустовых ложах своих истязаемых врагов, о масонах, погрязших в грехах, вакханалиях и оргиях, о том, что зодчество более всего сродни мистицизму, а за окнами поезда время от времени мелькают пыльные уральские городки с непременным архитектурно-скульптурным набором – заброшенной церковью без креста и памятником Сталину, и такой окутывающей их постмистической тяжкой тоской, которую можно только и залить спиртом да разрядить в драках и поножовщине; северная, даже в летние месяцы серая, окаменевшая скука, лишенная даже искорки холодной скандинавской мечтательности, ее сладкой тяги к смерти, крепко держит в тисках своих поезд, который рвется в даль, надеясь выскочить из этих тисков, свистя с петушиной лихостью, но скука в этих краях – обложная и бесконечная.
Неужели строители этих церквей и храмов тоже были посвящены в средневековые строительные обряды, считая себя, как и все каменщики мира, преемниками строителей Соломонова храма в Иерусалиме, неужели и они ощущали себя членами тайных артелей и лож в этих бесконечно теряющихся пространствах, глухих и пустынных, как кладбища, ибо единственное, что было им по плечу, этим просторам: скрывать чудовищные по размаху преступления, когда, кажется, каждое дерево – надгробный памятник, а доящаяся вдоль полотна бесконечная лесная опушка – край уходящих в даль и тьму омутов Гулага?
Алкаши в песнях уже добираются до Байкала, священного моря.
Смутная догадка не дает покоя: ведь мучители миллионов жертв тоже должны исчисляться хотя бы тысячами – этакая портретная галерея сталинских палачей – этакая неофициальная "Доска почета" – адская "Доска печёта". Чем заливает мучитель сгорающее нутро? Спиртом?..
– Шакалы, – кашляет всем нутром мужчина, подсевший к нам в купе несколько остановок назад. С момента его появления слежу за ним из-за края книги: такого сморщенного, скомканного, как тряпка, лица в жизни не видел, такого сникшего, кажется, бескостного тела, но вот он кашлянул непроизвольно, слово произнес, и – на миг – выплеск такой затаенной силы и бесстрашия среди всех вокруг, мгновенно вобравших головы в плечи от этого слова: по когтям узнаешь льва. Внезапно вспоминаю описанный Герценом в "Былом и думах" памятник Торвальдсена в дикой скале у Люцерна: умирающий лев с обломком стрелы, торчащей из раны, во впадине, задвинутой горами, лесом; прохожие, проезжие и не догадываются, что вот, совсем рядом, умирает лев.
Памятник всем жертвам Гулага.
Но есть и разница, весьма существенная: прохожие и проезжие здесь догадывались о гибнущем рядом многомиллионноголовом льве, но делали вид, что не знают – быть может, человеческое сознание не могло охватить это, выдержать – и они были рады, что все задвинуто горами, тайгой.
Так разворачивается это пространство своими скрытыми адскими шедеврами – разрушенными церквями, еще действующими лагерями, скульптурными истуканами в камне, бронзе развенчанного вождя, его фигуры посконной в шинели суконной, разворачивается мне на полку так, что начинает болеть шея. Так на затекшую мою шею и набегает материк Евразия, сфинксовой скукой сводящий суставы и сворачивающий скулы целым поколениям.
Сфинксовые вопросы Эзопу здесь обернулись свинскими вопросами сфинкса советской власти, которые он задавал через своих шакалов-ищеек жертвам, заранее знающим, что нет ответа, а есть гибель.
Алкаши, кажется, добрались до еврейского вопроса. "Я никому не дам, пусть кушает Абхам, попхавится на сохок килогхам", – хрипло кто-то подвывает из них, на него шикают; возня, пыхтение, – то ли дерутся, то ли меряются силами. Озабоченно-испуганно пробегает, кажется, начальник поезда. Заглядываю к Марусе: сидит, трясется мелкой дрожью, говорит: "Горе мое, надо же, в мой вагон, начальнички лагерные да шестерки их, помощнички сучьи".
– Откуда они?
– С какого совещания.
– Так, может, с горя пьют? Из-за постановления… О культе.
Маруся смотрит на меня испуганно-расширенными глазами, вдруг начинает судорожно смеяться:
– Ты что, чокнутый? Ну и пассажиры, скажу вам, ну и рейсик, одни чокнутые да контуженные.
Никогда, ни раньше, ни позже, в таком месте, набитом людьми, впритирку сидящими друг к другу, с такой остротой не ощущалось мной одиночество каждого.
Вот мужичок с хрустом ест лук, и сам, кажется, заключен в луковицу, в багровую, выедающую до слез кожуру одиночества.
Парочка, стесняясь, живет в любовном своем мире, который кажется блестящим и призрачным, как мыльный пузырь, готовый тут же лопнуть, стоит любому болвану открыть рот и дунуть на него в блаженной глупости пускающего пузыри.
Из чьей-то корзинки торчит бусиный глаз и семитски-кривой нос птицы-курицы, и в этом птичьем взгляде, мигающем и печально смирившемся с судьбой, – знание близкого своего конца, когда забьется жизнь перерезанным горлом, но, кажется, и пророчество близкого конца гибельному этому пространству.
Может именно эта повальная разобщенность дает особенно остро ощутить волчью спайку алкашей, облеченных властью, совсем уже распоясывающихся, стоит их ноздрям почувствовать среду дрожащих за свою шкуру, а если и прохваченных каким-то благородно протестующим порывом, то передающих его под полой, чтоб не вызвать подозрения?
После сложнейших отвлекающих маневров с прогуливанием по коридору, рассеянным поглядыванием в окна, нахожу какую-то весьма неустойчивую позицию, откуда можно подглядывать за начальничками-права-качальничками и их подручными.
Зеркала в купе между нижней и верхней полкой отражают странные формы их черепов, проступающие шарнирами костей в этом нескончаемом ритуале жевания и глотания сквозь запотевшую и нечистую их кожу.
Кадыки то и дело перекатываются ружейными затворами в их глотках.
Черепа, в основном, как бы двух типов: одни по-лошадиному скошены, с плоскими глазницами, другие – без подбородков, свиные ряхи с широкими тупыми костями в верхней части черепа и челюстями, способными перегрызть любое горло.
Уши прихлебателей-шестерок, вихляющих между ними, движутся от жевания как на шарнирах, словно живут отдельно.
Вседозволенность в сочетании с бескрайней глухоманью, сжимающей горло немотой, вытачивает эти лица, их сиплое рявканье вместо нормального человеческого разговора, когда редкие слова тонут в мате, гоготе, чавканьи, кукареканьи и гавканьи.
Зеркала бесстрастно и откровенно отражают скорее не фигуры их, а толстые слоновьи обрубки, нахрапистые, с носорожьими конечностями, способными тычком убить наповал, зеркала не допускают никакой дымки, никакого оптического волшебства, или таким зеркалом являюсь я сам с амальгамой, горячо вылившейся из тиглей масонов, занимавшихся алхимией. Но истинно сущность этих лиц могли бы раскрыть лишь сферические, подобно новогодним шарам, зеркала, превращающие их в кувшинные рыла власти, за которыми темное существование, растление, запой и забой человеческих жизней.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































