Текст книги "Оклик"
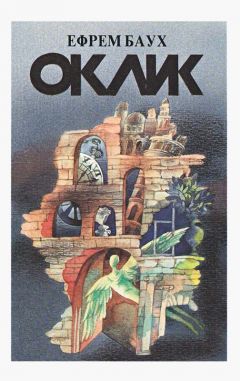
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 41 страниц)
Было время каникул, и огромные арочные кельи бывших послушниц пустовали, напоминая белизной застывших рядами постелей больницу или морг. Тем не менее из каких-то щелей набегали незнакомые девицы, главным образом, из стран народной демократии, все они были слегка под мухой и все курили; у каждого из нас появились подружки на час, куда-то уводили по коридору, по сторонам которого в темени жались парочки. Помню какую-то полячку Ренату, медичку Галю, в стельку пьяного румына Траяна, помню, как старался ускользнуть, а меня ловили; все же сумел сбежать, заскочить в одну из келий и, бросившись на койку, уснуть; но тут же проснулся в неясной тревоге: огромная келья пустынно-белыми рядами коек слабо светилась в лунном свете, проникающем сквозь арочные высокие окна, и ощущение было настолько похоже на те первые минуты в больничной палате после аварии с поездом, что показалось – в следующий миг опять потеряю сознание; внезапно как спасение ощутилась теплота рук медички Га-ли, обнимавшей мою шею полчаса назад, но ощущение это исчезло, как бы стертое неясной девичьей тенью, и в это мгновение передо мной отчетливо встали прозрачно-серые глаза.
В них не было укоризны, осуждения, они светились всепрощением и даже равнодушием, но я ощутил такой стыд, как будто они застали меня врасплох грязным и нагим, в последний момент пытающимся замести следы по чужим коридорам и кельям жизни.
Я пытался вспомнить черты лица, облик, чтобы как-по ночам исчезали, вероятно, выходя на "работу". Странно так сложилось, что на танцах в Доме культуры я познакомился с девицей по имени Роз ка, которая, оказывается, жила с родителями над оврагом: дом стоял в густых зарослях между крепостью и нашей школой. Не знаю, говорила ли она правду, что муж ее – лейтенант-танкист – на летних маневрах, но родилась она в этом же доме, была плотью от плоти Бужеровки, и так как для всей шпаны я был ее хахалем, то внезапно, сам того не желая, ощутил себя частью их мира, и ощущение было весьма странным; вдобавок я поранил себе ладони, отбивая образцы гранита от скалы, погруженной в Днестр у села Янкулово, обе руки у меня были перевязаны бинтами и это создало в их среде вокруг меня ореол чуть ли не мастера по мокрым делам; осторожность и даже некоторая боязливость при встрече с этими субчиками истолковывалась ими как признак невероятной сдержанной силы; ничего не подозревая, я гулял по заброшенным тропинкам, куда иные ступать боялись и при свете дня, и слева, перехлестывая тропу, ударялись в крепостные стены волны уголовного мира, а справа, с высот, клубились тонкими фресками высочайших культур органные сцены Последнего суда. Когда Розка однажды объяснила мне, каким видят меня ее односельчане, я был невероятно потрясен.
Между тем бужеровские бабоньки, как их называла Розка, пытались через меня завести знакомства с нашими ребятами, особенно с Ваней Михайловым, который был постарше нас, прошел армию, выглядел истинно русским мужиком-забиякой-раззудись-плечо; он, правда, недавно женился на Галке с биологического и потому вел себя пристойно, но хитрые бабенки чувствовали, что таится за этой пристойностью.
Розка болела в тот день. У одной из баб выставили на стол батарею бутылок. Я привел Ваню и еще кого-то. Заходили и выходили какие-то мужики, бабы, подростки. Впервые в жизни, махнув на все рукой, я выпил уйму водки, затем, уже не замечая, запивал вином. В какой-то момент понял, что едва стою на ногах, и надо скорее добираться до постели; но от нее отделял меня овраг, весь заросший, и в глубине этих зарослей была скрытая беседка, где мы и встречались с Розкой; черт понес меня туда; при полном сознании, но абсолютно не держась на ногах, я катился куда-то вниз, обрывая одежду об кусты и камни, карабкался вверх, свистел уголовным свистом, вызывая Розку на свидание.
Не помню, как очутился в нашем огромном классе, где мы спали на матрацах вдоль стены; Игнат да все остальные были удивлены, увидев меня в таком виде, но при полном сознании; я не мог пальцем пошевелить, а они весело надо мной измывались, катали по матрацам, садились верхом, я же мог лишь смеяться, пока не провалился в глубокий сон.
Утром все мы, побывавшие на гульбе, выползли как побитые собаки на берег Днестра, лежали на песке, слабые, с похмелья, слушая по репродуктору одно и то же: Хрущев с Эйзенхауэром без конца встречались где-то в Европе.
Розку я увидел только через несколько дней, в первый момент не поняв, что с ней произошло: лицо осунулось, шея перевязана бинтом. Оказывается, я был во всем виноват; она не жаловалась, ибо так, по ее мнению, и должны вести себя мужчины. Оказывается, упившийся и впавший в обычное свое буйство Ваня Михайлов увидел, что я куда-то ухожу, ринулся за мной, потерял из виду, куда-то падал, ударялся, полз, вдруг услышал мое имя, произносимое шепотом: это была Роз ка, услышавшая все же мои призывные сигналы. Как дикий зверь выскочил Ваня из кустов, схватил существо прекрасного пола, в избытке чувств укусил ее в шею. Она толкнула его так, что он упал то ли в яму, то ли в заброшенный неглубокий колодец.
Мне он и слова не сказал, быть может, ничего и не помнил.
Розке перепало от родителей за кровоподтек на шее.
Мы прощались.
Мне искренне было ее жаль: выросшая в беспощадной среде, она была по-настоящему добра и привязчива.
Последний день мы проводили занятия в Бекировом яру. На рассвете, когда солнце ослепительно било в меловые откосы, мы вошли в его устье.
Справа, в отвесном склоне, на высоте пятнадцатидвадцати метров, темнело арочное отверстие – вход в крипт отшельника.
По вырубленным в стене неглубоким насечкам для ног я поднялся в келью.
Была она невелика, но ослепительный от солнца вход сгущал темень внутри: в отличие от тех, замурованных, эта дверь вела прямо в небо, и стоит лишь шагнуть через порог, как понесут тебя огненные кони через огненный вход в огненное безмолвие.
Потом были военные сборы, пыльные Бельцы, ночные маневры на Широколановском полигоне под Николаевом, пропитанная потом военная форма, кирзовые сапоги, целая батарея которых чернела стволами в углу врытой в землю палатки, и, обалдело вскочив со сна по окрику старшины, все пихали, не глядя, ноги в эти стволы, и вечный козел отпущения Фишман с биологического вышел однажды в строй последним в двух сапогах с одной ноги; страдая хроническим недосыпом, мы спали как убитые прямо на шинелях, постланных на землю, а рядом с нами всю ночь била батарея, но, вероятно, самым сильным впечатлением этого года был крипт отшельника: под грохот пушек или в безмолвии все сны обрывались у двери, распахнутой прямо в бездну и мрак.
* * *
ДВЕРЬ: РЖАВЫЙ ПОВОРОТ НА ОСИ – В МРАК.
ДЕНЬ ВОЗМЕЗДИЯ? ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ? -
ПРОВАЛОМ В БЕЗДНУ НОЧИ.
ПОДНЯТИЕ ЗАВЕСЫ:…ЕЩЕ КОГО
НЕ ДОСЧИТАЛИСЬ ВЫ?
СТРАХ: ОКЛИКНУТЬ, НАКЛИКАТЬ БЕДУ.
ЖЕЛАНИЕ ЗАБЫТЬСЯ И НАДЕЖДА
НА ИЗМЕНЕНИЕ.
НОЧНОЕ КАФЕ: СЛЕПЯЩЕ-ЖЕЛТОЕ БЕЗУМИЕ.
ПЯДЬ ЗЕМЛИ.
ГУБЫ, РАСТВОРИВШИЕСЯ В ВЕЧНОСТИ.
БЛИЖЕ, ЧЕМ СОННАЯ ЖИЛА.
ОГНЕННАЯ БРЕШЬ.
СТИХИ, ЗАКАТЫВАЮЩИЕСЯ ПОД ЗАВЕСУ,
ГАСНУЩИЕ ВО ТЬМЕ.
СТОЛБЫ ВСЕЛЕННОЙ НАОЩУПЬ.
ПОД НЕБОМ С ОВЧИНКУ.
ЛАМПЫ, ЛАМПЫ: ЮНОСТИ, РАССТАВАНИЙ,
ПОБЕГА.
ТЕНЬ.
Сны обрывались, как обрывается сердце перед внезапно возникшей под ногами пропастью, при переходе из яркого света в полнейший мрак, при выходе из чревной тьмы в мучительный свет жизни, при внезапном, как удушье, ощущении, что ты в замкнутом каменном мешке и единственная дверь наружу заперта.
Дверь могла быть сшита из дерева, железа, выкована из меди с тончайшей чеканки сюжетами: ведущая во флорентийский баптистерий, в котором крестили Данте. В последние годы жизни, изгнанный из родного города, он более всего тосковал по этому месту.
Любая дверь поворачивалась на оси ржавым скрежетом, и прошлое, подобно осужденному на пожизненное заключение свернувшееся ничком и покрывающееся забвением в углу камеры, оживлялось, вдыхая принесенное поворотом двери веяние травяной сырости и йодистого настоя ночного моря, колышущегося у камней Птолемаис – Акры-Акко.
Железные двери Акко, ставшие музейными, в свое время не выпускавшие арестантов и безумцев и не впускавшие воров и грабителей, заброшенно дремали в ночи.
Но во мраке одиннадцатого часа, освещаемом луной, тщетно пытающейся выскользнуть из туч, мне, сидящему на берегу моря, мерещится лишь одна какая-то медная дверь, загадочно связанная с местом Птолемаис.
То ли не могу вспомнить, то ли хочу забыть?
Луна выпрастывается из туманных волокон: вдоль волн светится песок и на водах черное растекшееся пятно там, где скопление водорослей.
Луна заглатывается акульей пастью облака.
Великая чернота избыточно нарастает; допотопны огоньки в ее хаосе; в черноте этой море стоит бесконечной замершей громадой, лишь метрах в ста от берега воды начинают складываться этажами, глубокий и сильный гул распирает замерший мрак.
Вдруг во мгле – короткий белый прочерк пены, еще один, еще, и затем – в единый миг – соединение прочерков – в нить, а вслед за ней – еще одна: внезапно обнаруживаемый у самого берега нескончаемый десант волн, и ты один, и уже ничего предпринять нельзя.
Вот и завершился день среди однообразия недель и месяцев – перекошенный от груза воспоминаний, внезапно развернувшийся головокружительной воронкой, выпроставший из брюха времени в течение считанных часов от восхода до заката целую полость жизни двадцатисемилетней давности, перекошенный и отягощенный, как огромный оползень, начавший рушиться от слабого толчка, сбивая с ног и лишая дыхания, и толчком этим – Акко, "смутный город Птолемаида".
В черной смуте времен три этих слова, скрепленных с медной дверью, мгновенно обозначают некий обрывок замкнутого пространства, угла памяти, страницы текста, глухого провала.
Что это за день, разверзшийся, без дна. Как день солнцестояния. Поминовения мертвых. Непрекращающихся воспоминаний. Открытых дверей. Скрытых убийств. Смены времен. Начала войны и начала мира.
День беспрерывной жажды покоя.
Что это за день? Возмездия?
ОТПУЩЕНИЯ ГРЕХОВ?
Совсем недавно, первого октября, прошел этот день – безмолвный, без угарного рева и суетного снования автомашин – час человеческой душ и, предстоящей вечности.
Распахнуты входы синагог.
Тысячеголосое пение молитв докатывается, подобно порывам ветра, до всех небесных ворот.
Распахнуты ли и там двери?
На улицах – крики детей, несущихся взапуски, на велосипедах, роликах…
Приподнять завесу – и войти в ресторанный зал, в июне давнего шестьдесят восьмого: увидеть за длинным столом такие знакомые, примятые десятилетием лица, десятилетием после окончания университета, которое мы справляем в этот вечер в ресторане "Молдова"; собрались далеко не все: испуганной улыбкой подмигивает всем вконец спившийся Курылев; печеный цвет лица обрел Шнырь, страдающий печенью; совсем окосо-лапел Крак над своими моллюсками, пишет диссертацию по палеонтологии; состарившимся мальчиком ехидничает Корыто и по-прежнему, хихикая, дергается Дергач; порядочно облысевший, огрузневший Виктор Канский отягощен своим статусом то ли директора дома политпросвещения, то ли слушателя Высшей партийной школы; сижу рядом с Игнатом: оба изменили геологическому братству, я – совсем переметнулся в братию пишущую, Игнат – в киношную.
Головы лысоваты, анекдоты бородаты, голос дребезжащ; смеясь, вспоминают студенческие годы, а глаза печальны; салфетки и шутки сальны; единственно, о чем говорю Каниковскому: "У меня мама недавно умерла"; он морщится: то ли выражает скорбь, то ли ему неприятно это сообщение, то ли изжога от выпитого коньяка; Игнат прилежно выпивает и все подзуживает меня уйти.
Слепящий ресторанный свет шугает зачарованно подглядывающую в окна тьму нашей юности в подворотни.
Скука покрывает яства на столе пленкой остывшего жира. Говорю ли опять невпопад?..
Но многие ль и там из вас пируют?..
Кирьяков где-то в глуши Казахстана; Гуляковский ведет фотокружок в какой-то московской школе, женился, развелся; Тарнавский на Урале, говорят, женился на прокурорше, что вела против него дело: это на него похоже.
Еще кого не досчитались вы?
Кто изменил пленительной привычке?
Кого от вас увлек холодный свет?
Чей глас умолк на братской перекличке?
Кто не пришел? Кого меж нами нет?..
Оживление за столом:
– Твои стихи? К вечеру написал?
– Пушкин их написал.
– Чуть что – Пушкин.
(В единый миг переношусь из 68 в 86 – опять число переворачивается в памяти, вспыхнув, как тогда, за миг до потери сознания, за шаг до огненного входа – пишу эти строки, отчетливо видя и чувствуя, как Игнат сидит рядом со мной – за ресторанным столом, думаю, как странно повторила Ахматова пушкинскую рифму—
Когда я называю по привычке
Моих друзей заветных имена,
Всегда на этой странной перекличке
Мне отвечает только тишина.)
Приподнять завесу – и выйти из давнего ресторана за тридевять земель, идти вверх по улице Пушкина с Игнатом, а, минуя университет, уже и без него, со справкой в кармане о том, что сдал диплом в университетский архив, идти по глухой Кузнечной мимо совсем вросшего в землю домика бывшего радиокомитета, слыша донесшийся через десятилетие звон разбитой об эту стену бутылки и ощущая, как идешь по пепелищу своей юности.
Приподнять завесу – и шагнуть прямо с этого пепелища в черноту ночи Птолемаис, ощутить благодатную мощь бескрайнего моря и, взглянув при выплывшей из туч луне в облачный просвет, подумать о том, что в общем-то и сдвига времени не произошло, – только звезды чуть сместились.
Кто-то неподалеку развел костер на берегу, и пламя в полной тьме кажется огненной брешью сквозь пространства и годы, а при свете луны – пламенем светильника, одного из семи, стоящих по углам, быть может, совсем рядом скрытой за древними стенами подземной залы, семи светильников, мгновенно скрепляемых с медной дверью и черными завесами.
Небывалый день скользнул в ночь, в ее слабую прохладу, полную тревожных предчувствий, с луной, возникающей из облаков и тщетно пытающейся втереться среди висячих ламп кафе в старом Акко. Оно залито снаружи ослепительно желтым светом ван-гоговского безумья и его притаившейся во тьме и жадно взирающей на этот свет бездомностью и нищетой: именно этот лихорадочный взор вносит в уютный, почта домашний угол ощущение конца света, надвигающегося ослепительными бело-желтыми взрывами ван-гоговских звезд над навесом кафе.
На заливающей ноги яичной желтизной веранде – алебастровые лужицы пластиковых столиков, серые, кажущиеся опустошенными на ярком свету во тьме лица редких в этот час посетителей.
Пора возвращаться в военный лагерь, а спутники мои все еще не вернулись от знакомых.
Километрах в ста южнее по этому ночному берегу, среди погруженных в сон домов Бат-Яма вместе с луной в облаках, недвижимыми звездами и неощутимо вращающейся в бездне земной необъятностью безлюдно бодрствует пядь земли, полусквер-полукорт, куда часто выхожу прогуляться в поздний час, и мгновенно со взглядом на луну возникает мысль об Игнате, и так всегда будет на этом пятачке в лунную ночь; а неподалеку от пятачка, в стенах, ставших частью моего существования, спят в этот час дорогие мне существа, те, которые до того вплотную, до того слиты со мной, что не поддаются упоминанию, ибо горячее и ближе собственной моей сонной жилы, не поддаются слову, ибо для того, чтобы одолеть словом, необходимо набрать и выдохнуть воздух, а это короче вздоха.
И лунный дым клубится над юношеским лбом сына, очередной ночной стражей приближая его к труднейшему испытанию жизни.
А с юга на север, вытянувшись своим узким и напряженным телом, Израиль принимает на себя всю давящую мощь великих средиземноморских вод и неизмеримую печаль всех покинувших тела человеческих душ, беспрерывно восходящих морем по Саронской долине к Иерусалиму.
Тяжек длящийся через ночи гул их движения: они идут, и идут, и у всех – непредъявленный счет на растворившихся в вечности губах.
Бывает ночь, когда открываются мельчайшие лабиринты слуха, приклоненного к миру.
Бывает ночь, за мерцающим порогом которой особенно ощутимо вставшее в собачью стойку завтра, с нетерпением ожидающее мига, чтобы ворваться в твою жизнь, все грызя и вынюхивая, пустыми заботами, беспричинными тревогами, тяжестью лет и страхом перед гулом набегающего за спиной темного неизъяснимого времени.
В настороженно вслушивающуюся в тысячелетия ночь на земле Птолемаис, где под единым, сжатым с овчинку небом сбились стадом – Тир, Сид он, Пальмира и Бааль-бек (в землях Ливана и Сирии), – в этот северо-восточный изгиб, дугу, бездонный затон Средиземноморья, в складывающихся этажами волнах времени скапливаются все самые мерзкие и самые высокие тайны человеческого существования, реют в воздухе удушьем, неистребимостью и немилосердностью памяти, беспрерывно истязая мыслью, что все могло быть иначе, человечнее, насыщенней высоким светом, а не напоминать лишь волнолом, костолом, надлом.
Быть может, в каждом существе скрывается некто, мерцающий мощью, восходящей от ворот Газы и Ашкелона, имя которому наречено – Самсон; природа его заблаговременно ослепила очевидностями, пытаясь наперед оградить себя от бунтарства духа, жаждущего неограниченной свободы, и каждый – пусть смутно – ощущает в духе ту силу, что таилась в волосах у Самсона, и наощупь в храме жизни ищет столбы, на которых держится этот храм, чтобы ощутить воочию его конструкцию и бренность, нащупать столбы Вселенной пусть даже ценой собственной гибели?
Можно ли сбежать от вездесущего гула волн внутри кафе, где гул этот обращается в тень, изо всех сил выметаемую ярким сиянием ламп всевозможных форм. Подобны причудливо-слепым нетопырям, осколкам метеоритов с гибельного созвездия, сожженного в печах ночей. Подобны ослепительным гроздьям барокко, свисающим со стен и потолка, – пытаются они этим великолепием нелепости загнать во тьму боль и печаль.
Я вижу собственное лицо, лица друзей, близких, знакомых, разбросанных в пространстве и унесенных временем, – я вижу их в свете – ламп юности, сценических рамп, допросов, мимолетных встреч и расставаний на жизнь, я вижу их отражения в мутном зеркале пластикового стола, на месте которого, быть может, тысячу сто восемьдесят пять лет назад стоял круглый сверкающий поверхностью эбеновый стол, увиденный взором гениального безумца Эдгара По и закрепленный им всего на одной страничке в параболе "Тень".
Я вижу лица.
Желание забыться и надежда на изменение состарили нас.
Глухой давней ночью при свете слабого ночника в забывшихся долгим сном скифских землях прожгла меня строка Эдгара По жаждой побывать в таинственной земле Птолемаис.
Темен ритм и холодно дыхание этой строки, написанной за сто лет до моего рождения:
"Над бутылями красного хиосского вина, окруженные стенами роскошного зала, в смутном городе Птолемаиде, сидели мы ночью, всемером".
Пусть вместо семи светильников пылают семь ламп. Пусть черные завесы заменены бордовыми. Пусть медная дверь лишь мерещится.
Но Тень неистребима.
И в эту ночь – над погребенными в яме тысячелетий – один над другим (снежный буран, в отверстой могиле отца ледяные очертания гроба захороненного раньше)
– Птолемаис, Акрой, Акко, которые обернулись подо мной плитами пола в кафе, среди ничего не подозревающих посетителей, слышу гулко усиленный заваленными и откопанными подземельями – голос Тени, ответствующий греку Ойносу словами, опалившими память в ту давнюю скифскую ночь:
"Я Тень, и обиталище мое вблизи от птолемандскнх катакомб, рядом со смутными равнинами Элизиума, сопредельными мерзостному Харонову проливу".
В далеком Ричмонде, в ином полушарии, лунатическому наитию гения открывается в этом мистическом углу-за-тридевять-средиземноморья, между Элладой, Сидоном и Птолемаис, как над глубочай шей впадиной Тускарро-рой, – пронизывающий атмосферу взрыв голосов многих тысяч ушедших друзей, родных и близких, вечно действующий вулкан в равнинах Элизиума.
Всего лишь восходящая долина ведет от этих равнин к месту Суда в Иерусалиме.
Здесь ли замереть, застигнутому окликом отца, матери, бабушки, близких и друзей, ушедших в те равнины? Движутся тени: тяжек в ночи гул их движения, и у всех – непредъявленный счет на растворившихся в вечности губах.
Книга вторая Возвращение в Эцион-Гевер
Дорожные записи путешествий в некоторые отдаленные места света – в реальности и в духе, в вечности и во сне – ученика воды проточной, подмастерья, отлученного от «ордена свободных каменщиков»

Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































