Текст книги "Оклик"
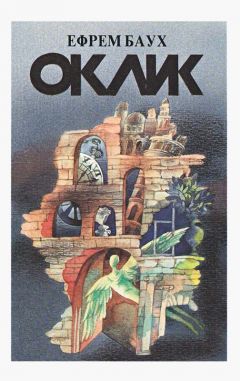
Автор книги: Эфраим Баух
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 41 страниц)
На другой стороне улицы стоит Миша, который на балет не пошел, а, как истый работяга, сразу после нашего возвращения начал маркировать и паковать образцы. Это дело нам предстоит вдвоем продолжить завтра. Стоит Миша с тремя девицами, с которыми знаком по прошлому приезду в Слюдянку год назад. Знакомимся: Галюня, Манюня и Маша. Провожают нас до окраины, приглашают на танцы, которые завтра в клубе.
Поздняя глухая ночь.
В плотной слежалой тишине кажется реакцией на глухую жуть, рядящуюся в мировое безмолвие, чей-то дальний хохот, дурацкий, тяжелый, переходящий в конвульсивный кашель, всхлипывания.
Кажется, вся жутковатая сущность жизни этой человеческой горстки, лепящейся прахом у подножий уходящих в поднебесье гор, внезапно вскрывается в этом хохоте-кашле.
Миша тоже смеется, так что бархатные его глаза увлажняются, а губы по-овечьи безвольно подрагивают: в прошлый сезон был у него коллектором тоже студент, москвич Женя, с Галюней "крутил любовь", вместе кедровые орешки в тайге собирали: он, значит, ударит палкой по стволу кедра и нагнется так, что почти голова между ногами, прячется от сыплющихся сверху орехов, а она собирает; а когда на вокзале прощались, Женя ее утешал, Галюня плакала вот такими горючими слезами. Миша, тихо захлебываясь смехом, показывает величину этих слез: с палец. А вообще девки эти опасные, говорит Миша, везде ходят троицей; какой-то парень что-то про них не то сказал, втихую избили, попал в больницу. Галюня и Манюня чем-то схожи: обе брюнетки, с утиными носами, обе худосочные с оливковой рано состарившейся кожей и длинными унылыми косами; у Маши волосы светлые, серые глаза, тело ленивое, расположено к полноте.
На следующий вечер Миша попеременно танцует то с Галюней, то с Манюней, а я, очевидно, как новенький, да помоложе, да волосом посветлее – с Машей. Приглашают к концу недели, когда вернемся с гор, на пикник. И странно звучит в их устах это английское слово. Миша заблаговременно отказывается и приглашение как бы повисает в воздухе. Все парни на танцах пьяные, заторможенные, не агрессивные. По дороге домой натыкаемся то и дело в темноте на свернувшегося калачиком, как в утробе, спящего на земле пьяного: все они чудятся зародышами, так и замершими у входа в жизнь.
Всю неделю мы описываем обнажения и собираем образцы во взрывной зоне. Только слышим завывание ручной сирены, прячемся за стволы со стороны, противоположной звуку. Менее опасно, если звук близок: это означает, что и взрыв будет недалеко, камни перелетят через наши головы; если же звук слаб, взрыв далек, осколки через шесть-восемь секунд начинают падать вокруг нас, вжимаешься в ствол: одна мысль, как бы рикошетом от соседнего ствола не ударило. В прошлом году и в другом районе Сибири так погиб наш геолог, на курс старше, Юра Гачкевич: малый камешек ударил в темя; правда работал он в самой зоне взрыва и не надел предусмотренную для этих зон каску.
Бывают неожиданности, и весьма неприятные, Иногда мы с Мишей разделяемся на несколько часов, чтобы затем встретиться в определенной, отмеченной на карте точке. Сижу на небольшой поляне, посреди которой брошенный бульдозер, жую консервы, запиваю из фляги да поглядываю на верхушки кедров, гребущие по днищам облаков; слышу слабый хлопок: так обычно выстреливает капсюль. Настораживаюсь: дело в том, что бикфордов шнур горит две минуты, после первой раздается хлопок и это означает, что до взрыва осталась минута. Вдруг из чащи со зверским лицом выскакивает подрывник:
– Ховайся!
Раньше, чем срабатывает мысль, я уже под бульдозером. Взрыв. Град камней обрушивается на бульдозер. Оказывается, ручная сирена у него испортилась, у подрывничка.
Другой раз идем с Мишей по краю почти отвесного обрыва высотой этак метров в триста, внизу копошатся люди, и вдруг под нами, кажется, прямо под нашими ногами оглушительной силы взрыв: синий выхлоп дыма показывается у подножья обрыва, осколки летят не выше пятидесяти метров, но грохот по отвесной стене распространяется мгновенно, закладывает уши; я не успеваю и глазом моргнуть, а Миши рядом нет как нет; оглядываюсь, а он, вероятно, быстрее звука метнулся к дереву, змеем вжался под его обнажившиеся корни. Еще секунда, и оглушительный хохот раздается над нами; поднимаю голову: в пяти-шести метрах выше нас на бревнышке сидят, дрыгают ногами, заходятся в хохоте буровики, а рядом с ними – буровая вышка. Они-то видели, как Миша зайцем стрельнул под корни дерева. Они помирают от смеха:
– Ну и шустряк. Душу-то свою обогнал? Она еще пяток не достигла, а он уже под кустом, ха-ха…
Миша смущенно подхихикивает, а я, оглушенный как рыба, все встряхиваю головой.
Замотанные, нагруженные образцами, как ослы, злее собак, возвращаемся к концу недели, даже не умываемся, заваливаемся спать в нормальную постель.
На рассвете стук в окошко. Выглядываю: вся троица, Галюня, Манюня и Маша. Открываю окно:
– Чего вам?
– Пикник.
– Чего? А где все остальные?
Смеются:
– Давай, давай, соня, нечего разлеживаться.
Миша не подает признаков жизни, спит, как сурок. Моюсь, то ли фыркаю, то ли чертыхаюсь, привожу себя в порядок.
Уже по тропинке в лес понимаю, что весь-то пикник – трое девок и я. День обещает быть солнечным, а у девок – заветная поляна, тихая, в чистой просквоженной солнцем зелени да мягких чуть влажноватых травах, как прибранная горница, где-то шумит вода, бегущая из родника; раскладывают девки снедь на подстилке: пироги из брусники да черемухи, свежий омуль и омуль с "душком", свинчивают с термоса крышку со стаканчиками, в термосе не чай, а – водка или спирт разведенный.
Выпиваем, закусываем.
Печально и сладко становится на душе.
– Слушай, слушай…
Птицы, до сих пор молчавшие, вдруг сразу и со всех сторон распелись и рассвистались.
– Чего это они?
– Так ить только проснулись. Перья чистят да солнце приветствуют. Его же давно не было, солнышка-то.
Лежишь на траве, подремываешь.
Девки втроем обнялись, поют: и ничто в полюшке не колышется, и бежал бродяга с Сахалина, и славное море священный Байкал; в три голоса поют, сильно и чуть со слезой; даже птицы притихли; а Миша, дурень, наверно еще спит.
А песни такие протяжные и тягучие, как и эти пространства, которых вокруг – гибель.
А много ль человеку надо?
Ходим по лесу, орешки да цветы лесные собираем; Галюня и Манюня деликатно удалились в чащу, а мы с Машей: от нее пахнет сеном и молоком, кожа у нее гладкая и горячая.
Девки втроем плетут венки, а я валяюсь рядом в идиотском каком-то блаженстве.
Время течет незаметно и негромко, как затаенный родник неподалеку в опавшей листве и хвое.
В часу четвертом расстаемся у околицы поселка. Солнце клонится к байкальским водам. В доме Миши нет: шляется где-то.
Давно мне приглянулась тут неподалеку одна сопка – мягки и печальны ее очертания: беру "Фауста", подымаюсь по тропе. На вершине ее солнце, кажется, вровень со мной, внизу горсткой разбросанных игрушечных кубиков раскатилась Слюдянка, поблескивая словно бы битым стеклом оконцев.
Сижу на замшелом камне, одиноко уткнувшемся в буровато-зеленый мох, опять открываю книгу на описании магендавида, знака макрокосма, печати ли, ключа Соломона к тайнам мира: до чего странны, – как слишком примитивные отмычки к гибельным тайнам этих пространств, в которых можно затеряться иголкой в сене, – эти знаки европейской схоластики и мистицизма.
Удивительный по яркости красок и холоду пламени неверный свет разлит над сопками, долинами, байкальскими водами, скорее даже не свет, а неслышимый вечерний звон, смесь лютни и меди, льющихся с высот, и в этом призрачном, захватывающем дух водопаде печально и отрешенно стоят горы, деревья, домики, лодки, зачарованно прикованные взглядом к медленному малиновому закату.
Уже на спуске замечаю невероятное смятение в поселке, люди бегут, несутся на машинах и мотоциклах как на пожар, и все это катится к Байкалу, вдоль него, на запад и все это кричит-перекликается и суетится.
Что случилось? Убило кого-то? Утонул кто? Поезд с рельс сошел?
– Да ты что, сказился? Не знаешь, что ли?
– Что?
– В Култуке перцовку продают.
Перцовка в этих краях вроде французского коньяка, а за ней уже идет смородинная и облепиховая, которые еще достать можно, хотя тоже с трудом. Никакое иное происшествие, будь то авария на руднике, железной дороге, не могут вызвать такого аврала, как известие о появлении деликатесных спиртных напитков. Шахтеры и шоферы, забойщики и крепильщики, подрывники и бульдозеристы, а особенно самосвальщики-самохвальщики пьют спирт, тройной одеколон, тормозную жидкость, даже зубную пасту разводят: она же на спирту.
Пьяного шофера всаживают в кабину грузовика или самосвала, и он довольно сносно вертит баранку, гонит вразнос машину по диким, таежным, полным проступающих корней дорогам; добравшись до конечного пункта, тормозит на полном ходу, кто-то снаружи отпирает дверцу, шофер вываливается наружу и тут же, свернувшись, как в утробе, на земле, спит. Не зная этого, я как-то воспользовался такой попутной от Перевала до Слюдянки: уже сидя в кузове, взлетающем до облаков, я понял, во что влип, да было поздно, меня швыряло от борта к борту, и любой предмет, включая мой собственный рюкзак, набитый образцами, ежесекундно угрожал моей жизни, ветки черемушника хлестали по лицу, но когда я увидел вывалившегося после остановки шофера из кабины, щетина рыжей моей бороды заледенела: лицо шофера было из сизого воска с черным румянцем на скулах, словно вся внутренняя гниль проступала в этом румянце. Только в этот миг я вспомнил странные усмешечки рабочих на Перевале, когда я взбирался в кузов.
Поселковая закусочная, в которую мы с Мишей изредка заглядывали из любопытства, скорее походила на цирк алкоголиков, номера были весьма разнообразны: один, без рук, зубами брал поллитровку за горлышко, поднимал ее в воздух, и так, без единого вдоха и выдоха, выливал содержимое в горло; другой, огромный детина с голосом дьякона, возникал в закусочной, как на арене, требовал два стакана водки или спирта, выпивал их на одном духу, к шумному восхищению неосведомленных зрителей, ибо осведомленные знали: один стакан с водой; третий, совершая почти священнические действия, крошил в большую глиняную миску буханку хлеба, заливал бутылкой водки и медленно, со вкусом, как щи, выхлебывал это ложкой.
Иногда казалось, что противостоять этим удушающим своей бескрайностью пространствам, умопомрачительным горным высотам и провалам, ледяным и прозрачным, растворяющимся вдаль в какое-то призрачное беспамятство водам Байкала, убогой жизни, не то, что бы забывшей, а никогда в течение нескольких поколений и не знавшей, что это – внутренняя свобода, – может одна лишь эта пьяная фантасмагория.
Слово "свобода" ассоциировалась у них, местных жителей с огромным, под стать этим местам, тюремным лагерем Выдрино, находящимся от Слюдянки сравнительно недалеко по сибирским понятиям, с лагерем, куда, вероятно, еще с радищевских времен ссылали политических да уголовных. Даже пьяные рассказывали о Выдрино шопотом.
Мы уходили в тайгу прямо из ворот нашего дома, стоящего у самых гор, но однажды надо было нам пройти через поселок, и я увидел на одной из строек, обнесенных забором колючей проволоки, заключенных: они стояли на стенах, сняв шапки, какие-то почерневшие от печали, и у некоторых были слезы на глазах. Я сначала не понял, в чем дело, но тут увидел на другой стороне улицы наряженных малышей со школьными ранцами, гуськом идущих в школу. Заключенные не отрывали от них глаз. Так я узнал, что наступило первое сентября (а ведь время от времени возвращаясь домой, мы волей-неволей слушали радио, которое старики вообще не выключали, но ухо, привыкшее к одичалой таежной жизни, не воспринимало бубнение суконных текстов, разве лишь музыку и, главным образом, классическую). Даже при виде малышей где-то, по краю сознания, скользнуло, что вот, уже почти два месяца я топаю по Южным Саянам, почти не снимая кирзовых сапог, так, что в редкие выходные, надев туфли, как никогда раньше ощущаю легкость и летучесть своего тела.
Местные же этой легкости достигали питием, не только легкости тела, могущего упасть в любом углу, скатиться под откос и в редком случае получить увечия, но и легкости общения, полной раскованности в языке, когда мужики, а еще более бабы, матерились, но не злобно, а даже ласково. Своего узнавали сразу, но и к чужаку относились с пьяным добродушием, если он только свою чуждость не выдавал за преимущество. Никогда, насколько я помню, не поднимали пьяного, если он валялся по дороге, будь это днем или ночью, когда даже в эти месяцы подмараживало: "Пускай, касатик, проспится". Но также не слышал о случаях, чтоб кто-то простуживался.
Подростки начинали пить рано, и этот порочный круг какой-то уж слишком иллюзорной жизни, насквозь изнутри прогнившей, лихорадочно-веселой и все время задыхающейся, привычно и неотвратимо охватывал большую часть местных жителей.
Драк, поножовщины не помню: по-моему, на это просто не хватало сил. Можно сказать, все социологические проблемы в этих дебрях решались питием: преодоление беспомощности и неволи, ставшей второй натурой, замещение духовных потребностей алкогольной эйфорией, равнодушие, ставшее адаптацией к любым авариям, катастрофам, гибели; восприятие реальных жизненных ценностей только под хмельком.
В подпитии личность формировалась, самовоспитывалась, демонстрировала открытость натуры и общительность, не ощущая столь жестко спускаемых свыше режиссерами социальных повседневных ролей, которые почти круглые сутки бубнились по радио и в газетах, доходящих до почты на околице Слюдянки с большим опозданием и уже как бы вчерашних и ни к чему не обязывающих.
Истинное потрясение, вплоть до неповиновения властям, могло вызвать лишь прекращение завоза спиртного. Из уст в уста передавалась легенда, как на каких-то рудниках новый начальник запретил привозить спиртное, рудокопы забастовали: начальника тут же сняли и завезли вагон с перцовкой. Последнее, по мнению иных, даже превышало все возможности легенды.
Знакомство с рудокопами вызвало у меня еще одно потрясение.
Возвращаемся после нескольких дней полного одичания, выходим из тайги к железнодорожному полотну, следим за поездом, проносящимся мимолетным видением иной жизни, вероятно, как звери, поблескивающие глазами в дебрях.
Вечером иду на танцы. Все в сборе: Галюня, Манюня и Маша. Но чувствую какое-то напряжение. Вижу – в углу, затертая другими, стоит девица по имени Галка (в свое время троица поведала мне обо всех, прибавив, что Галка эта – еврейка): черная, востроносая, и вправду смахивающая на галку, она изредка бросает на меня пугливые взгляды и отворачивается. Приглашаю ее на танец. Подходит ко мне незнакомый парень, вызывает на улицу. За углом стоит здоровый детина.
– Слушай, паря, – обращается он ко мне, – ты с Машкой это… всерьез?
– Да нет.
– Ну тогда дело иное. Вишь ли, я жениться на ней думаю. Потому и спрашиваю, – голос у него дружелюбен и неожиданно тонок для такого детины.
– Ну так будь спокоен, – говорю.
– По такому поводу не грех бы и принять, как думаешь? За знакомство?
Отказаться невозможно.
– Ты и Машу возьмешь? – спрашиваю.
– Да ну ее, сучку. Теперь пусть погодит. Некуда ей деться.
Так мы оказываемся с ним и его двумя дружками в закусочной.
Они, оказывается, далеко не так просты, эти подземные люди, уходящие каждый день в недра через зев той штольни, мимо которой мы уходим в тайгу, а у зева этого всегда стынет вагонетка рыжей овечкой, не желающей идти на закланье подземным богам, и замершей на миг до того, как быть проглоченной. Однажды я подошел к этому зеву, заглянул, и пахнуло на меня дыханьем отверстой могилы.
И все выходящие из этого зева после смены с землистыми, запорошенными пылью и слюдой лицами кажутся заживо погребенными, которым опять на этот раз удалось раскопаться и вырваться к солнцу или звездам, к чистому хвойному воздуху.
Ребята, кажется, и не пьют, а промывают желудок и легкие от слюдяной пыли и пороши и рассказывают байки о подземных буднях в царстве Аида, где надо уметь определять, а скорее ощущать расстояние по огню лампы: новичку вот кажется, что огонек в самом что ни на есть центре земли, а он совсем и до того рядом, что новичок ненароком эту лампу и разбить может, торопясь к тому огоньку. Определять же расстояние по голосу или стуку это целое искусство, тем более заложить взрывчатку в шпуры, поджечь бикфордов шнур и так затаиться, чтоб тебя не достало. Все на нервах. Вот почему только со смены выйдешь, норовишь до белой горячки допиться. Тот, которого хоронили недавно, их друг: мастер был своего дела, а вот же, достало. Потому вот и шутки у них такие: кошмаром белой горячки успокаиваюсь от кошмаров черной тьмы в брюхе земли, и невозможно к ней, этой тьме, привыкнуть, и каждый раз, выходя оттуда, так остро чувствуешь, глядя на горы, небо, речку Слюдянку, кусты черемухи и брусники, на кедры и лиственницы, как у тебя отнимают жизнь.
Деньги они зашибают большие, на два месяца укатывают на юг, в Сочи да Гагры, а, возвращаясь, с последних станций телеграфируют вынести к поезду деньги, ибо задолжали всем и всякому.
– Так, брат, – говорит будущий жених Маши, выпивая со мной на посошок, – рудокоп хорошо понимает слепого, тож ведь живет на ощупь.
И как продолжение этого разговора на другой день является к нашим хозяевам слепой дед Матвий.
День начинается с того, что Алексей Палыч отправляется купить курам корм, которого не оказывается.
– Гляжу, – говорит Марья Ивановна, – вернулся значит, без корма, никуды из дому не выходить, а все веселее и веселее становится. Чтой-то, думаю, неладное. Поглядела, а он, как тать в ночи, гляжу, крадется в огород, лапками, значит, как кура, разгреб куст картошки, оглядел си, и так быстряком оттедова – бутылку, и к горлу, буль-буль, и опять туды, под кустик. Ах ты, думаю, лапоть старый, корму, говоришь, не было. Ну, ну. Вот и отобрала бутылку-то.
Старик стоит рядом, смущенно, как нашкодивший мальчишка, улыбается.
– Гляди-тко, кто к нам в гости, – говорит Марья Ивановна, – Божий старец, Владыко, прости нас и помилуй, дед Матвий… Заходите, гость дорогой.
Невысокий старик в обычной кепке, пиджачке явно с чужого плеча да с рюкзачком прямо, как леший, вывернулся из-за таежного поворота. И борода у него не вызывающих подозрений размеров, и движется бойко, опираясь на суковатую палку, и не подумаешь, что слепец. Лишь вблизи увидишь закрытые веки, подумаешь, лунатик, спит на ходу, в грезы ли погружен, глаза на минуту закрыл.
Странничек-то уж слишком современный: и эти, выходит, мимикрируют.
Только вот несуетность, глубинная, а не заемная, выдает породу.
Марья Ивановна вся в хлопотах: чего бы повкуснее старцу на стол поставить.
Алексей Палыч все беседу норовит наладить:
– Издалеку ныне, Матвиич?
– Гомонов двадцать, почитай.
– Читай с Читы, что ли, Господи помилуй?
– Бога побойся, Палыч. Намного помене.
– Каких это гомонов? – осторожно, хриплым голосом спрашиваю я.
– Каких, каких. Птичьих, ежу понятно, – Алексея Палыча сердит мое непонимание.
Осеняет: ну, конечно же, он все время во тьме живет, ему разделение времени на день и ночь просто ни к чему, а птицы гомонят каждое утро после сна, даже в морось, вот и его календарь: с утра до утра; воистину ощущение, что в гиблых и бескрайних этих пространствах лучший способ ориентироваться – вслепую: двигаться наощупь, на запах, на звук сквозь вечную штольню, называемую жизнью. Таких странников последний раз я видел еще в годы войны в селе Некрасове под Саратовым: их выбрасывала и опять поглощала степь, дорога, дали, и всегда, в самый страшный голод, им находилась корка хлеба и кружка воды.
Этому старцу, по силе, исходящей от него, надлежало быть генералом слепцов: ухитриться быть на свободе, не попасть в какой-либо дом стариков и калек, где их губит смесь поспешных удобств со скрытой жестокостью прислужников.
Я не отрывал от него взгляда, и он чуял это. И он казался мне затаившимся в слепоте образом зрячей, загнанной во тьму России.
По словам Алексея Палыча, являлся он всегда неожиданно и чаще всего ночью: очевидно запах и шорох людей предостерегал его от приближения к селам, а ослабление запахов и звуков говорило о том, что путь свободен.
Чем больше я приглядывался к нему, тем более напоминал он мне Конфуция неуловимым очертанием черепа и бородки. Мне представлялась жизнь во тьме, где все сохранилось, не истерлось на свету, где у всего иные ценности, где все мировые перевороты ощущаются только на слух да на гарь, да по количеству каторжан, которых лет двадцать назад, в тридцатые, нахлынуло слышимо-неслышимо.
Он казался без возраста. И все же очень стар.
Вводила в заблуждение легкость его движений и неутомимость в странничестве.
Ему ли было бояться мрака, если он в нем всю жизнь прожил. Не звезды, а ночные звуки были ему ориентирами, а запаха толпы он не терпел, и это его спасало от столкновения с нею.
И потому, чуя мой взгляд, Конфуций выглядел несколько сконфуженным:
– Тут у вас, Палыч, молодым духом… Люди новые? Бедовые?
– Да нет, Матвиич, люди хорошие, совестливые. Геолухи.
– Все мы олухи под Богом-то. Взрыватели, что ли? С Перевалу?
– Нет, – говорю, – мы из Москвы. Камни собираем, чтобы знать как горы здесь устроены.
– Золотишко ищете? Не там ищете-то. А камень трогать нельзя. Его чуть тронь, и пойдет весь край тратиться. Конец-то света с малого камешка и травинки начинается.
– Вроде бы наоборот, – говорю я, – свету хотят увеличить: гидроэлектростанцию и море новое для этого строят.
– На кой хрен елестрикчества столь, – вмешивается Алексей Палыч, – чтоб всем до лампочки, что ли. Аль конец света лучше видеть, чтоб страшнее помирать было. На свету таком, что ли?
Старец молчит.
– Ты скажи, Матвиич, человек святый, когда-жать он, конец света? – не унимается Алексей Палыч.
– Думаешь, Палыч, враз. И все рушится. Это давно все идеть. Мне еще мой прадед, царствие ему небесное, пальцы его холодные до сих пор на веках своих чую. Он их к векам-то моим приложить и шепчить про свово деда ли прадеда, а тот, говорит, спал-не спал, а все ему горящие деревенки виделись при Батые. Все живое палили. Я как взрыв слышу, под веками кони огневые, Батыевы, все пожрут да потопчут, окаянные. Да все по гробам, по гробам. Новое море, говоришь? Вода она и добрая и злая, быть может, еще с потопу великого. Будет он вскоре, будет. Гроба со дна поднимать, поплывут баркасами. Все, что Богом тыщу лет дозволено и благословлено, из земли выкорчуется и поплыветь. Греху-то, греху невпроворот накопилось. Скиты-то все в разоре. Бог их к себе прибрал, старцев-то Божьих, чтоб конец света видели с царствия небесного со святыми одесную и ангелами ошшую. Инда идешь от гомону до гомону… ни души. Тайга края нет, а живого росту не услышишь, тольки тут рубють, там пилють, там взрывають. Мураши, а всепременно столбы, на которых мир Божий держится, подроють, воды сладкие, Богом данные, отравить да в буйные обернут.
– А время в темени узнать можно? – спрашиваю я ни к селу, ни к городу.
– Темень она в глубях земли. В людях. Да что, время. Михаила-то помнишь, Палыч, одно время вместе странничали. Шахтером был. А как завалило да спасся, Богу слово дал – не искушать земную несыть, в Божьи люди подался, да и странничества не вынес, помер по дороге, я его в распадке зарыл, все не остывал, холод могильный принимать не хотел. Он и сказывал: всю свою жизнь сызнова пережил, когда завалило. Поначалу время, говорит, как тыща лет, все тянется и тянется, а потом в обратную, как тыща лет в един день. В книге-то святой сказано: день один.
– Слышь, Матвиич, а правда это, что в Выдрино острожные взбунтовались?
– Не знаю. Остерегался ныне. Через сколь деревенек прошел. Ни души. Мертвечиной пахнет. Неприб-ранные лежать. Да от острога-то далече дух смертный. Выпускають, грят, многих, да они уже как дохлые. Ох, беда, беда. Хворь на человечину напала: спять много. Думають, беду заспать можно. Да ее не заспать можно, а проспать. Вон, поди, лет сорок не в пустыне синайской бродють, а проспали. Все проспали. Всю кручину да всю боль о Боге проспали. Всю мысль о нем проспала-то Рассея-матушка. Да и убивали друг друга, миллионы, почитай, я-то знаю, в краях этих такое на ощупь дается. Убивали-то как спросонья, как без ума, как вполглаза. Вот беда-то где она.
Таковы люди в этих краях: гор и ночи не боятся, только людей.
Человек человеку волк.
Здесь это явно оскорбление бедному волку вкупе с медведем, сбежавшим из взрывной зоны вглубь тайги; старик уже седьмой десяток странничает, и ни один зверь его не тронул, только людей он обходит.
Уже стемнело. Жаль со старцем расставаться, но на сопке, с которой я видел тот незабываемый малиновый закат, ждет меня Галка: гор не боится, а увидит троицу – Галю ню, Маню ню и Машу, со страху помирает.
Сидим на том камне, уткнувшемся навечно в мох. Она и меня боится, все отодвигается, а пуще всего не хочет быть еврейкой.
Ну почему? Разве тебя кто-то трогает?
– Это клеймо. Позорное.
– Но я же тоже еврей?
– Никто этого не знает. И не похож ты. И вообще, ты с Москвы, с высоты, а мы – в низине.
– Наоборот. Москва внизу, а вы в горах, и таких высоких.
– Не придуривайся. Знаешь, о чем я говорю.
– Ты что такая пугливая? Галюню с Манюней боишься?
– Пообещали. С тобой увидят, руки-ноги переломают.
– И могут?
– Ого. Мужики, те нет, а бабы – в два счета.
– А много еще тут евреев?
– Да ты что? О других не слыхала. Одна я такая.
Прадеду спасибо, на двадцать пять лет сюда в солдаты прислали.
– Вот оно что? Так ты, выходит, внучка кантониста?
– Слыхивала это слово, да не знаю, что означает.
Какие только трагедии не таит глухомань.
Всю дорогу до ее дома разъясняю ей, что это такое – кантонист. А она все оглядывается.
Так я и не увидел ее больше, не узнал, с кем она живет, кто ее родители. Ушли мы на неделю в тайгу; в глуши, за Перевалом столкнулись с другой геологической группой, скомплектованной из москвичей и иркутян, недавно пришедшей в тайгу и еще находящейся в ранней романтической стадии: по ночам жгли костер, играли на гитаре да пели:
Чего же ты не спишь?
Мешает спать Париж…
Девушка там была с ними, моих лет, москвичка, симпатичная блондинка Люда Кондратьева, так что выдержать не мог – не взять в руки гитару. Назад, в поселок, возвращались вместе, мы с Людой замыкали цепочку. Жили они в общежитии рудничного управления, недалеко от знакомого рудничного зева, в нескольких километрах от поселка.
Теперь все свободное время я пропадал в этом общежитии, домой возвращался далеко за полночь в сопровождении шумных вод Слюдянки и месяца, тревожно светившегося в дебрях молчаливо насупившейся тайги.
По общежитию шлялись вечно пьяные бабы, визжали и сквернословили. Спившиеся бабы вообще намного омерзительней алкашей-мужчин.
Однажды пьянка – то ли чьи-то именины, то ли чьи-то поминки – достигла кошмарной разнузданности: плясали с визгом, ухали да грохали, выл патефон, разрывалась гармошка.
Настоящий шабаш ведьм, похлеще Вальпургиевой ночи из "Фауста".
Люда относились к этому довольно спокойно, смеялась, указывая в окно на какую-то всю мятую, полуголую бабу, выскочившую под общий хохот и улюлюканье верхом на помеле. Говорили, что она чуть ли не сестра того погибшего шахтера; после его гибели мать запила, так дочь вроде ее развлекает, точь-в-точь как старуха Баубо из античной мифологии: непристойной болтовней и кривляньем пыталась развлечь богиню Цереру, охваченную тоской по дочери Прозерпине, которую Плутон, верно, древний покровитель рудокопов, унес в свое подземное царство.
Часу во втором ночи я шел от общежития через тайгу в поселок. Метров за сто позади меня, совершенно пьяные, топали три грации, а вернее, три ведьмы, никого не видели, никого не слышали, только самих себя, пели, плясали да ухали всю долгую дорогу до Слюдянки. На всю жизнь запомнились мне их какие-то безумные частушки:
Как у милки у моей
Юбочка расходится,
Это в юбочке у ей
Хулиган заводится…
И припев, дружный, хриплый, с визгом и гуканьем:
Под горой, д-на горе,
Улю-лю, камора.
Утопили в Ангаре
Маева ухажора…
Поздний месяц освещал их смутные фигуры, слабо колыщущиеся и столь не соответствующие зычным их голосам…
Ты, милок, свое точило
На меня не спихивай.
Всю мочалу размочило
Водкой облепихивой…
Я не мог понять почему, но дикая тоска подступала к горлу, а знакомые сопки с Хамар-Дабаном во главе отрешенно светились в каком-то выхолощенно-белесом сиянии месяца.
По Байкалу с омульком,
Ух ты да ах ты,
Мы на лодочке плывем
С бух ты Бар ах ты…
Долго еще по всей Слюдянке несся женский визг:
Утопили в Ангаре
Маева ухажора…
В середине октября Люда уехала в Москву.
Мы продолжаем дичать в глухомани.
Но уже набивают готовые шурфы доверху мешками с взрывчаткой.
Приближается день взрыва.
О нем трубят по местному радио как в архангельский рог. Район Перевала объявлен закрытым. Дотошный и осторожный Миша ведет меня за собой на одну из давно облюбованных и обследованных им сопок.
День ясный, безветренный, и потому Байкал вдали кажется цельно отлитым куском света. Перед нами ставшая за эти месяцы знакомой до мелочи гора, очертания свои получившая от начала мира, покрытая живой шкурой тайги, в мертвой тишине доживающая свои последние часы. Где-то веселясь, пластается в воздухе бурундук, не подозревая своей участи. Мощной мачтой вытянулся в небо сибирский кедр, не желая смиряться с судьбой, хотя изводят его по всем сибирским весям.
Казалось бы, каждой клеточкой тела и сознания ожидаешь того, что должно произойти, – застает врасплох и враспыл, как будто на миг ощущаешь себя после жизни, как будто некая невероятная сила берет не осознаваемое тобою в обычное время существование за самую сущность, твою бренную, ставшую вдруг студенистой плоть, за обмякшие мышцы глаз, горла, груди, живота, выворачивает наизнанку: и это, как жизнь, такую захватывающе цельную, пульсирующую младенческой вечностью, с запасом жизненной уверенности на тысячи лет, вдруг, в долю секунды, вырывает с корнем.
Огромный мучнисто-серый гриб, вырастая с ужасающей быстротой и бесформенностью, кажется, давясь от жадности, поглощает секунду назад такое слаженное и подогнанное до мельчайшей травинки, ветки, родника пространство с вправленным в каменную оправу цельнокристальным куском Байкала и, сжевав его, выблевывает обратно безобразно изжеванным.
Грохота так и не осознаешь, потому что он за пределами слуховых возможностей; только позднее понимаешь, что и зрелище не для человеческих глаз.
Долго и безуспешно пытается сам себя рассосать ставший каменным от мраморной пыли воздух.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































