Текст книги "Россия и ислам. Том 1"
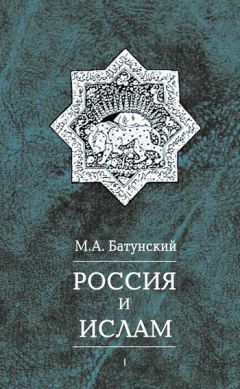
Автор книги: Марк Батунский
Жанр: Религиоведение, Религия
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 34 страниц)
35 Недаром поэтому Д.С. Лихачев решительно возражает против попыток «некоторых американских ученых рассматривать Византию… как азиатскую страну. Византия и географически и культурно принадлежит Европе» (Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. М., 1979. С. 11).
Впрочем, в 1932 г. А.Ю. Якубовский обвинил «русскую буржуазную историографию» в том, что она не сумела заметить того факта, что «для отношений между русскими княжествами и половецкой степью более характерными и нормальными являются не войны и набеги, а интенсивный товарообмен» (Якубовский А.Ю. Феодальное общество Средней Азии и ее торговля с Восточной Европой в X–XV вв. // Материалы по истории Узбекской, Таджикской и Туркменской ССР. Вып. 3. Ч. 1. Л., 1932. С. 24).
Великий русский историк В.О. Ключевский напоминал, что через Россию «искони шла столбовая дорога, которой через урало-каспийские ворота хаживали в Европу из глубины Азии страшные гости, все эти кочевые орды, неисчислимые, как степной ковыль или песок азиатской пустыни» (Ключевский В.О. Сочинения. Т. 1. Курс русской истории. Ч. 1. М., 1956. С. 47).
36 Шмурло Е.Ф. Восток и Запад в русской истории. Юрьев. 1895. С. 3–4.
37 Там же. С. 4.
38 Пашуто В.Т. Внешняя политика Древней Руси. С. 8.
39 Там же. С. 118.
40 Она все же воспринималась именно как восточная – несмотря на то что пламя зажженной исламом «священной войны гасло, натыкаясь на обугленные южные окраины страны кипчаков… Поле преграждало исламу путь в Восточную Европу» (Сулейменов О. Аз и Я. С. 162). Надо, наконец, иметь в виду, что упомянутые выше древнерусские походы в мусульманские регионы носили во многом и превентивный характер.
41 «Народ, – подчеркивает советский автор, – находился в постоянной смертельной опасности со стороны южных степей, где, как в гигантском резервуаре, накапливались дикие орды кочевников, беспрестанно врывавшихся на Русь» (Мирзоев В.Г. Былины и летописи // Памятники русской исторической мысли. М., 1978. С. 26).
42 Об аналогичном процессе в тогдашней Западной Европе см.: Батунский М.А. Развитие представлений об исламе в европейско-средневековой общественной мысли // Народы Азии и Африки. 1971, № 4.
43 «Языческая романтика придавала особую красочность русской народной культуре. Все богатырские волшебные сказки оказываются фрагментами древних исторических мифов и героического эпоса… Значительная часть песенного репертуара проникнута языческим мировоззрением» (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 606).
44 «Архаическое» сознание антиисторично. Память коллектива о действительно происшедших событиях со временем перерабатывается в миф, лишающий эти события их индивидуальных черт и сохраняющий только то, что соответствует заложенному в мифе образу» (Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. М., 1972. С. 88).
45 «…Христианский дуализм не был изобретением теологов, а отражал весьма глубинные первобытные представления, существовавшие издревле у всех тех народов, среди которых распространилось христианство» (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 133–134).
46 Издавна кочевническая Степь именуется «поганой», средоточием «тьмы» (см.: Клейн И. Донец и Стикс (Пограничная река между светом и тьмою в «Слове о полку Игореве») // Культурное наследие древней Руси. М., 1976. С. 65, 69). Но и горы – еще один символ Востока – «русский героический эпос воспринимает как враждебную для себя местность. Горы – это «горы змеиные» «дальние»… там живет Змей Горыныч, давний враг и мучитель Руси. Горы враждебны Полю (символу Руси. – М.Б.), антиподны ему» (Мирзоев В.Г. Былины и летописи. С. 84).
47 Любопытно, однако, что в героико-исторических былинах даже гораздо более позднего времени, чем описываемое нами, «русская география… небогата, и Русь предстает в них пустынной землей, протяженность которой совершенно неясна. В представлениях о чужих землях эпическая условность и географическая неопределенность дают себя знать еще сильнее… Все враждебные земли похожи одна на другую» (Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. М., 1971. С. 121–122).
48 Дохристианская бесписьменная, фольклорная древнерусская культура имела образную, эмоциональную природу. Но чувства, как известно, всегда выполняют важную гностическую функцию (см. подробно: Симонов П.В. Что такое эмоция? М., 1966; Меграбян А.А. О биосоциальной природе человека // Биологическое и социальное в развитии человека. М., 1977. С. 201), способствуя узнаванию обычных и давно известных предметных образов, «машинальному» пониманию мыслей и действий, «схватыванию» на лету их внутреннего смысла и направленности. Чувства играют значительную «компенсаторную роль» и при встрече с неожиданным, задерживая стихийную эффективность и стимулируя лишь те реакции, которые допустимы и необходимы в данных условиях (Апресян РГ. Эмоциональные механизмы нравственности // Вопросы философии. 1981, № 5. С. 113).
49 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 129.
50 В русской фантастико-исторической эпике образ Змея – это образ «государственного врага» (Путилов Б.Н. Русский и южнославянский исторический эпос. С. 40). И он (Змей Тугарин), и Идолище идентифицируются с половецкими и татарскими царями (Там же. С. 54–55). С.А. Плетнева рассматривает образ Змея в русской сказке как олицетворение степняков-кочевников, конных воинов, сжигавших деревни и города (Плетнева С.А. Змей в русской сказке // Древние славяне и их соседи. М., 1970. С. 129–131). Но в то же время Змей – это олицетворение язычества, и борьба с ним есть борьба с язычником (Рыбаков Б.А. Древняя Русь. Сказания. Былины. Летописи. С. 69).
51 Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 132.
52 Там же. С. 538.
53 Сулейменов О. Аз и Я. С. 153.
54 От древнетюркского йъзык — степь, равнина.
55 Там же. С. 154.
56 Там же. С. 155.
57 А без анализа язычества мы не сможем понять идеологию (в том числе, конечно, и ее политические и культурные ориентации. – М.Б.) славянских средневековых государств, и, в частности, Киевской Руси (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 5).
58 Но не только его. В 922 г., еще задолго до христианизации Руси, арабский дипломат Ибн-Фадлан оставил детальное описание длительного погребального ритуала язычников-русских и записал интересный диалог арабского переводчика с одним из русских купцов, выявляющий «идеологическое обоснование сожжения покойников» (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 275).
Когда только разгорелось пламя грандиозного костра, поверх которого русы взгромоздили ладью с покойником (купец умер в пути, во время плавания), русский обратился к арабу-переводчику: «Вы, о, арабы, – глупы! Воистину вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в землю, и съедают его прах и гнус и черви… А мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай неминуемо и тотчас» (Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. М.—Л., 1938. С. 83).
59 Зачастую для самовыражения бывает вполне достаточно и этого. Устоявшийся, необогащаемый социальным опытом внутренний мир индивида вполне может найти свое выражение в готовых шаблонах. (См.: Крачфельд Р. Конформизм и творческое мышление. // Contemporary Approaches to Creative Thinking. A Symposium Held in the University of Colorado. N. Y., 1963. P. 122). Надо, однако, помнить и о том, что длительному бытованию этих шаблонов способствовала «стандартность и повторяемость самой ситуации: степные кочевники нападают на земледельческие деревни и уводят население в плен…» (Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 577).
60 Русский героический эпос – для которого типична полярность добра и зла, постоянно сосуществующих друг с другом двух изначально данных бытия (Мирзоев В.Г. Былины и летописи. С. 110), – «резко отличает русский народ и русскую страну от других стран и народов». И если к целому ряду народов запечатленное в так называемом Киевском цикле былин этноцентристское, аксиологическое и категориальное ядро относится довольно терпимо, то татары описываются «всегда одинаково враждебно» (Там же. С. 88). В другом солидном исследовании читаем: «В героико-исторических былинах эпические враги обобщаются в первую очередь в образах татар… Татары в былинах всюду… В них персонифицировались понятия народа о чужеземных захватчиках и насильниках, в различные времена угрожавших русской земле» (Путилов Б.Н. Русский и южнославянский героический эпос. С. 117–118). Между тем, по мнению О. Сулейменова, в предмонгольский период понятия «свой» и «чужой» еще не столь прямолинейны, как, скажем, уже в XIV или в XVIII в. Они лишены этнической окраски. Клички «поганый» «удостаиваются враги, независимо от их расовой и культурной принадлежности» (Сулейменов О. Аз и Я. С. 102). Все же анализ источников свидетельствует, что основная масса негативных эпитетов, особенно носящих характер конфессиональной враждебности, отнесена именно к восточным кочевникам. Интересно в этой же связи наблюдение самого О. Сулейменова, что в «Задонщине», например, русские воины сравниваются с соколами, а татары – с волками, воронами, гусями-лебедями, т. е. с отрицательными образами былинной традиции (Там же). Напомню и об аналогичных примерах в «Сказании о Мамаевом побоище» (Звезда. 1981. № 9. С. 24). И если действительно не было расового антагонизма во взаимоотношениях русских и половцев (Пархоменко В.А. Следы половецкого эпоса в летописях // Проблемы источниковедения. Т. III. М-Л., 1940. С. 391), то отрицать культурный конфликт между Древней Русью и кочевым Востоком, сводя все лишь к неким односторонне понимаемым «феодальным войнам», противопоставляя их «религиозным», «общенародным», «расовым» (Сулейменов О. Аз и Я. С. 145), было бы неверно.
61 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. Изд. 3-е. М., 1979. С. 10.
62 Вот как описывают концепцию Д.С. Лихачева его единомышленники. Древнерусская культура не пребывала в изоляции. В пределах до XVII в. мы можем говорить об общности развития литератур восточных и южных славян. Позднее идет смена компасов процесса «европеизации». Сначала это была ориентация на единоверных южных славян и на Византию, «которая, кстати говоря, была европейской страной. Затем, к XVII в. русская культура ориентировалась на Польшу… при Петре I – на Голландию и Англию, потом, со второй трети XVIII в. – на Францию. С момента возникновения письменности Россия была «европеизированной» страной, она восприняла мощный слой европейских текстов…» (Дмитриев А.А., Лурье Я.С., Панченко А.М. Проблемы изучения древнерусской литературы // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 19).
63 Нечто вроде тогдашнего Министерства иностранных дел.
64 См.: Каган М.Д. «Повесть о двух посольствах» – легендарно-политиче-ское произведение начала XVII в. //ТОДРЛ T. XII. М.—Л., 1955. С. 629–639.
65 Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. С. 10–12. Ученый, в частности, обращает внимание на тот факт, что, в отличие от других стран Восточной Европы, в России не было «потурченцев», «помаков» – целых групп или районов населения, перешедших в магометанство. До сих пор в Болгарии, Македонии, Сербии, Боснии, Хорватии есть местности, населенные магометанами из славян. В этих странах сохранились памятники славянской письменности на арабском алфавите. В России, напротив, не известно ни одной русской рукописи, написанной восточным шрифтом. В магометанство переходили только отдельные пленники за пределами страны, но случаев перехода в магометанство целых селений или целых районов Россия, единственная из славянских стран, несмотря на существование золотоордынского ига в течение двух с половиной веков, не знала. «Чем же, – задает вопрос Д.С. Лихачев, – объяснить эту слабость азиатских влияний в древнерусской литературе?» И, отказываясь дать «короткий ответ» на этот «очень сложный» вопрос, пытается так объяснить столь действительно любопытное явление. Несомненно, утверждает он, имела значение и «веротерпимость» монголо-татар до их перехода в магометанство (см. также: Веселовский Н.И. О религии татар по русским летописям // ЖМНП, июль 1916. С. 96–98). «Но дело, конечно, – пишет тут же Д.С. Лихачев, – не в одних монголо-татарах: на Украине, где были те же турки, что и у южных славян, не было все же потурченцев. Впрочем, веротерпимость иногда могла способствовать усилению культурного и религиозного влияния… Примеров тому много. Отсюда ясно, что говорить о положении древней русской литературы «между Востоком и Западом» совершенно невозможно» (Там же. С. 12). Что же касается восточных тем, мотивов и сюжетов, то они появляются в русской литературе только в XVIII в., и они «обильнее и гуще, чем за все семь веков предшествующего развития» этой литературы (Там же).
66 Которая, однако, долгое время была неполной, переплетенной с сильнейшими пластами язычества (см.: Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. С. 95).
67 Goodin R. Manipulatory Politics. New Haven and London. Yale University Press, 1980. P. 74.
68 В древнерусском массовом сознании эти слова всегда, как правило, связаны с негативным контекстом, и потому натяжкой кажется мнение, что лишь христианская церковь, принципиально-де несовместимая с кочевничеством, превратила «социальную структуру восточнославянского общества «скотовод – оседлый земледелец»… в резкую оппозицию «нехристь – христианин» (Сулейменов О. Аз и Я. С. 156, 157). Тем не менее надо учесть следующее тонкое наблюдение крупного знатока русского фольклора В.Л. Проппа. Если в былине (имеющей своим предметом жизнь народа и государства – Родины) татары (или вообще «поганые») всегда представлены войском, которое совершает нападение на Русь, то в балладе (рисующей индивидуальную, частную и семейную жизнь человека) они в одиночку похищают женщин, берут их в плен и везут к себе. Балладный стиль сохраняется и в этих полуисторических сюжетах. В обстановке татарского плена, детализирует свою мысль Пропп, могут происходить неожиданные встречи. Так, татарин (он же, напомню, «басурманин», «агарянин», «исмаильтянин». – М.Б.) похищает русскую женщину, берет ее в жены и приживает с ней детей. Через несколько лет он приводит в плен старую женщину, она оказывается ее матерью. Для старухи смешанный брак ее дочери – трагедия. Но сама жена трагедии не испытывает. «Примирительное отношение к татарам, – заключает Пропп, – возможно только в балладе. В былине оно исключается. В балладе возможны даже такие случаи, когда русский муж оказывается извергом, а муж татарин любит и холит свою жену» (Пропп B.Л. Фольклор и действительность. Избранные статьи. М., 1976. С. 59). А ведь «баллада уже ближе к тому, что принято у нас называть реализмом, чем эпос и сказка…» (Там же, С. 104). Во многом иную трактовку проблемы отражения исторических реалий народным эпосом см.: Азбелев С.Н. Историзм былин и специфика фольклора. М., «Наука», 1982.
69 См. ряд любопытных соображений по этому поводу в статье Л.Н.Гусева. Проблема ритма в эстетической теории // Философские науки. М., 1981. № 3. С. 84.
70 Несомненно, и здесь на «государственного врага» проецировались разочарование и недовольство собственной историей, ему приписывались многие пороки и противоречия собственной этики и морали.
71 Унижающая (с точки зрения той или иной народной культуры) анимализация врага – давний и действенный пропагандистский прием, не раз примененный в отношении доисламского Востока (так, Батый в былинах – это «собака-царь»). Вслед за «собакой Калиной-царем» устного эпоса и хронографическим образом злого царя – «пса бесного» – историческая повесть с XV в. пользуется этим эпитетом в применении к Мамаю (в «Задонщине» он – «поганый пес»), к турецкому султану (в повестях об Азове он – «собака смрадной пес», «поганы пес, скаредная собака») и к исламу в целом – «и вера ваша басурманская татарская ровна бешеной собаке» (Поэтическая повесть об Азовском осадном Сидении // Орлов А. Исторические и поэтические повести об Азове. Тексты. М., 1906. С. 107, 147). Зато и для турок казаки – «псы воры», «собаки донские казаки» (Орлов А.С. Сказочные повести об Азове. Варшава, 1906. С. 243, 250). В.П. Адрианова-Перетц (см. ее «Очерки поэтического стиля Древней Руси». М., 1947. С. 93) напоминает, что этот эпитет фигурирует не только с антимусульманским знаком: Иван Грозный именует «собаками» Курбского и его сообщников. Что же касается татар и турок, то их нередко именовали «волками» (см.: Орлов А.С. Исторические и поэтические повести. С. 65, 101, 132). Впрочем, в «Сказании о Мамаевом побоище» о русских воинах, из засады напавших на золотоордынцев, говорится: «…и были они, словно Давидовы отроки, у которых сердца будто львиные, точно лютые волки на овечьи стада напали и стали поганых татар сечь немилосердно» (Звезда. Л., 1981. № 1. С. 29).
72 Даже здесь перед нами – своеобразная разновидность творческого мышления. В нем крайне стеснено «янусианское» (от Януса – бога, имевшего несколько лиц) мышление – т. е. возможность одновременного восприятия прямо противоположных, казалось бы, исключающих друг друга, идей и образов (Rothenberg A. The Emerging Goddess: The Creative Process in Art, Science and Other Fields. Chicago-London. Univ. Of Chicago Press. 1979. P. 55). Эти противоположности не просто воспринимаются, но сосуществуют в сознании как в равной мере истинные и в равной мере действенные. Первенствует так называемое однопространственное мышление, т. е. восприятие двух независимых сущностей (в нашем случае – древнерусское и восточное) как находящихся в одном и том же участке пространства. Но и при этом сознание способно порождать, пусть очень медленно, новые сущности в ходе эволюции эпических тем, их реинтерпретации, трансформации сюжетных положений, усложнения психологических коллизий и т. д.
73 Для автора «Сказания о Мамаевом побоище» все враги – «нечестивые и поганые» (т. е. неверные, язычники), хотя на самом деле были среди них (т. е. среди войск Мамая. – М.Б.) представители многих религий. Он называет их именами, ненавистными на Руси, – ни половцев, ни печенегов уже давно нет в его время, а он поминает их наравне с татарами. Все это – былинный образ врага, «злой татарин», «поганое идолище» (Колесов В. Сказание о Мамаевом побоище // Звезда. 1980. № 9. С. 21).
74 Лотман Ю., Успенский Б. О семиотическом механизме культуры // Труды по знаковым системам. Тарту. 1971.
75 Труды по знаковым системам. С. 155.
76 Так, в «Песне о Роланде» Марсилий одновременно оказывается язычником, безбожником, магометанином и поклонником Аполлона: «Марсилий-нехристь там царит всевластно, Чтит Магомета, Аполлона славит…» (Песнь о Роланде. М.—Л., 1964. С. 5). Но вот как описан в старорусском (начало XV в.) «Сказании о Мамаевом побоище» эмир Мамай: «…князь восточной страны… язычник верою, идолопоклонник и иконоборец, злой преследователь христиан… безбожник» (Звезда. 1981. № 9. С. 21). Подобного рода примеров множество, и они типичны и для языческой и для христианской культур Древней Руси, представляя богатый материал для изучения исторического значения семантики слов, соединенных нередко в более крупные семантические поля, выражающих категории «государственный враг» и «конфессиональный оппозиционер», показывая, что смысловой уровень их как бы наслаивается на первичные, базисные, полностью вбирая в себя их смысловое содержание. И наконец, этот же фактологический массив позволит конкретизировать вопрос о том, сколь серьезно конкретный язык своими грамматическими категориями навязывает его носителям представление о структурных элементах и строении мира, включая сюда и этническо-религиозную иерархию с сопутствующим ей «специальным языком предрассудков». (См. особенно: EhrlichHJ. The Social Psychology of Prejudice, N.Y., 1973; Gergen K.J. The Significance of Skin Color in Human Relations // Daedalus. 1967. P. 397.) Чуть ниже мы еще раз коснемся этой темы.
77 Христианство возможно без монашества, но немыслимо без идеи церкви, которая мыслится не только как земная реализация замысла Бога, но (в качестве хранительницы коллективного «ортодоксального» опыта) – «как гносеологический критерий познания Бога: с точки зрения христианства, человек может адекватно распознать и воспринять откровение не как обособленный индивидуум, но внутри ситуации общения со всеми членами церкви как живыми, так и умершими» (Аверинцев С.С. Христианство // Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 450).
78 Если воспользоваться и далее культурологическими конструктами Ю. Лотмана и Б. Успенского, то христианство можно описать как культуру с преимущественной направленностью на «содержание» – и в этом плане противопоставленную энтропии (хаосу), – основной опозицией которой является «упорядоченное» против «неупорядоченного». Такая культура всегда мыслит себя как начало активное, долженствующее перманентно распространяться (я бы определил это термином: «миссионизирование»). Напротив, продолжают Лотман и Успенский, в условиях культуры, направленной преимущественно на «выражение» – где в качестве основного выступает противопоставление «правильного» и «неправильного», – может вообще не быть стремления к экспансии: в такой ситуации может оказаться более характерным стремление культуры замкнуться в собственных пределах, отграничиться от всего, что ей противопоставлено, замкнуться в себе, не распространяться вширь. He-культура отождествляется здесь с антикультурой и таким образом уже по самому своему существу не может восприниматься как потенциальная область распространения культуры. Примером того, как установка на «выражение» и связанная с ней высокая степень реализации влекут за собой тенденцию к замыканию в себе, могут служить, по утверждению Лотмана и Успенского, культура средневекового Китая или идея «Москва – третий Рим». В этих случаях доминирует стремление к сохранению, а не к распространению своей системы, эзотеризм, а не миссионерство (Лотман Ю., Успенский Б. О семиотических механизмах. С. 157).
Пример с идеей «Москва – третий Рим» кажется не вполне убедительным. В соответствующих разделах книги будет показано, что тенденция к спиритуальному эзотеризму и культурой автаркии вовсе не была всеподав-ляющей в старорусско-христианской культуре: Pax Moscoviana обретал (особенно при Иване Грозном) и внушительный миссионерский порыв, хотя и реализовывавшийся в ту пору чаще всего посредством спазматических акций (прежде всего – вследствие подчиненности церкви государству). В терминах концепции С.Н. Айзенштадта (Political Systems of Empires. N.Y., 1967) анализируемую проблематику можно представить как различия между «культурно-партикуляристской ориентацией» (упор на сохранение данной культурной традиции и порядка в пределах границ специфического коллектива, к которому относится эта традиция, и абсорбцию этой традицией и коллективом всех чужеродных элементов) и «культурно-универсалистской ориентацией» (распространение определенной веры вне пределов любого данного коллектива, накладывая эту веру на другие коллективы и (или) создавая новые коллективы, основанные на приверженности к данной религии).
79 Точнее – псевдоновых.
80 Brunner О. Abendlândisches Geshichtsdenken. // Neue Wege zur Sozialge-schichte. Gottingen, 1956. S. 78–79.
81 И потому житию Христа и противопоставлялась жизнь Мухаммеда – процедура неправомерная, ибо если Новый Завет обретает свое значение благодаря Христу, то Мухаммед – лишь благодаря Корану. Кораническое – как, впрочем, и любое иное – откровение вовсе не есть изложение некоторых нейтрально существующих обстоятельств, а ответ на вопрос, выдвинутый условиями бытия конкретного человека. В исламе же ответ откровения онтологически предшествует человеческому вопросу в виде императива. «Я» диктует человеческому «ты» горизонт его бытия. От человека зависит, в какой мере он способен реализовать этот императив. В соответствии с этим образуется иерархия уровней бытия человека, они же – уровни познания и интегрированности личности: смирение, вера и искренность, соответственно означаемые терминами «islam», «iman», «ihsan» (Schon F. Understanding Islam. L, 1965. P. 118–119). За этим диалектическим горизонтом космической манифестации бесконечная сущность бытия вечно скрыта от человека, это – космический «он». Дуализм манифестации выражается в языке структурой «я – ты», т. е. в виде речи, и на этой основе происходит отождествление божественной речи (Писания) с Космосом вообще. Структура Корана символически тождественна структуре космоса, в котором живет человек (Там же. Р. 50–51). Отсюда – эпифеноменальный его статус (и «даже» Мухаммеда). Замечу мимоходом, что эта схема представляется мне вариантом известной концепции П.Л. Бергера о том, что только «священный космос» спасает человека от хаоса, т. е. обеспечивает его нормальную жизнедеятельность; религия есть понимание этого, и потому она имеет стратегическое значение для миропонимания человека.
82 См.: Daniel N. Islam and the West: The Making of an Image. Edinburgh, 1960. P. 33; Montgomery W. Muhammed in the Eyes of the West // Boston University Journal. 12. № 3. (Fall. 1974). P. 61–69.
83 Cm.: Waardenburg J.-J. L’histore des religions dans l’lslam medieval // Akten des VIII Kongresses fiir Arabistik und Islamistik. Gottingen, 1976. P. 372–384; Его же. Two Light Perceived: Medieval Islam and Christianity // Niederlands Theologisch Tijdschrift. Vol. 31, № 4. 1977. P. 267–289.
84 Но вот одна весьма интересная деталь, на которую обратил внимание советский философ М.К. Петров. Сравнивая состав категориального потенциала древнегреческого и латинского языков, равно и русского и немецкого, он пришел к выводу, что в них нет структур, способных опредметить взаимодействие. Это – «флективные языки, в которых… налицо логическая «преформация», почти не оставляющая места логическому «эпигенезу». Слова здесь не образуют гомогенного поля смысловых и только смысловых различий, а остаются в остаточной оболочке грамматических универсальных определений (морфология)» (Петров М.К. Язык и категориальные структуры // Науковедение и история культуры. Ростов н/Дону, 1973. С. 81). Если бы мы, продолжает Петров, «встали на обязательную для средневековья точку зрения теолога, и полагали вместе с ним, что мир сотворен по слову Божьему, то сотворенный по слову флективного языка мир был бы именно таким, каким он представляется Аристотелю: материальное начало – «смысл», «содержание» – невозможно было бы изолировать в автономную область самоопределения типа нашей объективной реальности» Это был бы мир «скульптурный, мир завершенных или полузавершенных ваяний, распределенных по классам «частей речи» и склоняемых к единству внешней и разумной силой говорящего (творца), а не мир исходной значимой глины, способной к самоопределению через слепое контактное взаимодействие» (Там же). С другой стороны, в какой-то степени у Ф. Бэкона и в совершенно очевидной форме у Т. Гоббса обнаруживаются все атрибуты категории взаимодействия (инерция и контакт как единственные вещные определители; соразмерность причинно-следственных комплексов; однозначность связи между свойствами, акциденцией и поведением – актуализацией; отказ от целевых и формальных причин как от излишних средств определения). Попытка понять этот феномен категориального сдвига у Бэкона и Гоббса – причем сдвига осознанного – «наводит на мысль о появлении и вмешательстве новой языковой структуры; это – аналитическая структура новоанглийского языка, в категориальном потенциале которого налицо схемы, способные опредметить взаимодействие… Если бы греки говорили на новоанглийском языке или христианскому Богу приписали бы творение мира не по слову – логосу, а по слову – word’y, теологически санкционировать опытную науку и механизмы накопления знания в универсально-понятийном социокоде было бы, пожалуй, много проще» (Там же. С. 81–82). Все это наводит на мысль об определенной закономерности модернизаторской переориентации русской культуры при Петре Великом на Англию и Голландию (и, следовательно, на их малофлективные языки аналитического типа) – переориентацию, в ходе которой не только ускорилось восприятие новоевропейского техницизма, но произошли заметные сдвиги и в религиозной сфере, в том числе и в отношении к исламу.
85 И все же в нем начинал преобладать христианский этос, уравнивавший теорию и практику, задававший идею исторического прогресса и санкционировавший более прагматическое отношение к авторитетам. Изменения, вызванные новым, христианским, мировоззрением, накапливались медленно, но они, однако, действовали все интенсивней, хотя и неодинаковыми темпами в Западной Европе и в России, создавая возможность кумулятивного и самоускоряющегося взаимодействия между ними. Но к концу средневековья только в Западной Европе «Прометей был раскован» – практические потенции спекулятивного мышления получили систематическое признание (Buchanan R.A. The Promethean Revolution: Science, Technology and History // History of Technology. L., 1976. P. 79).
86 Вспомним, что христианство восприняло из иудейской традиции не только ветхозаветный канон (расширенный), но, что важнее, тип отношения к канону, идею канона («Тора с Небес»); по образцу ветхозаветного канона оно отобрало новозаветный канон. Книга – символ откровения; она легко становится символом сокровенного – трансцендентной тайны. И если «вера в святость Писания делала все атрибуты книжности почтенными, вера в магию алфавита (и особенно алфавита не только нового для этноса, но и отождествляемого со «светом христианства». – М.Б.) делала их таинственными» (Аверинцев С.С. Типология отношения к книге в культурах Древнего Востока, античности и раннего средневековья// Античность и античные традиции в культуре и искусстве народов Советского Востока. М., 1978. С. 17, 18, 21).
87 Было несколько уровней их понимания и интерпретации: буквальный пересказ; перевод текста в систему автохтонных языковых средств – наиболее распространенная ситуация; комментарий к тексту, его фактологическое дополнение, прагматическая «переделка» и т. п. (также неоднократно повторявшиеся процедуры). Таким образом, чуть ли не нормативно заданный первоначальный текст обогащался и аккультивировался в процессе своего исторического функционирования, становясь уже атрибутом импортировавшей его некогда локально-идеологической системы, орудием усвоения соответствующего информационного массива в имманентную ей концептуальную картину мира.
88 Излагающая всемирную историю до 812 г. хроника Георгия Амартола (Истрин В.М. Книги временные и образные Георгия Мника. Хроника Георгия Амартола в древнем славяно-русском переводе. Текст, исследование и словарь. T. I–II. Пг., 1920) была переведена в конце первой половины XI в. «Нельзя сказать, – пишет по этому поводу И.Ю. Крачковский, – чтобы материал об арабах, сообщаемый хроникой, был скуден: она знает некоторые арабские племена до ислама, по-своему обстоятельно говорит об истории «Бохмита», как в переводе назван Мухаммед, излагает основы созданной им религии, особенно подробно рассказывает о византийско-арабских отношениях. Однако все эти сведения передаются в обычной византийской форме, с искажениями и непониманием. Русский перевод значительно усилил эту сторону и в свою очередь внес еще более недоразумений, окончательно затемнив арабские слова» (Крачковский Ю.И. Очерки по истории русской арабистики. М.-Л., 1950. С. 20–21. Курсив мой. – М.Б.).
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































