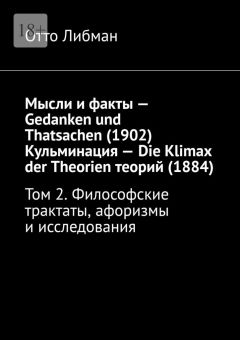
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 34 страниц)
Это открывает широкие возможности, которые могут быть использованы архитекторами для создания эстетически привлекательных форм. Отсюда происходят различные архитектурные стили, такие как греческий, романский, мавританский и готический. Они являются эстетическими вариациями на одну и ту же тему и обязаны своим происхождением определенным вкусовым тенденциям, которые, в конечном счете, имеют внутреннюю функциональную связь с преобладающим настроением и настроем, более того, с общим мировоззрением нации и эпохи.
Если внимательно посмотреть на двухскатный фасад дорического храма богов, например, Парфенона в Афинах или храма Посейдона в Паэстуме, то создается впечатление совершенной, самонасыщенной гармонии; вид этого здания подобен музыке, чистому, благородно звучащему аккорду, наполняющему душу; и это общее впечатление все более усиливается, когда от наблюдения целого переходишь к рассмотрению отдельных частей. Каждая отдельная колонна сама по себе, соотношение ее толщины и высоты, сужение к вершине, мягкое, едва заметное вздымание к центру ствола колонны, ее капитель и квадратный абсид на вершине, а также количество колонн и размеры промежутков между ними сами по себе и с учетом того, что будет поддерживаться рядом колонн, приятны, красивы и полностью соответствуют своему назначению. Архитрав широко опирается на колонны, поддерживая ряд триглифов с метопами между ними, фриз, карниз и, наконец, плоский, тупоугольный треугольник фронтона. Все здесь хорошо рассчитано, уместно, без перебора и перебора, целенаправленно, как естественный организм, – конкретное подтверждение глубокого определения Канта: "Красота есть форма целенаправленности предмета, постольку, поскольку она воспринимается без представления о цели".
Красота есть форма целеустремленности предмета в той мере, в какой он воспринимается без представления о цели". ("Критика способности суждения", § 17.)
Созерцание завершенного готического собора также вызывает впечатление, которое можно назвать музыкальным, – впечатление совершенной гармонии. Однако все настроение, ключ, аккорд здесь совершенно иные, чем при созерцании греческого храма. Готический собор с его устремленными в небо башнями, высокими фронтонами, многочисленными остроконечными арками и внутри, с его стройными колоннами, смело изогнутыми крестовыми сводами, демонстрирует стремление вверх, как рост деревьев, очень решительный перевес несущей способности над переносимой нагрузкой. Когда входишь в собор, то видишь прорастающий лес колонн с видами на боковые нефы, ветвистые своды, похожие на верхушки деревьев, высокие залы, сумеречный полумрак, в котором переливается цветной свет витражей. Все это здание, этот окаменевший лес, стремится за пределы земли, в то время как греческий храм, благодаря балансу между весом и несущей способностью, как бы целиком покоится на земле, довольствуется ею и не стремится за ее пределы. В этом есть своя символика: это контраст между имманентным и трансцендентным взглядами на мир. Мировоззрение эллинов, для которых боги – это лишь очеловеченные, персонифицированные силы природы, ανθρωποι αιδιοι, и которые строят своим богам прекрасные большие жилища здесь, на земле, контрастирует с мировоззрением Средневековья, которое помещает невидимого бога в сверхъестественное, в потустороннее, и проповедует ему. Купольный стиль итальянского Возрождения (купол собора во Флоренции, собор Святого Петра в Риме), созданный с использованием древнеримских архитектурных мотивов, можно рассматривать как некое посредничество между этими крайностями. Огромный многоарочный купол – это как бы земной аналог, символ или образ неба, небесный свод, спущенный на землю, – символ католического мировоззрения, согласно которому папа и церковь должны рассматриваться как земные представители Бога и неба.
Стиль рококо ставит очень странную проблему, представая перед нами как эстетический парадокс. Своими витиеватыми формами, отвергающими всякую прямолинейность, он как бы бросает вызов законам природы. Своими витиеватыми формами, отвергающими всякую прямолинейность, он как бы издевается над законами природы и нарочито проявляет характер произвола. Он навязывает тяжелому, твердому камню игривые формы, которые не соответствуют этому материалу; он представляет каменные здания, которые выглядят так, как будто они сделаны из сахара, картона или фарфора. Китайские изгибы, завитки, похожие на парики, перекрученные линии, овальные окна с улыбающимися ангелами-тромбонами и чеканными цветочными гирляндами и т. д. и т. п. – все это диаметрально противоположно простой естественности греческих зданий и словно хочет сказать, что природа должна мириться с любой прихотью человека; а мы, напротив, испытываем соблазн назвать стиль рококо каменной ложью. Его произвол – символ произвола абсолютных, пышных, напыщенных князей и королей, которые в веселой самоуверенной прихоти тирана-творца считают, что могут сделать из чего угодно все, что угодно, по принципу «tel est notre bon plaisir». Он также появляется лишь эпизодически и является скорее модой, чем реальным стилем. Однако нельзя отказать ему в относительной легитимности, правда, в очень узкой сфере: он кажется вполне подходящим для королевских дворцов удовольствий, а павильоны Цвингера в Дрездене, несмотря на все возражения, остаются изящными произведениями. Некоторые суровые суждения признают рококо уродливым, отвратительным, обрекают его на провал в Тартар как вырождение, противоречащее природе, как отклонение вкуса, как порождение развращенного воображения. И все же..: Каменные львы на изогнутых косоурах лестницы перед железными решетчатыми воротами парка; ясный вид через ворота и решетки на разбрызгивающуюся воду с дельфинами и тритонами на прямую тенистую аллею деревьев, в конце которой в многообещающем, многозаметном одиночестве высится роскошно украшенный замок – это неплохо; у него есть характер, пусть веселый, несерьезный; он привлекает и манит; он совсем не отталкивает. Достаточно, нельзя отрицать его относительной оправданности; для королевских замков удовольствия и великолепия рококо вполне подходит.5252
Тогда я строю грандиозно, осознавая себя. В веселом месте замок для наслаждений. Леса, холмы, равнины, луга, поля, В сад великолепно перестроенный. Перед зелеными стенами – коврики из травы, Стройные дорожки, искусные тени, Каскадный водопад, через скалу к скале парной. И струи воды всевозможные; Там она поднимается достойно, но по бокам, Там шипит и шипит в тысяче мелочей. Но потом я позволил прекраснейшим женщинам
Знакомые и уютные домики строить; Проводил безграничное время
В прекраснейшем общительном одиночестве. (Фауст II, «и IV, ст. 122—135.) Так говорит Мефистофель.
[Закрыть]
Только каждому свое место: веселому – здесь, серьезному – там. Церкви в стиле рококо легкомысленны.
Видно, что архитектура, эта "застывшая музыка", это молчаливое искусство, при всей своей неразговорчивости, говорит на очень красноречивом языке.
Пирамиды и пилоны Египта, руины Афин и Рима, готические и романские соборы во всех странах христианства, бесчисленные мечети и минареты Востока и Запада, скальные храмы и пагоды Индии, триумфальные арки и дворцы древности и современности на протяжении веков и тысячелетий беззвучно рассказывают о том, как воспринимали и понимали мир и жизнь разные народы, культурные эпохи и социальные слои.
XIV.
Часто утверждается, что скульптура – это xnr' LLo/izv греческого искусства, что ни один народ не может соперничать с греками, что никто не может достичь их непревзойденных шедевров, не повторяя того, что уже было сделано. В живописи греки значительно отстают от достижений эпохи Возрождения. Что касается музыки, то греческая музыка, насколько мы ее знаем, представляется лишь детской прелюдией к чудесным музыкальным творениям современности. В поэзии же Гомер, Эсхол и Софокл – гении высочайшего класса, чьи произведения останутся бессмертными до тех пор, пока существует цивилизованное человечество; римские поэты – лишь подражатели греков, но Шекспир по своему величию превосходит всех поэтов древности. Архитектура греков совершенна в своем роде, но этот род ограничен, и есть другие виды, в которых также можно достичь совершенства. Иначе обстоит дело со скульптурой. Здесь греки уникальны, здесь они создали чудесные вещи, по сравнению с которыми скульптурные попытки средневековья производят крайне скудное впечатление; достижения Возрождения, даже скульптуры Микель-Анджело, являются лишь подражанием и обновлением античности, а скульптура новейшего времени, начиная с Кановы и Торвальдсена, опять-таки справедливо восходит через головы мастеров Возрождения к подлинной, оригинальной древнегреческой. Группа Лаокоона, которой восхищался Микель Анджело и которую при раскопках назвали "чудом искусства", Аполлон из Бельведера,
Аполлон Бельведерский, от которого Винкельман был в восторге и экстазе, фехтовальщик Боргезе, мединский Денус, фарнезский Геркулес, метатель диска, фронтонная группа Ниобидов, чудесные, к сожалению, сильно изуродованные работы Фидия с фриза и фронтона Парфенона, затем Бенс Мило, наконец, драгоценности, найденные в Олимпии, Гермес Праксителя и Никея Пайониоса – они переносят нас в мир красоты, открытый греками и представляющий нам образцы, непревзойденные по сей день и на все времена. Греки раз и навсегда открыли пластический идеал человеческой телесной красоты, потому что сами были очень красивым народом, потому что во дворцах и гимназиях, на играх в Олимпии и других местах перед их глазами постоянно представала обнаженная красота человеческого тела во всех его позах и движениях. – Все это, конечно, очень верно, но все же скульптору более позднего времени нет нужды стоять перед греческими шедеврами, как юный Александр перед подвигами своего отца Филиппа, скорбя о том, что отец оставил его без работы. Пусть греческие произведения непревзойденны по красоте, но кроме красоты есть и другие вещи, достойные художественного творчества.
Объектом скульптуры является живая природа, в отличие от безжизненной массы, от неорганической, неодушевленной материи. То, чему она подражает, что стремится увековечить в мраморе, руде или другом твердом материале, – это, прежде всего, человеческий облик, а также те или иные формы животных – лошади, льва, орла, дельфина и т.д. Но следует сразу же добавить, что речь идет не только о внешнем виде, анатомической форме тела как такового, но и о видимом выражении внутренней, невидимой жизни души.
Настроение, аффект, душевное состояние, внутреннее спокойствие или страстное возбуждение, проявляющиеся в чертах лица, в игре выражений, во взгляде глаз, в открытом или закрытом рте, в гладком или морщинистом лбу, в открытой или сжатой руке, а кроме того, во всей мускулатуре и осанке тела, – вот что является объектом подражания в скульптурном искусстве, помимо типичной физической формы. Поэтому скульптуру следует называть не только прикладной анатомией, но и прикладной или практической физиогномикой. Здесь, однако, перед скульптором открывается неизмеримое, неисчерпаемое поле. То, что поэт, а затем музыкант черпает непосредственно из своего внутреннего мира, познает в самосознании и выражает на слух в словах или звуках, скульптор постигает извне в видимых симптомах, в выразительных движениях тела, которое является органом, вместилищем и зеркалом души. Можно сказать, что скульптор должен объективно достичь в своем творчестве того, чего актер достигает субъективно в своей собственной персоне в безмолвной, лишь пантомимической игре. Разница лишь в том, что скульптор может вычленить и зафиксировать лишь один момент временного события, а актер показывает глазу весь ход этого события. Они оба – мимы, имитаторы, как и все искусство в целом – Μιμησις.
В скульптуре особенно ярко проявляется та роль, которую форма действительно играет и должна играть в искусстве и в эстетическом восприятии. В скульптуре все, конечно, зависит от формы. Но речь идет не просто о форме как таковой, о фигуре в геометрическом смысле этого слова, не просто о пространственной форме, кривых, контурах, криволинейных поверхностях, пропорциях, таких как горизонтальная симметрия, вертикальное деление по золотому сечению и т.п., а о форме как выражении внутреннего содержания. Если сначала отбросить смену эмоциональных состояний, а также ее внешний образ, подвижную мимику черт лица и всего тела, и сосредоточиться на постоянных чертах, то можно хотя бы отчасти прояснить то загадочное, необъяснимое обстоятельство, что один тип тела кажется нам красивым, а другой – безобразным. Нам нравится греческий идеал красоты человеческого лица и тела, он нравится нам гораздо больше, чем форма и строение лица эскимоса. Но почему? Трудно назвать причину этого. Трудно объяснить причину этого, и необъяснимый осадок всегда остается даже после самого тщательного анализа эстетического вкуса.
Можно с предельной точностью измерить пропорции тела, пропорции между частями лица и всего тела и установить, что одна пропорция нравится нам больше, чем другая. Но как влюбленный человек не может сказать, почему он влюбляется именно в этот предмет, а не в тот, так и вряд ли можно сказать, почему греческий тип, хотя он и не наш, нравится нам больше, чем типы других народов и рас. Мы приблизимся к решению этой загадки, если сравним лицо человека с лицом обезьяны, например гориллы. Ведь тогда становится очевидным, что там сильнее развиты те части, которые служат выражению духовного, а здесь – те, которые служат животному наслаждению. Там у человека: лоб и глаза большие, рот маленький, подбородок и зубы покатые; здесь у гориллы: лоб покатый и низкий, рот и морда большие и жадные. Теперь рассмотрим греческий тип
более внимательно. Возьмем, например, голову Гермеса работы Праксителя. Тонкий овал лица, не слишком заостренный внизу; выдающийся вперед лоб, дугообразно изогнутый и не совсем вертикально наклоненный; узкий прямой нос, не слишком короткий и не слишком длинный, примерно в треть высоты лица; округлый подбородок, выступающий навязчиво и угловато; маленький, красноречивый рот; большие, открытые, выпуклые глаза, спокойно созерцающий и в то же время пристальный взгляд – все производит на нас впечатление духовного превосходства, высшего ума и мудрости, высшего разума, превосходства и гегемонии воли к разуму над чувственным инстинктом, высшего характера, превосходства духа над материей, благородства души – все это выделяется из этих черт. Решительный перевес высших, этико-интеллектуальных сторон и склонностей человека над животными. А сравните с этим голову представителей низших человеческих рас, голову эфиопа или эскимоса, или даже голову гориллы! Воистину, горилла выглядит как гримаса, как карикатура на человечество. Но если честно разобраться в себе, то можно прийти к выводу, что полуосознанная главная причина этого удовольствия как раз и заключается в том, что в благородстве этих форм мы невольно чувствуем и видим выражение духовной высоты и духовного становления, наиболее возвышающегося над животным, грубым, наиболее Правда, тут же возникает одно возражение, а именно: не всегда mens sana живет в теле sano, бывают физически очень красивые дураки, очень красивые грешники и негодяи, а также, наоборот, очень благородные души в уродливом теле. Но здесь важна норма, и действует принцип "exceptio firmat regulam". Греки считают нормой ανηρ χαλος χαι αγαθος, а слитый воедино эстетико-этический дуализм, характерный для χαλοχαγαθια, рассматривался греками как господствующее правило, почти как закон природы. Именно поэтому, как известно, уродство и молчаливость Сократа воспринимались и изумляли как парадокс, как ατοπια. См. платоновское "Симпосий! (др.-греч. συμπόσιον). Если смотреть в целом, то мне кажется очевидным, что греческий канон физической красоты человека, в частности красоты человеческого лица, бессознательно или сознательно связан с правилом: преобладание духовно-этического над чувственно-животным. Итак: лоб и глаза относительно большие, нижняя челюсть маленькая и отведенная, нос и рот узкие. – Однако этот прекрасный тип не возник внезапно, как Паллас Афина из головы Зея, а, как и все остальное, возник исторически и постепенно. Древние греческие произведения искусства, например, еще очень древний Аполлон из Тенея, едва ли не больше напоминают египетское искусство, чем шедевры Фидия и Праксителя. Но греки только что открыли его, и теперь он навсегда стал образцом для подражания. На нем лежит печать эстетической универсальности, поэтому величайшие скульпторы последнего времени, такие как Торвальдсен, ничего в нем не меняли, а просто придерживались его. Если на эту универсальность возразить, что здесь замешаны расовые предрассудки, то мы опять-таки должны будем ответить: Что такое для нас эстетика жабы? и что такое эстетика бога?
Однако, как уже отмечалось выше, скульптура – это не только прикладная анатомия, но и прикладная физиогномика, и если за основу взят нормальный тип тела, то теперь речь идет о том, чтобы выразить движения ума и состояния души. Все, что чувствует человеческая грудь, все, что движет душой, скульптор может воплотить в мраморе: радость и боль, любовь и ненависть, гнев и нежность, ликование и ужас, небесные улыбки и глубокую, тяжелую, без слов, печаль. Есть произведения пластического искусства, которые оказывают на наше сознание почти такое же непосредственное, такое же безошибочное, такое же убедительное и трогательное воздействие, как музыка, а это уже о многом говорит! Зевс Олимпийский Фидия соединил в себе выражение благосклонности и неприступного, высшего величия, а Аэмилис Павлов, римский поработитель Македонии, признавался, что, войдя в храм в Олимпии, он был потрясен видом этого чуда так же, как если бы увидел само божество лицом к лицу. Действительно, скульптура настолько выразительна, что с ее выразительностью можно поступить нечестно, исказив некоторые крайние выражения лица так, что, увековеченные в камне, они будут производить жуткое, отвратительное впечатление. Искусство должно защищать от этого. Мера, греческая мера, греческая софросина повелевают, "Μηδεν αγαν!". – Медуза Ронданини вовсе не пугает, как можно было бы ожидать от головы Горгоны a prioi, а, напротив, завораживает; точно так же, как известно, голова Лаокоона, борющегося с самой страшной смертью.
Здесь, несмотря на великое мастерство греков, для искусства скульптуры остается неисчерпаемое поле. В современной скульптуре есть немало произведений, которые по физиономическому выражению настроений души и потаенных глубин разума решительно превосходят шедевры греков. Однако на далеком историческом фоне возвышаются те два почтенных египетских колосса – колонны Мемнона. Они и сегодня возвышаются в долине Нила, где простояли уже три-четыре тысячелетия, и даже сегодня, когда первый луч утреннего солнца падает на колонны Мемнона, можно услышать странное пение, которое когда-то с изумлением услышали древние.
XV.
О различии между живописью и скульптурой, отчасти в оптическом и эфирном, отчасти в более высоком идеальном смысле этого слова, сказано и осмыслено немало. Первое отличие состоит в том, что скульптура физически воспроизводит физические формы, тогда как живопись создает лишь видимость телесности на поверхности, вызывает лишь оптическую иллюзию глубины и трехмерного пространства. Второе отличие состоит в том, что живописное произведение втягивает в себя фон фигур, осмысливает его в себе и также изображает фон, тогда как скульптурное произведение помещает свои фигуры изолированно в пустоту и ищет фон вне себя. – Рельеф, особенно барельеф, можно рассматривать как переходную ступень от скульптуры к живописи, поскольку он, как и живопись, содержит фон в себе и иногда стремится придать этому фону кажущуюся глубину картины за счет схематичных очертаний удаленных предметов. Однако в тех случаях, когда это происходит, получается тревожная, неправильная смесь живописного и скульптурного. Оно усиливается до степени нехудожественности в современной панораме, которая в своем сочетании живописного фона и скульптурного переднего плана фактически навязывает глазу противоречие между аккомодацией и лицевым впечатлением из-за ложной перспективы и поэтому вызывает протест. Меткие замечания по этому поводу можно найти в работе А. Гильдебранда «Проблема формы»5353
Они связаны с более ранней работой Роберта Вишера «Ueber das optische Formgesühl» (1873), в которой впервые было применено и введено в лингвистический обиход обсуждаемое в последнее время понятие «эмпатия».
[Закрыть].
Здесь приводится следующий отрывок из работы А. Гильдебранда. "Панорама, развивающая общий вид отчасти живописными, т.е. поверхностными средствами, отчасти реальной пространственной перспективой и пластическим изображением, стремится перенести зрителя в реальность, вызывая в нем реальные различные аккомодации глаз через эстетическое углубление пространства, занятого общим развитием панорамы, как в природе. При этом он пытается обмануть нас относительно тех реальных расстояний, которые делают необходимыми различные приспособления. Живописными средствами он придает им совершенно иное, увеличивающееся назад пространственное значение. Грубость этих средств заключается в том, что чувствительный глаз воспринимает тип аккомодации в противоречии с получаемыми зрительными впечатлениями. В соответствии с аккомодацией он видит метр расстояния, а в соответствии с лицевым впечатлением – километр. Это противоречие вызывает дискомфорт, своего рода головокружение, вместо комфорта от четкого пространственного впечатления.
Чем лучше панорама, т.е. чем больше иллюзия, тем мучительнее ощущение в глазах, потому что мы все меньше способны распознать это смешанное впечатление. Чем хуже панорама, тем комфортнее мы себя чувствуем, потому что иллюзия прекращается. Ощущение реальности, которое хочет вызвать панорама, предполагает грубость зрения, отсутствие тонкой функции зрения. Старая панорама, как непрерывное изображение, – это невинное удовольствие без притворства, для детей. Современная же, рафинированная, поддерживает грубость чувств через извращенное ощущение и фальсифицированное чувство реальности, подобно тому, как это делают восковые фигуры. ("Проблема формы в изобразительном искусстве", 2-е издание, с. 41-43).
Если говорить более точно, то при видении реальной, а не только нарисованной глубины взаимодействуют три фактора: а) ощущение изменения аккомодации хрусталика для близи или дали, б) ощущение конвергенции или параллельного положения обеих зрительных осей, в более общем случае – ощущение положения и движения глазных яблок, о) отчетливость или неотчетливость, конгруэнтность или инконгруэнтность обоих изображений на сетчатке. В рассматриваемом случае эти три фактора становятся запутанными и противоречивыми. – См. мою работу "Ueber den objectiven Anblick.
Именно в природе живописи заложено то, что она является самым богатым, всеобъемлющим, универсальным, поистине всеохватывающим из изобразительных искусств по своей тематике, поскольку изображает как живую, так и неживую природу, т.е. имеет в качестве архетипа и объекта подражания весь видимый мир. В нем изображается само пространство со всем, что в нем находится. Что же мы видим и с чем сталкиваемся в произведениях живописи? Совокупность всех видимых явлений в целом, все богатство форм пространственного мира, спроецированное на поверхность с обманчиво похожей, но не обманчивой и не обманывающей пластикой, которая создается рисунком и колоритом, геометрической линейной перспективой и смягчающей воздушной перспективой, а также правильным освещением и штриховкой, правильным распределением света и тьмы, света и тени. Особенность оптической иллюзии, создаваемой художником, состоит в том, что мы полностью видим иллюзорность задуманного и при этом испытываем тем большее удовольствие, чем лучше удалась иллюзия. Аналогично обстоит дело и с актерским искусством. – Мы видим из картины
то, что художник в нее вкладывает: физический мир, каким он представляется глазу, без помощи осязания, с фиксированной точки зрения. А если мы фиксируем картину только одним глазом и смотрим в короткий перископ, то оптическая иллюзия усиливается настолько, что нам кажется, что мы видим перед собой реальный скульптурный объект. Более того, конечно, поговорка о том, что из картины следует видеть то, что художник видит в ней, применима не только в оптическом, но и в совершенно ином, более высоком смысле этого слова. – Пейзажная живопись и историческая живопись – два традиционных основных раздела, в первом изображается живая природа, во втором – одушевленная, особенно человек и человеческая жизнь. Что касается жанровой живописи, натюрмортов, архитектурной живописи, живописи животных, цветочных композиций, портретов и других специализаций, то их легко можно подчинить этим двум основным категориям. Сочетания и смешения, например, пейзажа с историческим персонажем или исторической картины с пейзажным фоном, встречаются самые разные, вспомним, например, картины Пуссена или одессита Преллера.
Было бы педантизмом мучить себя угрызениями совести, учитывая бесконечное разнообразие живописных объектов, изображений и упреков.
Если внешние технические аспекты живописи, т.е. правила перспективы, цветовой гармонии, анатомии, словом, все, что относится к искусству живописи, как грамматика относится к поэзии, а гармония к музыке, принимается как должное; Если, кроме того, сходство, там, где оно необходимо, как в портрете, признается первейшим долгом; но тогда существенно важно настроение картины, – настроение, которое художник вкладывает в свою картину, настроение, в котором он задумывает свое произведение, настроение, которое его картина пробуждает и должна пробудить в нас. Как по-разному смотрят на одну и ту же природу два человека, два художника, как по-разному рисуется мир в их сознании! Как по-разному смотрит на нас Рафаэль, как по-разному Рембрандт, как совершенно по-разному А. Дюрер. Какими разными, какими принципиально разными они показались бы нам, не только если бы им пришлось трактовать одну и ту же общую тему, например, распятие Христа, но и если бы им пришлось изображать один и тот же конкретный, видимый и телесный объект перед глазами. Индивидуальное настроение и замысел художника, настроенческое содержание его произведения – это, пожалуй, наиболее ценные аспекты картины. Отсюда, в частности, проистекает большой контраст между двумя стилями и направлениями искусства, которые принято называть идеализмом и рационализмом. Это противопоставление, существующее также в скульптуре, поэзии и музыке, но рассматриваемое здесь только применительно к живописи, кажется бессмертным и проходит через всю историю искусства. Идеалист стремится превзойти реальность, и его цель, короче говоря, – безупречное совершенство; натуралист стремится точно воспроизвести реальность, и его цель – истина. Идеалистическим в высшем смысле слова является великое итальянское искусство XVI века – Рафаэль и Микель Анджело; натуралистическим – голландское искусство XVII века – Рюбен и Рембрандт; Рафаэль и Рембрандт – диаметрально противоположные крайности, а Микель Анджело и Рюбен – менее противоположные и занимают среднее положение между ними. Этих четверых можно объединить в формальный хиазм. Рафаэль с его светлыми, яркими красками, неземной красоты фигурами и группами фигур составляет антитезу Рембрандту с его глубокими, темными красками, играющими между коричневым и желтым, с его шишковатыми, иногда даже уродливыми, ярко освещенными головами персонажей. Если у Рубенса мясистые, даже тучные, лопающиеся, переполненные люди с румяным цветом кожи, также, вероятно, медных оттенков, то фигуры Микель Анджело, напротив, мускулистые, коренастые, не худые, а суровые, даже слишком строгие; там больше легких, беспечных улыбок, здесь гораздо серьезнее, зловеще хмурые лица; там смеющаяся полнота жизни, здесь энергичная сосредоточенная сила. Аналогичная ситуация сложилась и в пейзаже. Клод Лоррен – идеалист с его солнечными идеальными пейзажами, открывающими вид в голубую даль, в золотой век, вместе с классическим штаффажем; Рухсдаль – натуралист с мрачными, занесенными бурей лесами и грязными, пенящимися водопадами.
Если бы вы захотели высмеять оба направления искусства на экстремальных примерах, то это можно было бы сделать следующим образом. Если натуралист старательно рисует сочную, еще дымящуюся кучу навоза с единственным намерением воспроизвести именно этот объект с обманчивой верностью природе, то это, если удастся, вполне достойно похвалы. Жаль только, что его картина не воняет. Если идеалист хочет изобразить рай Данте и для этого просто рисует голубое небо с несколькими пятнами света и невидимыми ангелами, то это может быть вполне красиво и уместно. Жаль только, что человек не видит. – Если же говорить серьезно, то спор между идеализмом и натурализмом идет в разной степени, так что многих выдающихся художников трудно отнести к той или иной стороне. Что такое, например, Бёклин, этот поэт фантастических фигур и поэт цвета, наполненного природой? Кто он, с его козлоногими фавнами и дремлющими нимфами, с его паническим ужасом и скрипичным отшельником, подслушанным амурами, с его островом мертвых и "Тишиной в лесу", с его синими морскими чудесами и разноцветными радужными рыбами-людьми, с его кентавром, чинящим подкову у кузнеца, со всем его утопическим и при этом почти неуловимо реальным для природы миром басен? Кто же он? – Натуралистический идеалист! – А что такое Габриэль Макс с его мистическим глубокомыслием, временами переходящим в спиритизм? Его странно эффектная, реалистичная потница Бероники; его призрачная астарта; его заклейменная женщина, в экстазе глядящая на лежащее перед ней распятие; его Христос с маленькой дочерью Аэири, держащий за руку мертвую или кажущуюся мертвой девочку, на руке которой уже сидит зловещая муха; его восхитительное изображение сцены подземелья в "Фаусте": Фауст, согнутый и сломленный, стоит на коленях перед обезумевшей Гретхен, которая полузабывчиво пытается приласкать его любящей рукой. Что это такое? Идеализм или натурализм?
С историко-психологической точки зрения вполне объяснимо, что эти два художественных стиля часто чередуются друг с другом, что натуралистическая реакция следует за высоким развитием идеалистического стиля. После того как идеализм итальянцев достиг вершины красоты у Рафаэля, так что в этом направлении не осталось ничего riebmann, Gedanken nnd Thatsachen. Vd. ll. 21.
В этом направлении не осталось ничего нового, и голландцы совершили натуралистический переворот. Натуралистический "Versuch über die Malerei" Дидро, который Гете затем сопроводил своими идеалистическими маргинальными глоссами, возник в результате аналогичной реакции. После того как идеализм современного немецкого искусства, начавшийся с Карстена С., достиг апогея в мощных творениях Корнелиуса, в его сокрушительной картине "Гекуба" и гигантских проектах Кампо-Санто, которые не смог превзойти даже В. Каульбах, несмотря на гениальность его "Битвы гуннов", произошла повторная натуралистическая реакция.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































