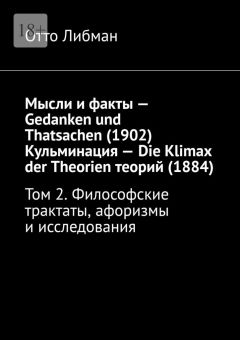
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 32 (всего у книги 34 страниц)
Глава шестая. Критерии
Трудно поверить, сколько диалектической чепухи, сколько бесплодной словесной мудрости появилось в результате пристрастия желающих высказаться по таким вопросам, к которым на самом деле нет ни серьезного интереса, ни подлинных способностей. Ученый, оказавшийся в таком неприятном положении, несмотря на все свои старания и эрудицию, будет только говорить о предмете, не вникая в него; Он будет производить впечатление, подобное тому, как miles gloriosus [хвастливый солдат – wp], который играет со своим клинком и совершает фехтовальные подвиги между лагерными палатками, но как только раздается сигнал к бою, убирает меч в карман и аккуратно отходит на второй план.
Именно это и произошло с многочисленными опоздавшими и мародерами греческой философии в период упадка аттической интеллектуальной культуры, после того как Платон и Аристотель осмыслили все самое высокое, что могла предложить мудрость классической античности. Не имея собственных оригинальных идей, не сумев предложить ничего нового в качестве философской истины, они затеяли бесконечный спор о том, существует ли вообще истина, каков ее критерий и можно ли найти какой-либо критерий. Критерий – это их постоянный вопрос. Они теряются в бесконечных преамбулах и прелиминариях, так и не переходя к сути дела, что свидетельствует о маразме и интеллектуальной импотенции. Если вникнуть в бессвязные споры поздних академиков, стоиков, эпикурейцев и скептиков на деликатную тему "критерия истины", то можно обнаружить формальное отвращение к бесплодной болтовне.
Можно обнаружить, что большинство этих сект, если не все, со времен софиста Протагора объединены общим предположением, что человек как вид и как индивид раз и навсегда замкнут в непреодолимый круг своих субъективных представлений; природа вещей "сама по себе", если таковая существует, чужда ему как нечто совершенно иное, непосредственно непостижимое, неприступное; поэтому только третье лицо, судья, возвышающийся как над человеческим миром идей, так и над миром вещей, может быть квалифицирован для вынесения беспристрастного, объективного суждения об истинности или ложности наших идей. Тем не менее, с помощью всевозможных искусственных ухищрений или немотивированных силовых приемов они пытаются найти в самих человеческих идеях признаки, по которым можно было бы отличить их истинность или ложность, подобно тому, как на дегустационном камне можно отличить золото от латуни. Когда в качестве искомого критерия выдвигаются немедленные убедительные доказательства (enargeia) и непоколебимая фактичность чувственного восприятия, или всеобщий консенсус, или так называемое phantasia kataleptike (признание, вызывающее аплодисменты), они, кажется, даже не замечают, что вся эта информация находится в вопиющем противоречии с выдвинутой когда-то предпосылкой; И потому мэтр всех скептиков, Секст Эмпирик, хотя его стратегия и обезображена некоторыми грубыми софизмами, совершенно прав, объявляя все критерии истины невозможными. Прав до тех пор, пока человек, увлеченный совершенно абстрактным идеалом познания, тратит время и силы на обсуждение достижимости этого идеала вместо того, чтобы, как положено, энергично исследовать предметы там, наш мыслительный аппарат здесь и определить, при каких обстоятельствах и в какой степени человеческая мысль является, должна быть, может быть фактически подтверждена реальным ходом вещей или является, должна быть, может быть фактически опровергнута.
Сегодня, подготовленные несколькими сотнями лет плодотворных научных исследований, принято признавать два критерия истинности: во-первых, логическую корректность и, во-вторых, эмпирическую проверяемость теории. Это правильно, но требует более подробного пояснения.
Если, согласно традиционному школьному определению, понимать под материальной истиной согласие субъективных мыслей с объективными фактами, а под формальной истиной – согласие субъективных мыслей и мыслительных процессов с логическими правилами собственного разума, то существуют три общих правила, которые можно рассматривать как сумму и окончательную мораль логики, и которым, кроме того, при определенных условиях нельзя отказать в высокой метафизической значимости. Они заключаются в следующем:
Во-первых, то, что логически правильно, т.е. без противоречий, выводится из материально ложных принципов, материально ложно. Ведь именно в силу логической правильности вытекающих из него выводов материальная ошибка первых посылок должна сохраняться от звена к звену во всей цепи выводов; даже последний вывод запятнан фундаментальной ошибкой и потому опровергается фактами опыта.
Во-вторых, то, что логически неверно выводится из материально истинных принципов, т.е. путем паралогизмов, либо не может обладать материальной истиной, либо обладает ею. Последнее имеет место в том случае, когда допущенные ошибки умозаключения противоположны друг другу и одинаковы по величине, причем так, что компенсируют друг друга.
В-третьих, то, что логически правильно выводится из материально истинных принципов, должно быть материально истинным, т.е. опыт должен это подтверждать; иначе и быть не может.
В этих трех педантично выглядящих правилах мы имеем перед собой фундамент и основное условие всего научного знания. Только при их соблюдении возможна наука, только при условии, что логически правильно выведенное из материально истинных принципов подтверждается самым строгим образом фактами опыта. Любая наука была бы невозможна, если бы эта предпосылка была ложной, если бы она опровергалась самими фактами. Но поскольку это не так, то в естественном ходе мира господствует объективная логика, соответствующая правильной логике человеческого мышления. Природа вещей имеет для нас логическую структуру, предположительно и "сама по себе", поскольку она находится под властью системы более общих и более конкретных законов, которые всегда остаются неизменными, и в соответствии с этими неизменными законами вынуждена путем логических выводов фактически подтверждать то, что человек вывел из правильно распознанных законов. Я назвал это логикой фактов и подробно объяснил эту богатую концепцию в другом месте. (7)
Но далее, как только понятие истины будет определено и далее подразделено в определенном направлении, в указанных трех правилах неявно содержится все, что можно обоснованно рассматривать и требовать в качестве общезначимого критерия истины в человеческой теории. Добавим к этому, что существуют два подвида материальной истины – эмпирическая и метафизическая, что под эмпирической истиной понимается соответствие содержания мысли фактам, воспринимаемым как видимость, а под метафизической – соответствие мысли абсолютно реальному, проявляющемуся в виде видимости, – тогда весь необходимый в вопросе о критериях понятийный материал собран, и можно переходить к его практической обработке. Здесь, однако, становится очевидным, что в этом отношении существует огромное различие между тремя уровнями научной теории, причем теории первого порядка по логическим соображениям чрезвычайно предпочтительны по сравнению с теориями второго и третьего порядка.
Теория первого порядка, объяснительные принципы которой сами являются эмпирически данными, взятыми из мира реальных явлений, эмпирически контролируема с головы до ног, от принципа до выводимых следствий. С помощью эксперимента или без него она всегда может быть столкнута с фактами наблюдения и проверена прямым сравнением субъективной конструкции мысли с реальной последовательностью явлений. Да, строго говоря, достаточно одного открытия, столкновения и проверки. Все дальнейшие наблюдения и эксперименты имеют либо дидактическую цель – наглядно продемонстрировать то, что уже признано истинным в результате вскрытия, либо эвристическую цель – на основе операциональной основы уже достигнутой истины выйти на новые, еще не исследованные вторичные области. Если, с одной стороны, логическая правильность вывода проверена и доказана по основному стандарту principii contradictionis, а с другой стороны, эмпирическая истинность принципа и его следствий подтверждена фактами наблюдения, то мы можем считать теорию, однажды признанную истинной, вечно истинной, veritas aeterna [вечной истиной – wp], – предполагая, именно, абсолютно равномерный ход природы, предполагая постоянную закономерность событий, логику фактов. Только чудо, мировая революция, полное ниспровержение существующих законов природы могут опровергнуть такую доказанную теорию. Но наука, по крайней мере, не ждет чудес.
Поэтому если мы признаем, что радикальный скептик не в состоянии доказать реальную невозможность такого чуда, то он, в свою очередь, должен немедленно принять дополнение, что теория, доказанная в указанном смысле, может быть опрокинута только самим природным порядком. Но мы можем с уверенностью ждать этого. Было бы ошибкой опасаться, что такая уверенность может привести к китайскому застою [mediocrity – wp] эмпирических исследований. Вовсе нет! Ведь помимо простого подтверждения уже признанного, никогда не иссякающий опыт во всех областях исследований дает возможность научного прогресса постольку, поскольку открываются все новые и новые особые факты одного и того же рода, иногда в совершенно неожиданных местах и под странным прикрытием, и затем, при благоприятном стечении обстоятельств, могут быть отнесены к первоначальным явлениям, известным ранее. Так, со времен Лавуазье было известно, что горение горючих веществ, кальцификация металлов, ржавление железа – все это частные случаи одного и того же первобытного явления, а именно окисления или соединения с кислородом; позднее из этого же первобытного явления удалось объяснить процесс дыхания, образование собственного тепла животного, разложение отмирающих органических веществ и другие, казалось бы, весьма отдаленные явления. Кстати, наряду с окончательно сложившимися теориями первого порядка существуют и временные теории, возникшие таким образом, что причина, действующая в отдельных частных случаях однородного класса явлений, обобщается на весь этот класс, а постоянная эмпирическая проверка откладывается на будущее. Таковы, например, в лингвистике теория звукового сдвига, в палеографии – фонетическая теория египетских иероглифов, в медицине – грибковая теория инфекционных заболеваний, которым есть аналоги во всех специальных областях эмпирических исследований. Однако реальность слишком богата, а имеющиеся у человека эмпирические знания слишком ограничены, чтобы опасаться застоя в обозримом будущем.
Совсем иначе обстоит дело с теориями второго порядка. Здесь только следствия относятся к сфере реально данного, только они лежат в пределах наблюдаемого мира явлений, только они эмпирически контролируемы и способны к эмпирической проверке. Принципы же носят гипотетический характер и лежат в области невоспринимаемого. Таковы колебания эфира в оптике, таковы электрические жидкости, таковы атомы и молекулы в химии.
В отношении них можно говорить лишь о критерии формальной истинности, тогда как их материальная истинность остается навсегда проблематичной. В соответствии с фундаментальной научной предпосылкой о существовании без исключения логики фактов, такая теория может быть признана объективно состоятельной только в том случае, если ее сеть выводов, ведущих от принципа к следствиям, шаг за шагом соответствует требованиям логики. Но эта способность не является обязательной, логическая корректность еще не есть объективная корректность. Ведь старое правило posita conditione ponitur conditionatum [Если поставлено условие, то поставлено и условие. – wp], специальное применение которого к идее причинности дает пропозицию "от одних и тех же причин одни и те же следствия", действительно может быть сокращено до sublato conditionato tollitur conditio [Если отменено условие, то отпадает и условие. – wp], т.е. конкретно "там, где следствие опущено, причина тоже не может действовать", но ни в коем случае нельзя превратить его в "sublata conditione tollitur conditionatum", поскольку одно и то же следствие вполне может возникнуть один раз от этих, другой раз от совсем других причин. Поэтому умозаключение от эмпирически данного следствия к определенной причине всегда остается неопределенным и нереальным. Даже в области, доступной наблюдению, мы убеждаемся самыми разнообразными способами, что один и тот же эффект может быть вызван совершенно разными причинами. Так происходит с каждой оптической, акустической или иной иллюзией органов чувств, например, при просмотре стереотипа или хорошей панорамы, когда, соблазнившись идентичностью оптического эффекта, мы предполагаем существование пластических объектов, в то время как на самом деле присутствуют только плоские изображения.
Если же конкретная причина, выводимая обратно из данного эффекта, по своей природе совершенно невоспринимаема, строится только в мысли, является гипотетической, как, например, вибрирующий эфир, химические атомы и группы атомов и т.п., то материальный критерий эмпирической проверки принципа, естественно, отсутствует, и при всей логической правильности нашей теории она все равно может совершенно не отражать объективной логики природы, может быть в следующий момент смещена и заменена такой же логически правильной, но выведенной из совершенно иных принципов теорией. Отсюда осторожность эксперта-исследователя, который из соображений совести благоразумно не настаивает на безусловности своего гипотетического объяснения. С учетом фундаментальных предпосылок общепринятой логики фактов только это может служить каноном для суждения о теории второго порядка: Если она обладает формальной истинностью, если система ее следствий совпадает с комплексом известных фактов опыта, если, кроме того, не придумано более правдоподобной в каком-либо отношении теории, то и до тех пор, пока мы имеем право включать ее в качестве временного компонента в корпус наших научных убеждений. Заметьте: право, но не обязанность.
Наконец, хуже всего обстоят дела с теориями третьего порядка. Они разделяют судьбу теорий второго порядка в том, что их принципы находятся в области непознаваемого, но имеют перед ними то роковое преимущество, что они абсолютны. Именно то, что в их собственных глазах составляет их особую привилегию и монополию, оказывается их ахиллесовой пятой перед судейским креслом логической критики. Скажем коротко: критерия истины для метафизических систем, в той мере, в какой они претендуют на роль аподиктической науки об абсолютно реальном, не существует и не может существовать вообще. В этом Секст Эмпирик полностью прав. Если полностью абстрагироваться от того, что некоторые из этих систем, например, система Гегеля, эмансипируются от обязательных ограничений формальной интеллектуальной логики или, точнее, обладают якобы более высоким методом мышления: Владея якобы высшим методом развития мысли, они претендуют на сообщение чего-то возвышенного над обычной логикой понимания, т.е. они недоступны общепризнанному критерию формальной истины, который является священным для каждой специальной науки, то к реальным основаниям метафизических теорий мира относятся, Хотя их следствия в конечном счете вытекают и завершаются в реально данном мире явлений, они целиком относятся к области надэмпирического, а в силу осознания своей безусловности решительно отказываются от звания гипотез.
Поэтому критерий их материальной истинности мог бы существовать только при наличии аксиоматических предложений, которые, подобно принципам чистой логики и чистой математики, обладают абсолютной убеждающей силой, выходящей за рамки современного эмпирического знания, но в то же время, в отличие от этих предложений, утверждают не только нечто формальное, но и нечто материальное. Если бы это было так, если бы также сделать трансцендентальную уступку, что то, что интуитивно и концептуально немыслимо для человека, также "внутренне" невозможно, то, как кажется, можно было бы создать систему метафизики, которая, подобно чисто формальным теориям логики и чистой математики, несет в себе гарантию своей непоколебимой правильности.
И действительно, все великие метафизические мыслители жили в соответствии с этим убеждением, устанавливали такие принципы отчасти явно, отчасти неявно. Так, элеаты теоретизировали несотворимость, неуничтожимость и неизменность истинного бытия. […] Из чего Парменид выводит простое возникновение становления, феноменальность времени и всего изменчивого в нем. Так, Аристотель в дополнение к онтологически интерпретируемому принципу противоречия выдвигает положение о том, что каждая вещь и каждое событие в мире не только возникают из активной причины, но и стремятся реализовать целевой тип. Так, Декарт принцип причинности, с помощью которого он выручает себя из затворничества cogito ergo sum, сначала онтологически выводит из существования божества, затем далее из одного атрибута бога реальность материального внешнего мира, из другого атрибута действительность высших законов природы. Так Спиноза выводит целый ряд аксиом и определений. Так, Лейбниц, помимо principium contraditionis, выдвигает теорему о достаточном основании, которая и для нас является неизбежным постулатом мышления, но которая для него – трансцендентный закон мира. -
Как я уже сказал, если бы существовали такие материальные принципы, которые, выходя за пределы всего опытного, обладали бы также безусловной достоверностью за пределами человеческого мира восприятия и мышления и, подобно принципам логики и математики, были бы сразу аподиктически определенными, тогда была бы мыслима и вечно действующая система догматической метафизики, и мы бы уже имели в руках ее материальный критерий истины. Как Архимеду нужна только неподвижная точка, к которой он может приложить свой рычаг, чтобы разжать весь мир, так и метафизика имела бы интеллектуальную точку опоры в своих онтологических аксиомах, к которым ей нужно было бы приложить только рычаг строгого логического вывода, чтобы сделать весь мир дедуктивно постижимым. Однако неподвижная точка Архимеда не существует нигде в реальности, она лишь идеал, воображаемая точка; только в мысли, а не на деле мы можем удалиться от нашей Земли; на самом деле мы везде вплетены в систему относительных движений; поэтому весь рычажный аппарат и его действие существуют только в воображении. Так же обстоит дело и с догматической метафизикой. В идее она удаляется от паутины отношений, в которой неизбежно переплетаются наше видение, мышление и познание, подобно тому, как Архимед удаляется в идее земли, к которой мы навсегда физически привязаны. Она хочет дать абсолютные аксиомы для объяснения мира; но прочность и поддерживающая сила этих аксиом мнимая.
То, что ни положение о вечности и неизменности истинно существующего, ни положение о целесообразности всех событий, ни принцип причинности, ни многочисленные принципы, провозглашаемые Спинозой, не имеют аксиоматического подтверждения, не говоря уже о внутренней гарантии достоверности, выходящей за пределы человеческого мира воображения и мысли, доказывается сравнительно легко: с помощью психологического эксперимента. Я не размышляю над аргументом argumentum e dissensu [аргумент несогласия – wp], так часто выдвигаемым софистами и скептиками против возможности метафизики. Он не выдерживает критики, поскольку в равной степени применим и против совсем других, признанных солидными наук. Но проведите эксперимент: попробуйте представить себе противоречивую противоположность этих предполагаемых аксиом, например, возникновение реального из ничего, или мир, в котором царит совершенно случайная случайность, или настоящее чудо.
И вот, пожалуйста: это работает! Но аксиомой и аподиктической определенностью является лишь то, противоречивая противоположность чему немыслима и невоспринимаема, например, закон противоречия. Таким образом, метафизические системы, в той мере, в какой они претендуют на роль абсолютных теорий мира, теряют свою силу. Их мнимая абсолютность как раз и является главной причиной того, что для них не может быть критерия, как для теорий первого и второго порядка. Да, если бы метафизик понимал себя так, что представляет свои принципы только как гипотезы, то с ним можно было бы разговаривать. Но то, что он не может этого сделать, обусловлено выбранной им точкой зрения. Он должен говорить категорически, потому что хочет дать окончательное решение загадки мира; иначе нельзя. Он не должен допускать никаких противоречий, никаких сомнений, никаких недомолвок, ибо этого не допускает предполагаемая абсолютность его позиции. Посмотрите, с каким пышным энтузиазмом выступает Платон, с какой математической уверенностью – Картезий, с каким глубоким серьезным убеждением – Спиноза, с каким доктринерским упрямством – Гербарт, с каким пламенным красноречием, ниспровергающим все угрызения совести, с каким Фихте, с каким упрямым догматизмом, с каким сознанием суверенного диктатора, с каким Шопенгауэром, с каким Гегелем провозглашали миру свои принципы объяснения мира, можно сравнить с откровенно обескураживающей скромностью, с которой Нейтон в конце своего классического труда, представив человечеству действительно универсальную математическую науку о мире, признается, что "истинная причина" движения планет ему неизвестна (8), – и сразу понимаешь, что здесь, в догматической метафизике, речь идет не о знании, объективно обоснованном знании, а о вере, о твердом, но чисто субъективном убеждении, как в религии; вероучение, легко ускользающее от научной критики, истинность которого можно только почувствовать, ощутить, но, подобно красоте произведения искусства, никогда не может быть строго доказана; вероучение, которое может создавать прозелитов [последователей – wp] и секты, но способно только осуждать своих противников как еретиков, никогда более ad absurdum. Метафизические системы и религиозные конфессии нетерпимы. Обе по одной и той же причине. Обе потому, что основаны на вере, а не на знании, на желании верить, а не на необходимости верить. Объективная неопределенность их позиции, которую они субъективно считают абсолютно истинной, делает толерантность для них невозможной. В силу этой неопределенности научная атака воспринимается ими не как дискуссионный аргумент, а как оскорбление, и поскольку они не могут защитить себя строгим опровержением, они защищаются осуждением.
Итак, следует ли рассматривать мир видимостей, находящийся в беспокойном потоке становления, но в то же время удивительно подчиняющийся неизменным законам, у Платона как некую игру теней и мимолетное воспроизведение образцового неподвижного царства вечных типов видов, или же у Аристотеля как реальный продукт последовательности стадий целевых субстанций (энтелехий), имманентно присущих отдельным вещам, следует ли рассматривать эмпирический факт временного изменения, становления, события у Гераклита как абсолютный процесс или у элеатов, Платона и Гербарта как чисто феноменальное проявление постоянного и неизменного реального, правы ли эпикурейцы в своем утверждении, что в основе множественности, разнообразия и смены явлений лежит анархическое множество одинаково независимых субстанций, или Парменид, неоплатоники, Спиноза, Гегель и Шопенгауэр с их hen kai pan [Один и Все – wp], учением о субстанциальном единстве мира, Нужно ли сводить эмпирически данный дуализм духовного и материального у Картезиуса к двум toto genere [совершенно – wp] различным видам бытия или у Лейбница к заранее стабилизированной гармонии между лишь постепенно различающимися монадами, обладает ли какая-либо из этих метафизических теорий той абсолютной истиной, на которую она претендует, – для этого у нас нет решительно никакого критерия. Спекуляции на эти темы навсегда остаются в области проблематики как таковой. Возможно, определенная польза от метафизических спекуляций состоит лишь в том, что они подводят нас к неким пограничным понятиям человеческого мышления, знакомят с некими универсальными, противоположными точками зрения, с которых человек может, но не должен постигать мироздание.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































