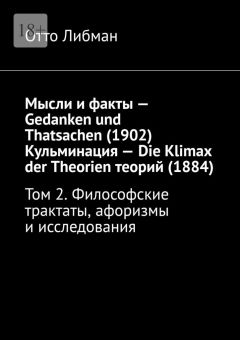
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 34 страниц)
Размышления о сущности морали
Этические соображения.I.
Новая прогулка на вершину, но уже по более суровым горам и более изрезанным каменистым тропам, чем та, другая прогулка на вершину, которая проходила по "высотам" изобразительного искусства. Правда, и та не представляла собой ничего, кроме смеющихся пейзажей и веселого солнца, а довольно часто открывала вид на жутко мрачные ущелья и жуткие пропасти. Но искусство – это игра, даже если она становится трагической. Жизнь серьезна, горько серьезна, хотя некоторые легкомысленные люди считают ее игрой до тех пор, пока они остаются легкомысленными. Мы обращаемся именно к серьезным людям из числа альпинистов, покоряющих горы мысли.
II.
Логику и этику объединяет то, что обе они являются "нормативными", повелевающими, законополагающими науками: одна – для мышления и суждения, другая – для воления и действия. Обе они дают правила и предполагают возможность следования своим правилам, иначе они не имели бы смысла. Обе устанавливают идеалы, ясно осознавая, что реальность не всегда им соответствует, иначе они были бы излишни. Насколько реальный, психологический мыслительный процесс, протекающий в нашей голове, с его пробными экспериментами мысли, заблуждениями и ошибками, сомнениями и самокоррекцией, соответствует прямым линиям аристотелевского Органона, настолько же мало желания, размышления, решения, колебания, решимость, импульсивный подход, желание, действие и воздержание людей соответствуют строгим требованиям любой этической системы. Норма не говорит о том, что должно происходить. Здесь можно также оставить открытым вопрос о том, какие грехи против логики или против этики встречаются чаще, кто более редок – правильный мыслитель или добродетельный герой и святой. Достаточно того, что норма установлена и требует подчинения. Созвездия находятся в верхней части неба и указывают курс. Пышный рулевой внизу, на качающемся корабле и бурлящем море, должен следовать им по мере сил.
Однако есть существенное различие, имеющее серьезные последствия. Для всех разумных людей существует только одна логика. Этика же многоязычна, в разных странах и эпохах существует множество моральных систем. Здесь таится змея в сером; здесь кроется этическая антиномия.
III.
Существуют высшие практические принципы самого общего, всеобъемлющего характера, авторитетные и абсолютно действительные для всей воли и действия вообще, нормативно определенные для каждого, для святого, равно как и для убийцы и вора, но при этом совершенно бесцветные, абстрактные и чисто формальные. Например: "Хотеть одного и того же и в то же время не хотеть – абсурд"; или "Надо либо хотеть, либо не хотеть; tsrtiuw non äntur"; далее: "Тот, кто хочет цели, должен хотеть и средства"; и "Тот, кто не хочет средств, не может хотеть и цели" и т.д. и т.п. – Эти принципы имеют точный аналог в практической области.
Эти принципы образуют в практической сфере точный аналог того, чем являются принципы логики в теоретической сфере; но в их пустоте отсутствует специфически этическое. Только в том случае, если и когда к ним добавится какой-либо базовый моральный постулат или общепризнанное базовое моральное ценностное суждение, происходящее из другого источника, они станут решающими для дедуктивной формулировки этики.
Можно представить себе многоуровневую систему дедуктивных практических наук – от морали и юриспруденции до техники, экономики и политики.6262
Здесь мы вспоминаем «Schematiche Stusenordnung der deduktiven Wissenschaften», том I, с. 38—45.
[Закрыть]
IV.
Подобно принципам, существуют также добродетели, предпочтения, "пср "л, если угодно, "обязанности" общепрактического характера, которые, однако, лишены специфического этического тона, имеют нормативную обоснованность и ценность для всякой воли и действия вообще и могут быть применены как in bonam, так и in malum pariern. Например, добродетель энергии в противовес слабости, настойчивость, последовательность, последовательность "хотения" и действия в противовес бессистемной погоне, мельтешению, как флюгер, непоколебимое упорство в достижении однажды поставленной и определенной цели, "владение собой" или самоконтроль (εγχρατεια) через самостоятельно выбранные максимы. Они составляют силу характера, но еще не качество характера. Несомненно, что самообладание является предпосылкой высшей нравственности, но само по себе и как таковое, т.е. вне содержания максим, оно еще не является этической добродетелью, а только общепрактической. Для скряги максима – никогда не подавать милостыню, для Ганнибала – разрушить Рим, для Лато – "Cartaginem esse delendam".
Такие общепрактические, но еще не специфически этические добродетели и обязанности справедливы для всех вообще, как для подлеца, так и для человека чести, как для бессердечного эгоиста, так и для благодетеля человечества.
Где-то в этой области проходит граница между политикой и моралью. Вспоминается Макиавелли.6363
О Макиавелли, бесконечно часто обсуждаемой бессмертной проблеме, здесь следует лишь вкратце отметить следующее. В «Криноидах» он проявляет себя как один из величайших практических философов эпохи Велл, но в то же время оказывается абсолютно дальновидным в отношении всего этического. Этим объясняется большая путаница среди его критиков. Одни осуждают Макиавелли как моральное чудовище. Другие, в том числе виднейшие историки, почитают в нем глубоко чувствующего друга отечества, пожертвовавшего на алтарь отечества всем, даже личной моралью. Другие видят в нем холодного исследователя, описывающего махинации политики так же объективно, как натуралист описывает процессы природы, без вмешательства моральных норм. Третьи видят в его творчестве горькую сатиру, средство возбуждения народа. Есть и те, кто приписывает ему в качестве мотива самый низкий личный эгоизм: дескать, он хотел через свою книгу задобрить вернувшихся медяков и таким образом добиться должностей и почестей. Последняя точка зрения не соответствует действительности. Истина заключается в следующем. Книга князя адресована Лоренцо Медичи, с которым многие итальянские патриоты того времени связывали надежды на политическое объединение и возрождение Италии, и в ней указаны средства, с помощью которых в первую очередь должна быть достигнута неограниченная княжеская власть, а также конечная патриотическая цель. Эти средства столь же энергичны, сколь и безжалостны. В частности, в качестве образца часто приводится политика Людвига XII и жестокого монстра Чезаре Борджиа. В самом пестром смешении максимы и советы Макиавелли представляют нам отчасти то, что безразлично для морали, отчасти то, с чем может согласиться нравственное чувство, и, наконец, то, что наносит прямой удар по всей морали. Ни одно преступление не является для Макиавелли слишком постыдным и отвратительным, чтобы не посоветовать своему принцу совершить его, если только оно благополучно приведет к цели. Именно это ледяное безразличие к моральной ценности или недостойности поступков, этот циничный милитаризм и расчет на целесообразность при кажущемся полном отсутствии морального начала – вот что придает книге ее озадачивающий, дьявольский, даже бесчеловечный характер. Если бы Макиавелли советовал только морально предосудительные вещи, его книга была бы просто гримасой.
Однако, поскольку он с одинаковым непоколебимым спокойствием касается как самого благородного, так и самого отвратительного, он выглядит как моральный кастрат. Когда, например когда он требует от князя силы, энергии и последовательности в действиях; когда он требует создания национальной армии вместо иностранных наемных войск; когда он считает нейтралитет в войне очень опасным, так как он является шипом в боку обеих воюющих сторон; Когда он предостерегает от льстецов и рекомендует слушать правду; когда он объявляет необходимым, чтобы сам князь был воином и полководцем, – это максимы, которые наше моральное суждение не будет ни восхвалять, ни отвергать как правила целесообразности. Но теперь послушайте следующие предложения, взятые в основном из 18-й главы «Принципа». Всем известно, как похвально, когда князь держит свое слово и живет праведно. Но наше время учит, что только те князья достигают больших успехов, которые держат свое слово и умеют обманывать других, а те, кто всегда хочет поступать по совести, в итоге поступают плохо». Есть два вида борьбы: одна – с законом, другая – с силой. Первая – у людей, вторая – у животных. Но поскольку первого часто бывает недостаточно, приходится прибегать ко второму. Поэтому князь должен уметь играть в зверя, как и в человека; если же ему нужно вывести зверя, он должен быть либо лисой, либо львом. Лиса – чтобы избегать сетей, лев – чтобы пугать волков. Неправильно всегда играть льва. – Мудрому князю нет нужды держать слово, если оно принесет ему вред, а повод, по которому он его дал, уже не существует… Но он должен уметь хорошо скрывать этот лисий дух, а это легко сделать. Ведь люди так простодушны и так привыкли подчиняться обстоятельствам, что тот, кто хочет обмануть, всегда найдет того, кто позволит себя обмануть. – Из более поздних примеров этого я привожу папу Александра VI. Он всегда обманывал. Никогда человек не умел лучше убеждать, никогда не давал более священных клятв, никогда не держал своего слова меньше, и все же ему всегда удавалось обмануть. Так хорошо он умел обманывать людей». – Внешний вид добродетели обычно полезнее самой добродетели. Все видят, каким ты кажешься, и лишь немногие знают, каков ты на самом деле. Принцу не обязательно обладать всеми хорошими качествами, но он должен казаться таковым. В самом деле, смею сказать, что если он будет обладать ими и всегда их практиковать, то они будут ему вредны; но если он будет казаться, что обладает ими, то они будут полезны».
– «Поэтому ты должен казаться и быть сострадательным, преданным, гуманным, верным, честным; но в то же время твой ум должен быть так расположен, чтобы в случае необходимости ты знал, как изменить его на противоположный». – «Нет судьи, который мог бы осудить действия князя. Поэтому смотреть надо только со стороны успеха. Князь должен поддерживать свое государство, и любые средства, которые он использует, будут здоровыми, если они служат этой цели.» – «Если жестокость и суровость необходимы, то они должны применяться один раз, а не понемногу, чтобы ненависть не возобновлялась от повторения». – «При всех жестких мерах надо иметь в виду, что люди склонны подозревать эластичность. Некоторые из них эластичны, как резина; из них легко можно делать всевозможные вещи путем сознательных и бессознательных омонимов». Мы поместили здесь все это замечание потому, что оно бросает ярчайший свет на огромную разницу между практической философией вообще и этикой в частности. Настоящего, нравственно чуткого человека чести оно почти не беспокоит и не вводит в заблуждение.
[Закрыть]
V.
Каждое законное решение, каждый формально безупречный судебный вердикт – это вывод обычного аристотелевского силлогизма. Всякая единая система права логически применяет высшие принципы к многочисленным частным случаям. Правильное подведение частного под общее, строго логическое выведение конкретных следствий из общих, всеобъемлющих фундаментальных принципов – это было бы для этики идеалом и постулатом профессии, выполнение которого превратило бы ее, как механику, физику, экономику и юриспруденцию, в настоящую науку и хотя бы формально перестало бы быть площадкой индивидуальных мнений и афористичных мудрых сентенций. Очевидна возможность, как только будут заданы общепризнанные базовые моральные требования, представить всю этику в виде дедуктивной системы, восходящей от этих высших принципов через все специальные моральные законы к моральным оценкам совершенно единичных случаев.
VI.
Каждое конкретное моральное ценностное суждение, если оно не является просто междометием, монологическим излиянием, взрывом сугубо индивидуального и сиюминутного чувства ценности, а предстает в виде концептуально оформленного предложения с субъектом и предикатом и произносится с осознанной претензией на объективное признание со стороны других, может породить вопрос "Почему? " и указывает на некую скрытую субординатную пропозицию, некую аксиому, некий принцип, из которого она может быть выведена, обоснована, мотивирована и оправдана как законный частный случай. Этика всегда стремилась обнаружить такие принципы как действительный источник моральных ценностных суждений, и, как известно, иногда удавалось прийти к этому, иногда к тому, якобы высшему моральному принципу. Например: "Стремись к удовольствию и избегай боли" (гедонизм Арифтиппа); или "Quod fibi fieri non vis, alteri ne feceris" (Конфуций, Христос); или "Стремись к безболезненности, всегда соизмеряй между собой рассматриваемые блага и зла, предпочитай большее благо меньшему, меньшее зло – большему" (эпикурейский эвдемонизм); или "Подобные тебе все больше и больше приобщаются к божеству" (Платон); или "Ты должен ομολογουμενως τη φυσει ζην" (Стоа); или "Honeste vive, neminem laede, suum cuique tribue" (Ulpianus); или "Делай то, чем приобретешь вечное блаженство в будущем" (Transcendent Eudemonism); или "Стремись к тому, что действительно полезно для себя" (Individual Militarism); или "Стремись к высшему благосостоянию общества, к наибольшему счастью наибольшего числа людей" (социальный милитаризм, Бентам); или "Делай то, чем ты сам будешь совершенен как человек (Hon. Вольфс); или "Откажись от воли к жизни, чтобы искупить себя от всех страданий жизни" (буддизм, Шопенгауэр); или "Всегда поступай так, чтобы ты мог желать, чтобы максима твоих действий стала общим законом для всех людей" (Кант).
Как известно, список различных моральных принципов далеко не полон, и, как может заметить любой внимательный человек, большинство из них страдает подозрительной эластичностью. Некоторые из них эластичны как резина, из них легко можно сделать всевозможные вещи путем сознательной и бессознательной омонимии. Эластичность доходит до того, что из совершенно разнородных базовых постулатов можно вывести не только совершенно одинаковые следствия, например, из принципа стоицизма и эпикурейства точно такие же четыре греческие кардинальные добродетели, но и из одного и того же принципа вывести совершенно разные правила жизни и образ жизни, как, например, из гедонистического принципа – те же четыре кардинальные добродетели. Например, из гедонистического принципа киренской школы Аристипп выводил непристойную жизнь в удовольствиях, Анникерис – весьма достойные, почетные, даже благородные последствия, а ГегезияС ПейситанатоС – даже пессимизм и "прямое" подстрекательство к самоубийству. Но, к счастью, от этого страдает только школьная этика, а конкретная этика и естественная мораль общественного мнения, "mens conscia recti", "доброго человека в его темном порыве", и личная совесть, нравственный поступок настоящего, нравственно чуткого человека чести, почти не нарушаются и не вводятся им в заблуждение.
VII.
Как ни желательна, как ни настоятельно необходима для разума строго логическая последовательность, дедуктивная организация этики, есть все же нечто иное, нечто нелогическое, нечто внелогическое, нечто отдельное от логического как внутренняя сущность дела, при отсутствии которой этика перестала бы быть этикой, несмотря на всю логическую структуру. Это нечто аффективное, сентиментальное, нечто эмоциональное: почитание и презрение, восторг и досада, возмущение. Есть вещи, которые для человека священны и неприкосновенны. Для грека, как и для римлянина, священна торжественно произнесенная клятва; для грека, как и для араба пустыни, священна защита друга-хозяина, принятого под кров. Для нас священна жизнь наших детей, священна память наших родителей, священны и неприкосновенны несчастья и муки тяжких страдальцев. Отвратительно, мерзко и возмутительно для нас гнусное, бессердечное предательство веры; отвратительна и возмутительна бесчеловечность, дьявольски жестокое обращение с животными и людьми.6464
Действительно, не случайность, а инстинкт, когда в нашем языке жестокое называют «бесчеловечным», жестокость – «бесчеловечностью»; тем самым подразумевается, что специфически человеческое, характерное для человека, находится в противоположности жестокости, то есть в любви, в доброжелательности, в сострадании, в милосердии. Надо быть человеком, а не чудовищем! – Конечно, есть и другие черты, которые делают человека человеком.
[Закрыть]
Это – специфически этическое, нечто иррациональное, мистическое, что не может быть растворено в кристально чистой, прозрачной рациональности логического без темного, тяжелого удара. Здесь лежат первичные феномены нравственности. Одними выводами, одними дедукциями, одним лишь последовательным следованием практическим принципам и их реализацией, даже с помощью отточенной казуистики, достаточно простого понимания, этика не достигается. Независимо от того, «приносит ли отношение и поведение пользу обществу», или способствует «наибольшему благу наибольшего числа», или служит «совершенству» и т. д. и т.п., это не меняет непосредственного чувства безусловного одобрения и безусловного неприятия – первичных явлений морали. Есть то, что абсолютно желательно, и то, что абсолютно постыдно. Без этого невозможна подлинная, настоящая этика, связывающая нашу волю.
Но нас ждет большое, тяжелое разочарование. Есть другие люди, другие страны, другие времена, чьи святое и позорное не совпадают с нашим святым и позорным, а отчасти выглядят совсем иначе.
Это является полимифом этики, это этическая антиномия.
VIII.
Этическая антиномия. – При всей простоте и строгости ее можно сформулировать следующим образом.
Тезис: То, что наша личная совесть при искреннем и серьезном самоанализе велит нам делать, имеет абсолютную моральную ценность; это абсолютно и безусловно хорошо.
Антитезис: Ничто из того, что велит делать наша личная, нравственная совесть, не имеет абсолютной, безусловной нравственной ценности, т.е. нравственной ценности, обязательной для всех людей; потому что эта совесть говорит на разных языках, потому что в разных странах, народах, эпохах, уровнях цивилизации и религий она объявляет нравственно ценным и обязательным не одно и то же, а разные вещи.
Это и есть то великое, горькое противоречие, которое грозит подорвать неистребимое стремление к абсолютной этике. Если к этому добавить, что, помимо психических расстройств и нравственного безумия, ни один человек на земле не является непогрешимым, что существует и "ошибающаяся совесть", что даже совесть самого чуткого к нравственности человека подвержена многим угрызениям и сомнениям, то вся твердая почва как бы сотрясается под ногами, наступает путаница, исчезает всякая нравственная "автономия", остается только гетерономия; Каждый человек вместе со своей совестью является слугой обычая, обычая земли, "традиционной" традиции, отягощенной наследственными и наследственными узами, и в случае сомнения может обратиться к государству или церкви, к судье или священнику, к любому авторитету, чтобы узнать, что он должен или не должен делать, чего он должен или не должен хотеть. "Roma locuta est" или "Αυτος εφα", – так можно было бы сказать.
Но что это за власти и в чем они заключаются? Государство, церковь, обычай, закон, обыкновение без лиц, которыми они признаются, – это то же самое, что радуга, плывущая по каплям, когда перестает идти дождь.
IX.
В глазах статистики мы все ходим как статисты, как счетные числа; каждый из нас обременен кучей невидимых вероятностей, о существовании которых он сам не имеет ни малейшего представления. – Вы, например, мой дорогой, не что иное, как столько-то и столько-то вероятностей жениться в следующем году, умереть, выиграть большой LooS, столько-то и столько-то вероятностей быть обвиненным в убийстве, сойти с ума, совершить самоубийство и т.д. и т.п. Вычтите из вас все эти вероятности, и вы – ничто. Так говорит статистик. А если вы, дорогой мой, будете протестовать против этого, если вы считаете себя мыслящим, чувствующим, желающим человеком, то, может быть, придет врач или естествоиспытатель и скажет вам, что вы не так называемое "я", а химическая смесь из такого-то и такого-то количества белка, фосфорнокислой извести, углекислоты, серы, поваренной соли, большого количества воды и небольшого количества железа; если выпарить лишнюю воду, то вас можно поместить в маленькую стеклянную банку. Если вы, выдержав этот анализ, столь же проницательный, сколь и, несомненно, верный, будете продолжать утверждать, что вы – субъект, который мыслит своим пониманием, оценивает вещи своей совестью, то придет историк культуры, философ культуры и покажет вам, что вы не субъект, который мыслит своим пониманием, оценивает вещи своей совестью, во всех своих теоретических и практических суждениях и убеждениях вы всего лишь продукт прошлого, произведение истории, преходящий этап в развитии мира, отпрыск и ученик своих родителей, внук своих бабушек и дедушек, без которых вы были бы никем и не существовали бы так же, как сегодня может существовать без вчера, настоящее без прошлого. – Так что же остается от тебя, от твоего "я", от твоего "эго", от твоей логической и моральной автономии? Как видно, бескорыстный, бессущностный призрак.
На это, правда, можно с неопровержимым основанием ответить, что статистика, химия, мировая история, история культуры, да что там, весь мир, существуют только в нашем сознании, даны нам как содержание нашего сознания, что они были бы невозможны без "я", без "я", устанавливающего время, сохраняющего тождество с самим собой, и исчезли бы в темной бездне и непостижимой тьме абсолютного неизвестного, если бы такое "я" было полностью упразднено. Но, с другой стороны, верно и то, что каждая моральная система, разработанная философами – Платоном, Аристотелем, Кантом и т.д., – возникла на фоне реально господствующей морали, постепенно развивающейся во времени и общепризнанной, которая, со своей стороны, пришла не с помощью научной теории, а совершенно иным путем.
X.
Любопытство по поводу происхождения морали, происхождения различия между добром и злом, генезиса морального ценностного суждения может быть удовлетворено "психологическими" или историческими средствами. Оно, конечно, небезосновательно, но проистекает скорее из теоретического, чем из морального интереса. Тот, кто сумеет удовлетворить его достоверной информацией, не вызывающей сомнений, совершит научный подвиг. Но эта информация не будет иметь ни малейшего практического значения для нашего собственного жизненного поведения, для нашей личной воли и действий, поступков и бездействия, для моего согласия и неприятия. Точно так же, как моя боль и удовольствие перестают быть болью и удовольствием от того, что мне рассказывают о причинах их возникновения; точно так же мало того, что я узнаю, что считалось хорошим и плохим столетия назад здесь, тысячелетия назад там, и как это стало считаться таковым, нисколько не изменит моего личного суждения о том, что действительно следует считать хорошим и плохим. "В чем же тогда польза использования?" – спрашивал Лессинг. "В чем же тогда ценность ценной вещи?" – спрашиваем мы. И ответ на этот вопрос не может дать никто, кроме нас самих.
Ценность истории велика, но не стоит ее переоценивать. Она может показать нам, как складывались мнения людей о хорошем и плохом, но она не содержит абсолютно никакого авторитета для нашего личного суждения о хорошем и плохом. Исторически, исторически возникло много всего, в том числе и всевозможные глупые нравы, нравы плутов, агеев и мошенников; но этот исторический факт никак не влияет на мое личное моральное суждение; – самое большее, что я сожалею о том, сколько абсурдных вещей могло возникнуть и возникло исторически.
С другой стороны, можно, оставив в стороне прошлое, попытаться вывести свою мораль из художественного идеала и постулата будущего. При условии, что сам идеал имеет реальную ценность. При условии, что постулат не является бессодержательной химерой.
XI.
Для желающих побродить по моральному хаосу первобытной лесной морали широкие возможности и массу материала дают работы Тлора и фон Люббока, а также многотомная "Антропология первобытных народов" Вайца. В самых грубых, самых примитивных культовых состояниях человеческого рода, которые мы привыкли называть доисторическими, но которые и сегодня ярко выступают перед нашими глазами у австралийских негров, у обитателей внутренних районов Новой Гвинеи и у других диких первобытных народов, мы находим всевозможные странные начала и прелюдии, прелюдии, иногда и диаметральные противоречия морали, некоторые привычки, находящиеся в самом вопиющем противоречии с нашими собственными нравственными понятиями. Но ведь и у дикарей есть обычаи, привычки, есть незыблемые законы, причем законы, которые очень строго соблюдаются. Но в любом случае мораль караибов, ботокуденов и пешерехов на Огненной Земле имеет гораздо меньше общего с нашей собственной моралью, чем с моралью наших предков в Европе и древних цивилизаций в Азии.
XII.
Давно известная историкам точка зрения, что буддизм, как и вообще страдающий, отрекающийся, аскетический, отрекающийся от мира, требующий отдыха древнеиндийский образ мышления, следует рассматривать как патологическое явление истощения, объясняемое «климатическими, а также социальными причинами». То племя ариев, которое когда-то в незапамятные времена ворвалось в Индию через высокие пограничные горы и покорило темное первобытное население, оказалось не в силах противостоять превосходству тропической природы и потому истощилось. К этому добавилась тирания кастовой системы, которой человек чувствовал себя безнадежно подчиненным. Люди теряли бодрость, свежую активность, сама жизнь начинала восприниматься как пытка, они жаждали блаженного небытия и считали возвращение в нирвану высшим идеалом.6565
См., в частности, «Geschichte des Alterthums» Макса Данкера, том III; «Buddha» Х. Ольденберга.
[Закрыть]
Возможно, с исторической точки зрения эта точка зрения вполне корректна, и мы не хотим выдвигать против нее никаких возражений. Но с этической и метафизической точек зрения она страдает тем недостатком, что рассматривает вещи sub specie temporis, а не sub specie aeternitatis. Он также игнорирует тот факт, что буддизм до сих пор имеет несколько сотен миллионов последователей не только в Индии, но и в более умеренных регионах, и что его до сих пор официально исповедуют японцы – народ, столь полный жизни и бодрости. Буддизм – это типичный взгляд на мир и жизнь, которому есть яркие аналоги в среде христианства и который может возникнуть и возникал в самых разных климатических, географических и исторических условиях, как на Западе, так и на Востоке.
Основное требование и конечная цель буддизма – избавление от страданий, избавление от страданий; Основной предпосылкой является пессимизм, учение о том, что небытие лучше бытия, поскольку бытие, жизнь, к которой обычный человек привязан удовольствием, стремлением к удовольствию, пристрастием к удовольствию, неразрывно связана с тяжелыми страданиями, болезнями, старостью и – согласно индийской мифологии – с угрожающей перспективой метемпсихоза, трансмиграции, непрерывно возобновляющихся перерождений и новых страданий. Поэтому уход от мира, отречение от мира, отрицание мира, уход от жизни, обманывающей нас соблазнами мимолетных удовольствий, в ту НирвЛну, то великое вечное небытие или то, что лежит за пределами временно-каузального мирового драйва. Легендарная жизнь Будды Сакьямуни iu eonersto представляет все черты этого мировоззрения. Она начинается с царского сына, наслаждающегося роскошью, и заканчивается нищим, отрекающимся от всего. Отречение, аскетизм, отказ от чувственных удовольствий жизни, от богатства, от ненависти и вражды, требование целомудрия, добровольной бедности, любви и сострадания к другим живым существам, к людям и животным, которым приходится страдать в жизни так же, как и нам, и лучше всего было бы уйти из жизни в нирвану без страданий. -
Возможно, как я уже говорил, исторически верно, что такой жизнеотрицающий взгляд на мир на берегах Ганга возник в результате ослабления врожденной свежести и бодрости жизни под непреодолимым давлением природных и социальных влияний. Но это не решает проблему и не объясняет ее природу. Историческая точка зрения должна уступить место метафизической. Эти мысли возникают в результате глубокого метафизического размышления человека об отношении нашего собственного бытия к общему бытию мира; и это метафизическое размышление вместе с его результатом может повторяться в самых разных обстоятельствах, во все времена и во всех местах. Мы видим его живым у Шопенгауэра и других современных пессимистов.
Вообще, мысли древнеиндийского мира и мудрость слишком глубоки, слишком серьезны, слишком мощны, слишком основательны, слишком тяжелы и слишком прочно укоренены, чтобы на них мог повлиять самодовольный критицизм, всезнающая житейская мудрость и всеотрицающая поверхностность современной просветительской философии. Они – прочный, долговечный капитал человечества. Гимны Ригведы, изначальные основные идеи учения Веданты, порой трогательно глубокие размышления Упанишад стоят, как гранитные фигуры; пока существует мыслящее и чувствующее человечество, они будут непоколебимо стоять тысячи лет, а вечно меняющиеся теории современных философов мира будут разъедать их, как капли ртути. Но это относится и к идейному содержанию буддизма, независимо от того, согласен с ним человек или нет. Такие мысли – не преходящая пена на волнах несущегося потока истории, а вечные, неизменные типы человеческой природы. Они в определенном смысле – (как Аристотель говорит об истинах математики) – "αμεταχινητα".
Тот, кто отвергает буддийскую мораль, кто объявляет ложью отрицание мира, отрицание воли к жизни, а вместо этого утверждает утверждение воли к жизни как принцип, невзирая на все страдания и беды мира, обязан прежде всего продемонстрировать истинность своего принципа. И если он хочет обосновать его тем, что жизнь человечества предпочтительнее его небытия, поскольку человечество находится в процессе прогрессивного совершенствования и высшего образования, то он должен показать, в чем состоит это предполагаемое совершенство и в какой степени предполагаемый прогресс действительно является прогрессом, а не регрессом. Зачем и для чего это нужно человечеству? Но, вероятно, только для этого и только тогда, когда и по какой-либо причине там стоит находиться.
XIII.
Если учесть ту уютную яркость и трезвое спокойствие, с которыми Аристотель в "Никомаховой этике" излагает понятие и условия "счастья", Ευδαιμονια (предполагая, разумеется, что конечная цель, высшее благо, τελος человеческого стремления, воли и действия – это именно ευδαιμονια), чтобы затем пройти через последовательность его "этических" и "дианоэтических" добродетелей, чувствуешь себя перенесенным в чисто мирской дух специфически греческой моральной доктрины и моральной философии. Аристотель мыслит эвдемонию лишь как наиболее удовлетворительную организацию этой земной жизни, не заглядывая ни в какие трансцендентные "потусторонние" миры. И поэтому взгляд эллинских этиков на жизнь имманентен, но не трансцендентен, за исключением идеалиста, энтузиаста и поэта Платона. Только Платон устремляет свой взор к небу, а Аристотель – к земле, как это изобразил Рафаэль на картине "Школа Атма", а Гете описал словами в известном отрывке своей "Истории теории цветов".
Для Аристотеля, как и для подавляющего большинства греческих этиков, этика есть не что иное, как искусство "ευ ζην", земное искусство жить, "ars recte vivendi"; это учение о счастье или эвдемонология. Его этические добродетели, такие как доблесть, самообладание, великодушие, щедрость сердца (μεγαλοφυχια), спокойствие (πραοτης), правдивость (αληθεια), которые он пытается указать как золотую середину между крайностями "слишком много" и "слишком мало", – это те занятия, навыки, способы деятельности человека, с помощью которых он может и должен достичь высшего блага, своей естественной цели, а именно земной эвдемонии. У Аристотеля создается впечатление, что этому великому мыслителю, ставшему за тысячу лет столь авторитетным для интеллектуальной культуры и светской науки Европы, не хватило чувства глубочайшей, трагически сокрушительной, метафизически осмысленной, доходящей до сокровенного мирового бытия этической проблемы, как это ранее так сильно и жестко ощущали индийцы, а затем и христиане. Он знает только утверждение жизни, но не ее отрицание. Именно это и есть подлинное языческое греческое. Он не знает пессимизма, который у греков появляется крайне редко и в исключительных случаях, причем не как форма вырождения, не как полукарикатура или целая карикатура, как в "Тимоне Афимском" и в "Гегесте Пейсиханатосе". Утверждение жизни, а значит, и стремление к ευ ζην, к благому устройству жизни, рассматривается как нечто вполне само собой разумеющееся, и это несколько сомнительное "ευ" кульминирует в знаменитой эстетико-этической двойной категории χαλοχαγαθια. Если посмотреть на дело исторически, психологически, этнографически, то греческая этика отражает всю природную предрасположенность греков: физически и психически здоровый народ, энергичный и высокоинтеллектуальный, одаренный блестящим чувством красоты, в целом сангвиник, жизнерадостный, уверенный в себе, гордый и самоуверенный; мало неврастении и задумчивой меланхолии; нет самоистязания, нет гамлетоподобных натур, нет усталости от жизни. Часто упоминаемые кардинальные добродетели (σοφια, ανδρεια, σωφροσυνη, διχαιοσυνη) были отчасти интеллектуальными, отчасти общепрактическими, отчасти специфически нравственными чертами, требованиями, которые предъявлялись к "благородному и свободному человеку", при этом рабы игнорировались как подчиненная, низшая раса, как орудия труда, как полуживотные и приспешники природы. Аскетизм встречается и у греков, как у пифагорейцев, которые, как и учение о переселении душ, вероятно, унаследовали его от жрецов Египта, так и у стоиков, для которых он был подходящим средством закалки от ударов и превратностей судьбы. Греческий аскетизм не является, подобно индийскому, плодом отрицания жизни и мира, а скорее героическим инструментом правильного жизнеутверждения.
Кстати, нельзя забывать об одном обстоятельстве. Философской этике предшествует естественная мораль. Люди, народы, племена и расы имеют нравственные понятия, нравственные ценностные различия, нравственные требования, они отличают добро от зла, добродетель от порока, заслугу от недостатка, добро от зла, святое от позорного, не руководствуясь философией. Таким образом, стихийно возникает общественное мнение, естественная, натурализованная, народная мораль. И только потом приходят философы и вводят мораль в ту или иную этическую систему. Как эстетика не создает разницу между прекрасным и безобразным, а находит ее как факт, так и этика находит разницу между добром и злом, т.е. ту самую народную мораль, как данный факт. Если вы хотите узнать о естественной народной морали греков, ищите ее не только в размышлениях философов, но и в произведениях и песнях поэтов. У Гомера, у Гесиода, у Феогниса, у Эсхила, у Софокла – у этих великих поэтов сразу видно, что для эллинского народа было свято и что позорно, что он чтил и что проклинал. Достаточно вспомнить могучую песнь Эвменидов в финальной драме "Орестеи" Эсхила:
Мы хвалимся быстрым праведным судом;
Ибо тот, кто руку чистую от вины хранит,
На кого наш гнев никогда не падает.
Он жизнь свою проходит безропотно.
Но тот, кто, как и он, сознает обиду.
Скрывает окровавленные руки, -
Как свидетели права мы громко вступаем
К убитому, и себя ему доказываем.
Кто поразил, как мститель за вину кровную.
Так вокруг убийцы сплетается песня, Смятение, смятение, безумие, -
Вплетается песнь Эринниенсеста,
Беспомощный, смысл в сане, в человеческой силе бесплодной!
И т.д., и т.п.
Поистине, одно из самых мощных произведений трагической поэзии; и одно из самых мощных свидетельств нравственного сознания человечества.
XIV.
Жан Жак Руссо назвал христианство религией рабов. Рассуждая об этом с политической, а точнее, с демократической точки зрения, он сказал: "Les vrais chretiens sont faits pour etre esclaves" – Он имел в виду ту сторону христианской морали, которая всегда представлялась практическому мировому разуму утопией, которая даже в государствах и народах, называющих себя "христианскими", почти никогда не находит приверженности ни среди мирян, ни среди духовенства, более того, которую сама Церковь в своей практике постоянно нарушает на каждом шагу, а в теории часто уклоняется, вуалирует и тщательно оберегает. Лишь немногие мученики, энтузиасты, эксцентрики и основатели сект действительно следуют ему. Христос учит: "А Я говорю вам: не противься злому (τψ πονηρψ ); но если кто ударит тебя в правую щеку, подставь ему и другую; и если кто хочет взять у тебя одежду, пусть возьмет и плащ твой". (Матф. V, ст. 39-40). Он дает заповедь: "А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите обижающим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас". (Матф. V, ст. 44) – Кто поступает в соответствии с этим? Кто поступает в соответствии с этой заповедью? – Сам Христос. В величайшей беде в ту роковую ночь на Елеонской горе, когда один из Его учеников, защищаясь, выхватил меч и отрубил ухо солдату, Он повелел ему опустить меч в ножны. Он добровольно отдает Себя в руки похитителей и палачей, добровольно претерпевает невыразимые муки, добровольно умирает страшной крестной смертью. И крест на Голгофе сияет в веках как освященный символ. Вне всякого сомнения, Христос очень серьезно относился к этой заповеди. И это было рабское отношение. Именно об этом писал Я. И. Руссо имел в виду. В предпоследней главе "Социального договора" он оценивает религию и мораль с политической точки зрения. Он восхваляет христианство – "не нынешнее, а евангельское, которое существенно отличается от него" – как "святую, возвышенную, истинную религию", поскольку в ней "люди, которые все являются детьми одного и того же Бога, признают друг друга братьями"; Но он порицает ее "за то, что она не привязывает сердца граждан к государству, а отвращает их от всего земного", за то, что она проповедует только пассивность, только кротость, только терпеливое смирение с происходящим, но отвергает активное сопротивление, даже праведную самооборону, войну, даже праведную оборонительную войну, прогнание тиранов и узурпаторов. "Христианство, – говорит Руссо, – проповедует только рабство и покорность. Его дух слишком благосклонен к тирании, чтобы не стремиться всегда извлечь из нее выгоду. Искренние христиане созданы для того, чтобы быть рабами; они знают это и не беспокоятся об этом, так как эта короткая земная жизнь имеет в их глазах слишком малую ценность".
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































