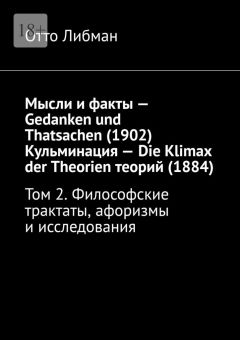
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 34 страниц)
Как уже говорилось, спор между идеалистами и натуралистами – это разница в степени, больше-меньше, и вряд ли можно провести очень жесткую границу. И те и другие подражают природе, только в разной степени и с разных точек зрения. Идеалист хочет выйти за пределы природы, хочет ее превзойти, но не может от нее уйти; натуралист хочет вернуться к природе, хочет ее скопировать, но не может до нее дотянуться. Или в лучшем случае: натуралист имитирует естественную природу, идеалист – естественную природу8 . Оба встречаются посередине.
В заключение, однако, позвольте сделать нескромное личное признание. Мировая слава Сикстинской Мадонны воспета бесчисленными языками всех народов, так что дальнейшие слова кажутся здесь излишними. И все же я не могу удержаться от того, чтобы не пролить каплю в море. Я должен лично признаться, что ни одна картина, которую я видел своими глазами, не произвела на меня такого ошеломляющего, неизгладимого впечатления, как это дивное произведение, одинаково трогательное по чистоте форм и по глубине чувств. С ранней юности она сопровождает меня в моих мыслях, как святыня.
XVI.
Особенность поэзии, в отличие от всех других искусств, состоит в том, что она использует язык, то есть является искусством языка, в котором язык рассматривается сначала как вспомогательное средство, а затем и как художественно оформленный материал. С помощью слов и языка поэт стремится вызвать у слушателя или читателя мысли, образные представления и чувства, которые есть у него самого, которые имеют эстетическую ценность в том или ином отношении и связаны с эстетическим удовлетворением. На этом основана та почти неограниченная универсальность, которая отличает поэзию от всех других изобразительных искусств и делает ее выше их всех. Ведь если изобразительное искусство ограничивается подражанием видимому внешнему миру, а музыка – подражанием бесплотному, невидимому внутреннему миру, то поэзия подражает всему, внешнему и внутреннему одновременно, то есть всему, что человек вообще знает, насколько это может быть выражено словами. Это самое универсальное из всех искусств. То, что, помимо содержания и предмета, она может художественно оформлять средства выражения, язык, одежду и костюм мысли, используя ритм, метр, структуру и рифму, в форму, радующую слух и ум, придает ей особое очарование, которое, однако, следует рассматривать лишь как приятное, но отнюдь не обязательное дополнение.
"Поэзия – родной язык человечества", – говорил Гаманн, учитель Гердера; фраза эта кажется несколько гиперболизированной, но, по крайней мере, верной, поскольку самые древние из известных литературных памятников, от гимнов Ригведы до Гомера и даже большинства книг Ветхого Завета, являются поэтическими произведениями, содержащими не историю, а поэзию. Возможно, он прав и в другом смысле.
Поэзия, эпос и драма были и остаются тремя чистыми жанрами поэзии. Первый из них, как выражение личных чувств поэта, носит ярко выраженный "субъективный" характер, два других – повествование или непосредственное изображение событий – имеют объективный характер. Между ними, однако, существует множество смесей, вариаций, разновидностей и переходных форм: лирико-эпическая, эпико-драматическая, драматико-лирическая поэзия. Если к этому добавить, что каждый из этих жанров, видов и промежуточных форм может встречаться как в связанной, так и в несвязанной речи, как в стихах, так и в прозе, то мы получим классификацию, охватывающую всю область поэзии.
Поэта от непоэта отличает отнюдь не использование или неиспользование стиха. Ведь, с одной стороны, совершенно непоэтическая тема может быть легко изложена в стихах, и существует масса стихотворной непоэзии; с другой стороны, несомненно, что около половины, а то и больше половины всей поэзии написано в прозе, а не в стихах. При этом следует иметь в виду, что не вся проза находится на одном уровне. Наряду с обычной прозаической прозой повседневной жизни существует ритмически оживленная и ритмически структурированная проза. То, что отличает поэта от непоэта, то, благодаря чему поэт становится поэтом, поэзия – поэзией, – это примерно то же самое, чем картина художника отличается от фотографии; это то, что поэт, художник вкладывает в вещь свою индивидуальность, что он не просто отражает и копирует реальный мир, а хочет обогатить его своим существом, вылепить его в соответствии со своим настроением, своим эстетическим чувством и вкусом. Даже самый ярко выраженный натуралист и принципиальный антиидеалист как поэт никогда не останавливается на сыром эмпирическом факте, а отбирает, сочиняет и конструирует то, что он скопировал, заимствовал и позаимствовал из мира фактов, так, чтобы это соответствовало его художественной тенденции, его эстетическому вкусу и идиосинкразии, его личному основному настроению. Каждый художник, каждый поэт отбирает и сочиняет; простую, эстетически совершенно необработанную реальность он оставляет науке, которая стремится только к знанию, а не к искусству, солнце которой одинаково светит и над справедливым, и над несправедливым и для которой всякое различие между прекрасным и безобразным полностью отпадает в пользу другого различия – между истинным и ложным.
Ритм и метр, музыкальная сторона поэзии оказывают на нас пленительное воздействие, которое мы не хотим разрушить ни за какие деньги. Под стихи Гомера плывешь, как по бесконечному, равномерно волнистому морю мира, под дивные стихи лорда Байрона «Ddilckv Hsrolck». Музыка стихов Гете действует на слух и сердце как целебный бальзам. Лишить эти стихи их музыкальной формы, перевести их в обыденную прозу было бы безответственным варварством, все равно что вырвать перья у маленькой птички или содрать яркую пыль с крыльев бабочки. Когда Шекспир в своих драмах смешивает и чередует прозу со стихом, у него есть на то основания. Более свободные ритмические формы, которые использовал Пиндар в своих гимнах и древнегреческая трагедия в своих хорах 5454
Я имею в виду, например, чудесный хор в «Филоктете» Софокла, который действительно успокаивает даже в чисто акустическом плане: υπν οδυνας αδαης, υπνε δ΄αλγεων, εναης ημιν ελθοις ευαιων, ευαιων αναξ. ομμασι δ΄αντισχοις τανδ΄ αιγλαν, α τεταται. ιθι, ιθι μοι παιων. χ.τ.λ. Philoct. v. 827 ff. Это музыка; музыка речи и мысли.
[Закрыть]и которым с удовольствием подражал Шиллер в «Мессинской невесте», самом совершенном его произведении, также оказывают весьма благотворное и бодрящее воздействие.
Это пленительное очарование, которое ритм и метр оказывают на нас в поэзии, проистекает из внешних и внутренних, более близких и более глубоких причин; оно льстит не только слуху, но и сердцу, уму, воображению; оно приводит мысли и чувства в равномерное волнообразное движение, и мелодичный поток мелодичных слов передается всему нашему внутреннему, духовному существу. Своеобразное натуралистическое объяснение этому дал К. Бюхер в своей замечательной работе "Arbeit und Rhythmus" ("Работа и ритм") – остроумном, дальновидном исследовании, умеющем объединить в единое целое множество, казалось бы, разнородных, далеких друг от друга вещей: поэзию, танец, музыку, игру и работу. Бюхер обращает внимание на то, что всякий непрерывный ручной труд выполняется ритмично и тактично, и что к ритмическим звукам работы как бы автоматически и естественно присоединяется наше произвольное подражание трудовой песне, особенно если эту работу, как, например, уборку урожая, прядение, греблю и т.д., выполняют несколько человек вместе. Он собирает трудовые песни разных стран, народов и культурных уровней: Мельничные песни, прядильные песни, молотильные песни, гребные песни и другие. Отдельно он говорит о происхождении поэзии и музыки, причем придерживается мнения, что ритм перешел от труда к искусству, и вполне возможно, что теория поэзии и музыки при дальнейшем исследовании в этом направлении приведет к интересным результатам. Однако, независимо от этого, еще более общим, еще более фундаментальным является тот факт, что вся наша физико-духовная жизнь протекает ритмично во времени и постоянно регулируется ритмами. Пульс и сердцебиение, вдох и выдох происходят в фиксированном, постоянном ритме, так же как ходьба и бег, взмахи рук при ходьбе и беге. Ритм регулярно делит время на равные отрезки и радует нас, поскольку вносит порядок в многообразие, а неритмичное, нерегулярное переходит в хаотичную бесформенность, в беспорядок и потому неприятно. Однако еще более общим является принцип, который в равной степени относится и к пространству, и ко времени, т.е. и к изобразительному, и к словесному искусству. Я назову его "принципом повторения". Равное деление пространства и повторение равных частей пространства так же приятно, как и равное деление времени и повторение равных частей времени. Пространственная симметрия и временная симметрия – частные случаи этого общего принципа. Повторение одного и того же количества единиц, групп одного и того же размера доставляет нам удовольствие, и в этом отношении можно проследить многочисленные параллели между архитектурой, скульптурой и живописью, с одной стороны, и поэзией и музыкой – с другой. Но если говорить конкретно о словесных или "тонических" искусствах, то в поэзии это метр, структура стиха, рифма, аллитерация, строфическая структура, рефрен; в музыке – такт, песня с повторением одной и той же мелодии, фуга, эанон, многократная вариация одной и той же темы. Повторение одних и тех же строф, одной и той же интонации и ударения, одного и того же количества слогов, повторение одних и тех же окончаний слов (рифма), одних и тех же начальных букв (аллитерация), одних и тех же стихов и строф, одного и того же рефрена, мыслительных параллелей, повторение одной и той же мелодии в песне, повторение одного и того же музыкального мотива последовательно вступающими и переплетающимися голосами в каноне и в фуге; симфоническая партия, постоянно варьирующая одну и ту же тему и возвращающаяся после многих вариаций к простой первоначальной начальной форме, или даже da capo al fine – все это частные случаи общего принципа повторения. В первой части до-минорной симфонии Бетховена очень простой мотив, состоящий всего из четырех нот, благодаря непрерывному, неутомимому повторению в разных тональностях развивается в одно из самых чудесных, мощных тональных произведений. – Аналогов этому в пространстве, т.е. в изобразительном искусстве, очень много. Однако применительно к словесному искусству необходимо подчеркнуть следующее важное обстоятельство.
Музыка и поэзия проходят во времени; их произведения, когда мы наслаждаемся ими, как бы разрушаются, пожираются, поглощаются временем и, когда мы ими насладились, к сожалению, заканчиваются и уходят, тогда как произведение изобразительного искусства, здание, статуя, картина остаются и сохраняются, и мы можем созерцать, смаковать и наслаждаться ими долгое время, всегда заново. Стихотворение, гимн, песня, музыкальное произведение заканчиваются, когда мы его прослушали, и мы, погруженные в томительное наслаждение произведением искусства, сетуем на его быстротечность. Само время и протекающее в нем произведение искусства невозможно остановить, чтобы, подобно статуе, хранить его красоту и наслаждаться ею непрерывно. Это плачевное положение дел в определенной степени исправляется принципом повторения, благодаря которому – если можно выразиться несколько тривиально в высоких материях – вступает в силу фраза "повторение материи изучаемого" (repetitio mater studiorum est). Повторяя снова и снова одни и те же звуки, одни и те же слова, одни и те же мысли, одну и ту же мелодию, одну и ту же тему, разрушительное действие времени как бы нивелируется; ценное обретает длительность, это ценное запечатлевается в нас как нечто возвышающееся над течением времени, навсегда поселяющееся в наших умах и сердцах.
XVII.
Ходить по вершинам красиво и поучительно. С вершины видно больше и дальше, чем в долине, даже если некоторые вещи остаются окутанными пеленой тумана и не все детали видны с микроскопической четкостью. В своей важной работе "О героях и героизме" Томас Карлхле описывает подобную прогулку на вершину и высотный путь, чтобы на ряде гордых примеров доказать истинность своего глубокого утверждения о том, что "история человечества – это история жизни великих людей". Величайшие из великих, возвышающиеся над своим возрастом и высоко поднявшиеся над всеми изменениями эфемерного модного вкуса, учат нас лучше, чем целые легионы самых маленьких и ничтожных. Только светила, только люди самого высокого ранга, только "герои", такие как Мухаммед, Лютер, Кромвель, Руссо и т.д., написаны Карлхле в стиле великой фрески и характеризуются как решающие факторы в истории человечества. В качестве представителя поэтического искусства Карлхле выбрал прежде всего Данте; Данте, "голос десяти безмолвных веков" с его "мистически непостижимой песней", – его "герой-поэт"; к нему, как это справедливо, присоединяется Шекспир в его гигантском росте; Гете появляется на горизонте на третьем месте.
Мы также идем по вершинной тропе и высотной тропе, хотя и другой, но встречающейся и пересекающейся с высотной тропой Раннеле в этом месте. Мы хотим задержаться на этом перекрестке и рассмотреть его поближе. Почему Карлайл выбирает Данте и Шекспира? Данте, видимо, потому, что Данте – самый религиозный из всех великих поэтов и поэтому наиболее близок Карлайлю, который полон религии и увлечен ею. Шекспир же – не только потому, что он англичанин; возможно, даже несмотря на то, что он англичанин. Путь Карлхле к вершинам лежит через сферу культурного развития, наш путь к вершинам лежит через сферу искусства. Но для нас, как и для него, культ героя – это нечто очень красивое, очень ценное. Через восхищение, восхищенное почитание и восхищенное понимание истинного гения и его произведений человечество возвышается, совершенствуется, облагораживается; оно уподобляется гению через понимание его произведений, чувствуя, признавая и признавая их образцовость; подобно тому как железо, притягиваясь магнитом, намагничивается, превращается в магнит.
У Данте есть мировой горизонт, как в прямом, так и в метафорическом смысле. Как он сам говорит, «его объект – человек». Не тот или иной человек, а человек, αυτος ο ανθρωπος; человек вообще, человечество в целом, рассматриваемое с определенной точки зрения. Уже в этом выражается величие дела его поэтической жизни. У Данте есть замкнутая, самодостаточная концепция мира, которая прочно обрамляет и внутренне пронизывает все его мышление и чувство, его поэзию и начинания. Это, как известно, аристотелевско-экклезиастическая картина мира средневековья, абстрактная схоластическая прозаическая форма которой, одобренная церковью, была разработана Фомой Аквинским. Данте принял его как вероучение и поэтически преобразил. Для Данте Вселенная, понимаемая во внешнем, космологическом и астрономическом смысле, представляет собой шарообразное целое, центр которого занимает наша Земля; Луна, Солнце и планеты от Меркурия до Юпитера движутся вокруг Земли по фиксированным, вечно неизменным законам и в концентрических сферах; Над всем этим миром находится πρωτος ουρανος, небесный свод, усыпанный созвездиями; за его пределами – Эмфреум, обитель перводвигателя, πρωτον χινουν или primum wovens, потустороннего божества, приводящего все в движение. В духе Аристотеля, великого «мастера всех знающих»,5555
il maestro di color che sanno. Inferno, IV, 131
[Закрыть] Данте представляет себе Вселенную как великое метафизическое царство низших и высших физических форм и считает, что материя, образующая себя и проходящая через это царство стадий, достигает своей конечной цели, своего высшего назначения, в человеке, высшем земном роде.
Так и для Данте, понимаемого во внутреннем, этико-религиозном смысле, человек, высшее существо, созданное Богом, но способное в силу свободы воли к греху, впавшее в грех по своей вине и потому нуждающееся в искуплении, является центром мира, вокруг которого развиваются все существенные события, весь нравственный процесс мира. В зависимости от вины и заслуг, от веры или неверия человек либо осуждается в преисподнюю, либо допускается на гору очищения (чистилище), чтобы после долгих испытаний постепенно подняться на вершину и, наконец, по благодати вознестись через все сферы в обитель Божества. В посвящении «Божественной комедии», Данте сам говорит: «Предмет поэмы – человек, поскольку он становится жертвой награждающей или карающей справедливости в результате своей свободы воли, действуя хорошо или плохо». (Subjectum est homo, prout merendo et demerendo per arbitrii libertatem justitiae praemiandi et puniendi obnoxius est). И далее: «Цель всей поэмы – освободить людей, в той мере, в какой они принадлежат к этой жизни, от состояния страдания и привести их к состоянию блаженства». – Независимо от того, что это мировоззрение, по крайней мере в его космолого-физическом аспекте, было разрушено Коперником, Джордано Бруно и наукой нового времени, для Данте это замкнутое мировоззрение незыблемо, он верит в него, он убежден в нем, оно составляет незыблемую основу, фундамент и почву его мысли и поэзии.
Для Шекспира предметом его поэзии тоже является человек, хотя и в несколько ином смысле, чем для Данте.
Что касается Данте, то он все свои интеллектуальные силы ставит на службу своей нравственно-религиозной и метафизической концепции мира. И эти духовные силы велики. Он действительно призван быть "голосом десяти безмолвных веков". Его гигантское воображение, одинаково сильное и в выдумке, и в асимволизме, и в удержании, обострено до предела. Необъятная сцена его странствий: подземный мир, гора очищения и рай – предстает перед его внутренним взором с неосязаемой реальностью, населенной бесчисленными толпами проклятых, кающихся и святых. Одним из следствий или побочных эффектов этой провидческой силы воображения является сила и краткость его дикции, которая ярко рисует образ двумя словами. Его слова, как и его мысли, тяжелы, как центнеры. Каждая фигура, с которой он говорит и общается, столь же определенна, как если бы он видел их во плоти; их можно нарисовать; он видит их вплоть до взгляда, мимики, положения тела, движения глазных яблок; слышит цвет голоса. В подземном мире к нему и его проводнику Биргилу приближается толпа теней, торопливо плывущих; они летят, "как стая журавлей в вожделении". Вместе с Биргилием он проходит мимо одного из благороднейших проклятых; он молча и неподвижно смотрит вслед удаляющимся борцам, "как лев в покое". Или в другом отрывке:
Когда мы встретили толпу душ,
Которые шли нам навстречу по мостовой.
И каждый из них смотрел на нас, как на новолуние.
Как вечером два человека смотрят друг на друга.
И они устремили свои взоры на нас,
Как из игольного ушка престарелый портной.
Подземный мир, XV, 16-21.
В Чистилище они идут по опаснейшему пути, по узкому карнизу между огненным обрывом и бездной; тогда проводник наставляет его:
В этом месте ты должен
Держать глаза короткими в поводьях.
Purg. XXV, 118.
Он стоит в направлении Полярной звезды, поднятой к небу:
С нетерпением взгляд мой устремился в небо, Туда, где звезды кружатся медленней всего, Как колесо первое на оси своей.
Purg. VIII, 85.
Для его образной деятельности и языка характерна глубокая, торжественная серьезность, пронизывающая его творчество, с которой он отдается своей поэтической профессии и, отрешившись от всякой легкой игривости, занимается поэзией, как священным долгом, возложенным на него. Из господствующего основного настроения и основной идеи, которые он держит с железной энергией, возникают его осязательно конкретные призрачные творения, как необходимые продукты природы, и он с верностью своему долгу изображает то, что видит духовными глазами, слышит духовными ушами, что должен сообщить человечеству. Он видит и говорит как пророк. К этому следует добавить необычайное богатство мысли и аллегорическую глубину, обнаруживающую символизм везде, во всех фигурах, от демонов и гримас подземного мира до Беатриче, которую он обожает как святую, и распознающую символы во всех образах. Его тяжелая, торжественная серьезность вбирает в себя и чувствует судьбу всего человечества, его стремление и безумие, его вину и вечную тоску. Проникнутый величием своей задачи, он ставит на службу ей богатейшее интеллектуальное образование, все знания и мышление своего времени: философию, историю, античную мифологию, политику вплоть до сиюминутных итальянских локальных событий, а также астрономию, так что перед его глазами всегда твердо и определенно стоят соответствующие созвездия планет и сиюминутное положение солнца и луны на небе. Он включил в свою работу всю аристотелевскую метафизику форм.
XVIII.
Насколько духовным, насколько церковным, насколько глубоко христианским является Данте, настолько же мирским, поистине языческим представляется нам Шекспир. В нем есть что-то нордическое и берсеркское, древнегерманское и древнешотландское язычество с его ведьмами, привидениями и жуткими призраками; причем привидения и духи появляются не только там, где им положено, не только в сумерках на туманных шотландских болотах и на ночной террасе замка Эльсинор, но и на солнечном юге, в Юлии Цезаре, в Макбете и Гамлете. Христианство Шекспира, похоже, не вызывает сомнений. В "Короле Лире" вообще нет священника, а есть, как и в "Макбете", врач; в "Гамлете" несколько священников все же появляются, но только в качестве статистов, чтобы произнести несколько слов на похоронах Офелии, которые столь же нетерпимы, сколь и незначительны. До сих пор не решен вопрос о том, был ли Шекспир на самом деле протестантом, а не католиком. К пуританам он относится так же легкомысленно, как и к римской иерархии, папам и кардиналам; из многочисленных священников, появляющихся в пьесах короля, практически только архиепископ Кранмер в "Генрихе VIII" предстает как набожный и достойный представитель церкви. Как же обстоят дела с религией в его случае? Каким был Шекспир? Был ли он скептиком? Был ли он недифференцированным? Был ли он суеверен? Был ли он фаталистом? Верил ли он в божественное провидение и мировое правительство? Или в слепую, "неразумную" судьбу, которая "сокрушает" и праведных, и неправедных? Конечно, он вкладывает в уста своих героев Бога, Христа, ангелов и святых, а то и Юпитера, когда этого требует их положение и характер; он заставляет их молиться, клясться, каяться, проклинать, каяться, быть благочестивыми или безбожными; это вопрос драматической характеристики, вопрос художественного расчета и экономии; иногда "е" – тоже пустая формула; Ричард III любит клясться "святым Павлом!". Но была ли у Шекспира лично, как у человека, религия, в которую он верил и которая была конечной основой его поэтического творчества? Разве не говорят от него пессимизм, усталость от мира и презрение к нему, особенно в его самых гениальных творениях, таких как "Гамлет" и "Лир"?
Язык Данте так же лаконичен, как и язык Шекспира. Данте высекает свои слова в камне, Шекспир изливает на нас свои мысли из рога изобилия. Оба поэта мыслят образами, а не сухими понятиями. Оба подслушивали интимные черты природы художественным глазом. Удивительно богат этим Шекспир. В "Сне в летнюю ночь", когда Тесей и Ипполита осматриваются на лесном холме перед началом охоты, а лай стаи внизу будит ре-бятишек, он говорит о недавно выведенной длинноухой собаке рафе:
Широкомордая, пестрая, с висячими попонами.
С ушами, что росу с травы смахивают.
Акт IV, экз. I.
В "Макбете" в вечер убийства Банко говорится:
Темнеет; утомленный полетом, ворон уже спешит К галкам, греющимся в роще.
Акт III, сцена 2.
Незадолго до этого:
Летучая мышь окончила свой монашеский полет, По зову темной Гекаты рогатый бондарь сонно гудит В ночной дремотный колокол звонит, Произошло дело ужасное.
Act III, Sc. 2.
Уподобления, образы, метафоры льются из воображения Шекспира в таком изобилии, что его речь то тут, то там парит над землей обычной прозы, едва касаясь ее кончиками пальцев.
Генрих V обращается к разоблаченным заговорщикам:
Ваши доводы падают обратно на вас. Как псы, растерзавшие своего хозяина.
Акт II, сцена 2.
Антоний, открывая перед глазами народа труп Цезаря, говорит:
Вот, смотрите! Видите, как вошел кинжал Касфия;
Смотрите, какой шум поднял коварный Каска!
Вот пронзил любимый Брут;
И когда он вырвал проклятую сталь, Смотри, как кровь Цезаря за ним бежит, Как будто в дверь бросилась, чтоб утопить, Действительно ли Брут так недобро стучал.
Акт III, сц. 2.
Порой богатая образность поэта, мыслящего образами, переходит в перебор, в гипертрофию мысли и сверхъестественность. Но лучше слишком много, чем слишком мало, лучше изобилие, чем бедность.
Шекспир охватывает все человечество. В его драмах выступают и действуют более четырехсот лиц: люди всех родов и видов, мужчины и женщины, старики и дети, короли, священники, глупцы, герои и мемы, нежные девы и коварные ухажеры, слуги, любовники, мысли и факты. Том H. 22
Могилы мертвых, мокрые кормилицы, сводницы, призраки и ведьмы, люди чести и злодеи, обыватели и аристократы. Каждый человек, по крайней мере, тот, кто так или иначе находится на первом плане, имеет свой индивидуальный характер, имеет плоть, кровь и твердые кости; только самые второстепенные личности вынуждены, как и положено, довольствоваться типичной характеристикой. Его герои, поскольку их идиосинкразия намеренно выделена и реализована с максимальной последовательностью, производят впечатление психологических образцов, у которых обнажены сердца и почки, в которых задет тот или иной нерв; впечатление сверхнормальной, преувеличенной односторонности. Но поэту так хочется, потому что он хочет показать человечеству в зеркале его добродетели и пороки в их самом неповторимом виде. Разве не так же поступает Мольер? Страстная горячая любовь с ее буйным блаженством и горькими муками ("Ромео и Джульетта"), слепая зеленоглазая ревность, безнадежно ставшая жертвой ядовитой клеветы ("Отелло"), демоническое честолюбие, подпитываемое демонической женщиной ("Макбет"), безрассудная, безрассудная храбрость (Перси Хотспур), безудержная аристократическая гордыня, непокорность и высокомерие (Кориолан), лютая вражда, разгоревшаяся до дикой ненависти под влиянием самых страшных разочарований (Тимон Афинский); бессердечный, презренный тиран, взошедший на королевский трон через неслыханные злодеяния и реки крови (Ричард III), дьявольский, злобный злодей (Яго в "Отелло", Эдмунд в "Лире"), честный, прямой человек чести (Брут), змеиный, ловкий популярный оратор и софист (Маркс Антоний), гурман и карусельщик (Фальстаф), неистощимый на шутки и остроты, анекдоты и смешливый циник, красноречивый, ясноглазый, мудрый придворный и болтун (Полонис), гениальный, глубоко задумчивый принц (Гамлет), не способный действовать из-за своей задумчивой гениальности и самоистязания, своенравный, по-детски безрассудный королевский старик, испорченный врожденным королевским достоинством, который потом страшным образом становится мучеником своего безрассудства (Лир), – они предстают перед нами в сверхнормальном величии, и мы видим в колоссальном вогнутом зеркале, что тайно дремлет в груди человечества и во что оно может превратиться. – Найдется ли поэт, старый или новый, который создал бы такую фигуру, как этот Гамлет? Из бесчисленных комментариев, написанных по этому поводу, ни один не исчерпывает загадку, потому что она неисчерпаема, как неисчерпаема загадка человеческой груди.
Если Данте говорит о своем произведении "предмет поэмы – человек", то "человек" – это и предмет Шекспира. Он охватывает все человечество во всех его глубинах и высотах, во всех его чувствах и страстях, во всех степенях и оттенках интеллекта, от самого мелкого, самого тривиального, высмеивающего себя своей банальностью, повседневной болтовней и суетой до вершин высочайшей гениальности, до бездн безумия и тех неопределенных пограничных областей, где разум и безумие, остроумие и безумие пересекаются и переходят друг в друга. Мастерство, с которым Шекспир подслушивал некоторые необычные, ненормальные состояния души у природы, хорошо известно и вызывает восхищение. Леди Макбет ходит во сне и разговаривает во сне, видит с открытыми глазами сны, ничего не видя в окружающей действительности, наполовину выдавая своими обрывистыми словами ужасные преступления; Офелия, потерявшая рассудок из-за обманутой любви и убийства отца ее любовником, смеется и хохочет.
Офелия, потерявшая рассудок от обманутой любви и убийства отца своим любовником, смеется, разбрасывая цветы, украшенные тростником, поет пикарески, смешивая аллюзии на то и это, хаотично смешивая смысл, бессмыслицу и глубокомыслие; Гамлет, чье симулированное безумие с иллюзорным узнаванием и путаницей лиц так изумительно точно имитируется, что не только Полонис, но и другие люди считают его сумасшедшим, что порой сомневаешься, не настоящее ли это безумие, и который затем, сквозь принятую маску безумия, рысьими глазами зорко наблюдает и изучает всех окружающих его людей.
"Хоть это и безумие, но в нем есть метод".
Лир, очнувшийся от своего душевного расстройства в объятиях детской любви, лишь для того, чтобы стать жертвой еще более страшных бедствий. И еще сцена во время бури в хижине на пустоши, где безумный Лир, профессиональный шут и замаскированный одержимый Эдгар беседуют друг с другом. – Врачи-лунатики, научные патологоанатомы души, удивляются и ищут правильный диагноз, как и в случае с настоящими пациентами. Я знаю только одну драматическую сцену, в которой другой поэт сравнялся с Шекспиром в этом отношении: сцена в подземелье в конце первой части "Фауста" Гете. Разбитые сердца, помутившиеся рассудки, путешествия, безумные речи – в томительной естественной правде.
"О, какой благородный ум здесь свергнут!"
Тот, кто это наблюдает, подслушивает и сочиняет, обладает не только глубочайшим пониманием, но и глубочайшим сердцем и датированным состраданием к судьбе человечества.
При всей своей огромной разнородности Данте и Шекспира объединяет одно: оба они – поэты мира, у них мировой кругозор, они вбирают в себя судьбу всего человечества и его отношение к мировому порядку. Можно сказать: Данте осуществляет трансцендентное суждение о мире, Шекспир – имманентное суждение о мире, и делает это с безграничной гениальностью. Однако если под "поэтической справедливостью" понимать наказание за каждый проступок, воздаяние за каждую заслугу, искупление и воздаяние за каждую вину, восстановление на наших глазах нравственного равновесия, то в Шекспире это прослеживается лишь местами. Шекспир называет хороших хорошими, плохих плохими; и он не только называет их так, но и достаточно конкретно и убедительно ставит их перед глазами; он подносит свое увеличительное зеркало к человечеству и показывает нам, как человеческие характеры, человеческие страсти естественно развиваются в сторону добра или зла. Но где и как, по его личному убеждению, должно и будет происходить окончательное уравнивание всех несправедливостей, на этот метафизический вопрос он умалчивает. Здесь над великим поэтом нависает непроглядная тьма.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































