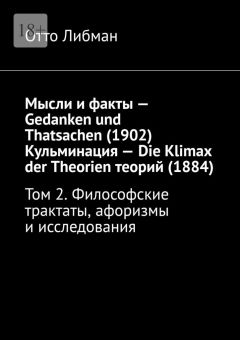
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 34 страниц)
Пятая глава. Теории третьего порядка
Провести границу между правдой и вымыслом – идея хорошая! Но труднореализуемая! Возможно, не везде осуществимая! Было время, когда суточное вращение Вселенной и периодические орбиты планет считалось объяснимым замечанием, что круг – самая совершенная и правильная из всех орбит, и поэтому мир и небесные тела должны вращаться по кругу. (6) Было и другое, не очень далекое от нас время, когда заслуженные ученые провозглашали, что мифические фигуры греческой мифологии должны объясняться как аллегорические символы физических сил и природных явлений, и тогда считалось осмысленным объяснением, например, сказать, что Диоскуры, эта божественная пара близнецов, есть не что иное, как северный и южный полюс магнита или как положительное и отрицательное электричество. К какой научной категории отнести подобные объяснения, остается на усмотрение и изобретательность других. Теперь перейдем к более сложному случаю.
Теории первого порядка были имманентно-эмпирическими. Теории третьего порядка не только трансцендентальны, но даже метафизичны, что, впрочем, требует специального комментария. То есть: они тянутся к необусловленному; они хотят вывести из необусловленного все то, что в нашем познании эмпирично и гипотетично, то есть то, что остается схваченным в отношениях.
Тот факт, что несколько мистический ореол, некогда окружавший метафизику как якобы высшую из наук, давно превратился в терновый венец, хорошо известен, но пока он не имеет отношения к моему исследованию, в котором различные типы теории изначально не рассматриваются как объекты объективной критики, а лишь как объекты классификации и сравнительной характеристики. Как исторический факт, как интеллектуальное образование человеческого разума, метафизика существует в большом количестве индивидуально различных образцов, и до сих пор находятся мыслители, желающие приписать ей законное место в строю гуманитарной науки. Этого следовало ожидать, и поэтому мы ставим неизбежный предварительный вопрос: Что, собственно, означает метафизика? Какое знание является метафизическим?
Смысл этого понятия несколько неоднозначен и сомнителен.
Монументальным трудом, впервые получившим это название, как утверждают, по странной случайности, является фундаментальная философия "Прима философии" Аристотеля. В ней речь идет о субстанции и случайности, о материи и форме вещей, о деятельной силе и цели, о прорастании и развитии, т.е. о таких объектах и понятиях, которые и в современной научной литературе вызывают необычайное количество дискуссий. Однако в течение двух тысячелетий значение этого слова так часто и в разных направлениях изменялось и стало настолько эластичным, что в настоящее время, кажется, почти на усмотрение каждого отдельного писателя остается тот смысл, который он хочет придать ему с помощью произвольного определения, чтобы затем либо воспеть хвалу метафизике, либо, что чаще, излить на нее свое презрение. В конце концов, слово можно определить как угодно, но потом придется придерживаться этого определения.
"Первое зависит от нас;
Со вторым мы слуги".
– Гете, "Фауст
Ведь ясность и последовательность в использовании слов – одно из важнейших условий не только научного понимания, но и любого разумного обмена мнениями. Так в каком же смысле следует употреблять то или иное слово?
Бэкон из Верулама отождествляет метафизику с учением о конечных причинах (causis finalibus), которое он не без меткой иронии сравнивает с верстальскими девственницами, святыми, но бесплодными; метафизика для него, откровенно говоря, невыгодная мечтательность, и он хочет, чтобы в интересах интеллектуального и практического прогресса она была самым строгим образом отделена от физики, которая, по его мнению, является единственно полезной наукой о действенных причинах (causae efficientes). Такое объяснение слова очень узко; оно явно слишком узко по отношению к явно отрицающим цель, антителеологическим системам, таким как эпикурейство и поздний спинозизм. Другие говорят, что метафизика – это псевдонаука о том, что лежит за пределами опыта, учение о сверхчувственных и сверхэмпирических вещах, например, о Боге, свободе воли и бессмертии или о существенных отношениях между материальным и духовным миром; при этом в последнее время, в основном inter lineas [между строк – wp], высказывается мнение, что эта псевдонаука есть не что иное, как химеры и безотносительные заблуждения. Однако это определение страдает противоположной ошибкой: оно неполно и слишком широко. Ведь если принять его всерьез, то световой эфир и электрические флюиды наших физиков, атомы, молекулы и сродства наших химиков, безусловно, попали бы в сферу метафизики; каждая гипотеза, касающаяся того, что не является непосредственно эмпирическим, тогда eo ipso [per se – wp] уже была бы метафизической догмой; следствие, которое вряд ли встретит всеобщее одобрение. Напротив, следующее определение представляется мне более универсальным и более конкретным, и в то же время наиболее адекватным общей исторической традиции:
Метафизическое – это умозрение, теория, а также изолированное утверждение, которое полагает себя способным выйти за пределы всего относительного, следовательно, мысленно постичь нечто абсолютно реальное.
Это номинальное определение фактически в равной степени применимо ко всем исторически существующим частным случаям, и именно в этом смысле мы хотим использовать это слово здесь. Очевидно, что оно уже соответствует намерениям Аристотеля, когда он рассматривает свою Prima Philosophia как науку о первых принципах и высших причинах. Оно одинаково хорошо подходит и к учению об идеях Платона, и к антителеологическому натурализму Спинозы, и к окказионалистскому дуализму картезианцев, и к монадам и предустановленной гармонии Лейбница, и к "науке абсолютной идеи" Гегеля, и к "миру как воле и воображению" Шопенгауэра, и к плюралистической теории реальности Гербарта. Поэтому она принимается нами. Когда выше было сказано, что теории третьего порядка являются метафизическими, то это должно означать, что это такие теории, которые стремятся осмыслить некоторый круг явлений данного мира из якобы высших, безусловных принципов.
Однако в этом случае с точки зрения общего учения о науке и критики познания сразу же становится ясно, что различие между теориями второго и третьего порядка изначально можно искать только в субъективной стороне. Если теоретик считает свои принципы объяснения реальности абсолютно исходными, отрешенными от всех связей, не выводимыми из более высоких принципов, полностью соответствующими внутренней сути и сущности вещей, то он метафизик; если же он этого не делает, признает проблематичность и условность своих принципов и оставляет возможность их восхождения к еще более высоким реальным основаниям, приближающимся к сути вещей и пока еще не открытым, то он не метафизик. Однако, кроме того, ясно, что это различие является текучим, а не фиксированным, что всякая теория второго порядка сразу же превращается в метафизику, т.е. в теорию третьего порядка, как только она объявляет себя абсолютно действительной и соответствующей "внутренне" реальному, отрицая или неверно оценивая его лишь относительную действительность и гипотетический характер.
Например, математическая психология Гербарта может рассматриваться лишь как гипотеза; Его механика волнений и самосохранения, запретов и подъемов, теория равновесия и движения, опускания и подъема, ассоциации и воспроизведения идей, дедуктивное объяснение непроизвольного хода мыслей в личном сознании представляют собой весьма проницательную теорию второго порядка, вполне достойную серьезного изучения, и в этом отношении стоят примерно на одном уровне с волнообразной теорией физической оптики.
Однако ее создатель категорически называет метафизикой, помещая ее принципы в область абсолютно реального и выражая их с претензией на аподиктическую достоверность. То же самое можно сказать и о химическом атомизме, поскольку он рассматривается некоторыми не только, как это должен признать каждый человек, как весьма полезное допущение, но и, в чем можно только сомневаться, как интеллектуальный образ сокровенной сути вещей. Действительно, даже самый наивный реализм есть та концепция мира, которая просто останавливается на чувственно-перцептивном образе мира и, не задумываясь о более глубоких условиях, приписывает ему абсолютную реальность, Следовательно, несмотря на все скептические угрызения и феноменалистические размышления, физические протесты и физиологические эксперименты, несмотря на энтоптические ощущения, красную слепоту, зеленую слепоту и другие сенсорные аномалии, игнорируя иллюзии, галлюцинаций, визионерских и гипнотических состояний, специфически человеческое представление о мироздании со всеми его формальными и качественными предикатами выносится за пределы человеческого сознания и гипостазируется (объективируется – wp], действительно прямо объявляет реальностью только чувственное и кажущееся, а все остальное – химерами и абстрактными фантазиями – даже этот довольно наивный вид реализма есть не что иное, как странная разновидность метафизики. И хотя, казалось бы, он вовсе не покидает сферу фактического, эмпирически данного, а цепляется за нее, исключая все неэмпирическое и гипотетическое, тем не менее он выходит за рамки эмпиризма именно потому, что считает констатируемый факт абсолютным, а последний никак не может быть познан эмпирически, а лишь предполагает трансцендентальную догму, которая едва ли может быть понята в силу множества противоречащих друг другу примеров.
Итак, когда гипотеза становится фактом, когда то, что раньше было только предположением, вдруг превращается в наблюдательный факт (например, в результате сильного усиления наших оптических приборов), тогда построенная на ней теория переходит из второго в первый порядок. И наоборот, если простая гипотеза, до сих пор или навсегда ускользнувшая от наблюдения, возводится в ранг безусловной догмы, то основанная на ней теория переходит из второго в третий порядок, т.е. превращается в метафизику. Нет недостатка в исторических примерах обоих типов смены рангов.
Того, что было сказано до сих пор, еще недостаточно. Необходимо существенное дополнение. Приведенное выше определение предиката "метафизический" еще не исчерпывает смысла существительного "метафизика", каким оно предстает перед образованным сознанием – более четким или более расплывчатым, как объект либо почитания, либо отторжения. Мы должны сказать гораздо больше, мы должны откровенно признать это: Метафизика в целом есть или хочет быть не только абсолютной теорией, развитой из абсолютных принципов, но и универсальной теорией, мировой теорией kat exochen [в себе и для себя – wp]. Она отличается от других наук не только претензией на абсолютную достоверность, но и абсолютной масштабностью. Она хочет все объяснить, окончательно приподнять завесу явлений, раскрыть природу и внутреннюю связь всех вещей, сделать понятным факт существования мира в целом, дать главный ключ ко всем конечным проблемам внутреннего и внешнего мироздания. Короче говоря, если это вообще возможно, она станет краеугольным камнем в многоуровневом здании нашей науки.
Это очень смелая мысль; – предположение! И все же, как можно показать, оно вполне оправдано как норма, модель, цель, регулятивная идея.
Признается, что совокупность всех эмпирических и гипотетических отдельных наук ведет чисто идеальное существование, а на самом деле лишь более или менее крупные фрагменты знаний распределены тут и там в головах стольких-то и стольких-то ученых-специалистов и далеко не всегда актуальны и присутствуют там. С точки зрения лягушки, эта идеалистическая совокупность образует анархию, а не логически стройную, упорядоченную систему. Каждая отдельная теория, ограниченная каким-либо фрагментом внутреннего или внешнего мира, сама по себе должна быть логически непротиворечивой и в лучшем случае является таковой. Но частично эмпирические, частично гипотетические принципы этих теорий, в соответствии с их спорадическим способом возникновения, поначалу чисто случайно и не всегда и не последовательно находятся в желательных отношениях взаимной совместимости. Эта изолированность и несовершенная совместимость принципов должна восприниматься нами как зло, и так оно и есть. Наш разум должен требовать фундаментальной науки, в которой логическая связь продолжается и устанавливается за пределами специальных принципов отдельных наук вплоть до некоторой конечной точки всего знания, будь то единичного или множественного. Он должен постулировать окончательную и высшую теорию, в которой совокупность принципов отдельных наук, в той мере, в какой они вообще совместимы и потому логически разрешены к сосуществованию, предстает перед нами как система следствий абсолютно безусловных принципов. Предположим, что все отдельные науки о человеке достигли своей окончательной формы; предположим далее, что на пьедестале этих законченных отдельных доктрин была бы построена в вечно действительной форме и высшая из всех теорий, тогда, и только тогда, и только тогда был бы осуществлен тот идеал, который на всех своих трудных путях, отклонениях и обходах светит человеческому исследованию и мысли на далеком горизонте в виде гигантского образа и манит нас к себе поднятым венком победы.
Теперь эта наука будет метафизикой. Ее принципы и она сама будут абсолютными как в субъективном, так и в объективном смысле. В частности, она должна была бы помочь нам выйти за пределы предельных первичных отношений, самых радикальных противоположностей, которые мы знаем; за пределы трансцендентальной оппозиции между субъектом и объектом воображения, которая присуща всему нашему познанию на каждом шагу, за пределы имманентной оппозиции между материальной и духовной реальностью, посредством которой данный нам мир рассечен на две столь тщательно разнородные половины. Она должна была бы представлять собой нечто безусловное, в качестве последовательностей чего были бы логически выведены и поняты эти две основные противоположности, их взаимная связь и, более того, вся сеть отношений, в которых находится в подвешенном состоянии наше эмпирическое и гипотетическое познание внешнего и внутреннего мира.
Это, однако, в высшей степени прометеевская идея метафизики. На самом деле она стремится к интеллектуальному богоподобию. Не зря Аристотель объявляет nous poetikos, разум, мыслящий и распознающий принципы в человеке, непогрешимым в своей чистоте и являющимся чем-то божественным в смертном; не зря Гегель в пантеистическом повороте отождествляет свою диалектику абсолютной идеи с абсолютным мировым разумом. Ввиду величия мысли очень понятен тот неизбывный энтузиазм, та глубокая серьезность, то упорное душевное усилие, с которым все подлинные, убежденные, великие метафизики посвящали и приносили себя в жертву цели своей жизни. Она была бы понятна даже в том случае, если бы после добросовестного изучения всего этого титанического труда нам пришлось заключить скептическим изречением "In magnis voluisse sat est" (В великих делах достаточно просто иметь желание) и смиренно признать, что ни одно вавилонское башенное сооружение не достигает небес.
Таким образом, чисто интеллектуальная, или чисто научная, мотивация идеала метафизики в общих чертах прорисовывается. Это именно то отношение зависимости отдельных наук от всеосновы фундаментальной науки, которого требует логическая природа нашего разума и которое Аристотель описал во второй главе первой книги своей "Метафизики", Декарт – в "Dissertatio de methodo" и в "Regulis ad directionem ingenii". Не следует отрицать, что это лишь подчеркивает одну сторону вопроса. Помимо научной, существует совершенно иная мотивация, уходящая корнями в эмоциональную сферу, которая направлена на достижение точно такого же идеала. Но мы ее здесь игнорируем, с точки зрения доктрины науки она не рассматривается.
То, что задача метафизики, хотя и очень возвышенная, может быть, даже слишком возвышенная, тем не менее фактически совершенно оправдана, можно доказать повсюду без труда. По любому поводу, начиная с самых обычных предметов, мыслящий ум может быть побужден к все более и более глубокому размышлению и очень быстро окажется поднятым через всю вершину теорий к высшему уровню мысли. Например, мы видим камень, лежащий у дороги, или птицу, оживленно летающую в воздухе. На камне появляется характерная форма кристалла или окаменевшая раковина, птица ищет пищу для своих птенцов, ожидающих в гнезде. Таким образом, через сферы геологии, физики и астрономии, а здесь и через зоологию, физиологию и психологию мы быстро продвигаемся к все более высоким проблемам. Первый объект – камень – вызывает в памяти геологические объяснения и теории образования земной коры и ее пластов, частично путем кальцификации, затвердевания и кристаллизации раскаленных расплавленных веществ, частично путем затвердевания грязеподобных растворенных веществ; возникает и требует решения спор между нептунизмом и плутонизмом; возникает и требует ответа ряд физических проблем, например, вопрос о неизвестной причине сцепления твердых тел; мы приходим к теории образования планетной системы Канта-Лапласа, которая, наряду со спектральным анализом и астрофизикой, служит основой и отправной точкой для геологического плутонизма; Дойдя мыслью до этой точки, мы мысленно видим широкую перспективу огромного процесса чередования возникновения и гибели миров и задаемся вопросом, следует ли понимать этот макрокосмический процесс как абсолютное событие, уже не обусловленное ничем высшим или низшим, или же его следует рассматривать как выход спонтанной действенности некой мировой субстанции, лежащей в основе события.
Так мы от камня дома перейдем в область метафизики. Второй упомянутый объект – птица, добывающая пищу, – сразу же переносит нас в чудесную мастерскую и скрытую работу спонтанно движущегося организма, если мы изначально рассматриваем этот процесс только внешне, т.е. полностью абстрагируемся от психологических движущих сил и функций этого существа, которое деловито и с явной преднамеренностью мечется туда-сюда. Жизнь, по мнению Аристотеля, – это самодвижение, живое существо, которое движется по своей воле. Новейшая наука объявила это лишь видимостью, устранила ее и включила все процессы движения, в том числе и органического, в универсальный мировой механизм непрерывно взаимодействующих телесных элементов Вселенной. Мы мысленно следим за физико-химическими процессами движения в нервной и мышечной системе животного, которые до сих пор оставались необъясненными, но настоятельно нуждаются в объяснении, и не менее чудесным механизмом вегетативных функций, с помощью которых животное непроизвольно и автоматически усваивает принимаемую пищу, преобразует ее в органическую форму, порождает животное тепло жизни и силу движения, чтобы использовать ее в произвольной локомоции по своему желанию и выбору; Мы узнаем в этом существе живую физико-химическую лабораторию, машину, свободно перемещающуюся в пространстве, подобно локомотиву и пароходу, за исключением того, что из первой, маленькой зародышевой клетки она путем многократного деления клеток построила себя в типичной форме, обогревает себя, направляет себя с места на место. Мы нехотя, но неизбежно влекомые тягой разума, отодвигаем в сторону неразрешимые загадки естественного возникновения, развития и самоформирования органического индивида и всего животного мира в целом, вникаем в психологию, понимаем, что летающая птица, хотя и появилась на свет совершенно слепым механизмом и носится в воздухе в этот самый момент, тем не менее преследует какую-то цель в своем настоящем деле, думает о своем потомстве, ревностно трудится ради него и при этом, пусть и без ясного сознания этого, как бы служит высшей природной цели – сохранению своего вида.
Перед нами сразу же встает сложная проблема: соотношение материально-физической и психологически-духовной реальности, великая антиномия между механистической и телеологической концепциями мира. Предположим, однако, что трудность этих пограничных вопросов, непостижимость безначального и бесконечного хода природы, конфликт между понятием слепого механического и телеологически упорядоченного события, несовместимость представления о животном как о физико-химическом механизме с его представлением об одушевленном существе, направляющем себя волей и намерением, – все это привело бы к тому, что мы, отшатнувшись, как бы от великой тайны, задумались бы о самих себе, Если бы мы рассматривали свои интеллектуальные отношения с загадочным внешним миром с поворотом к самокритике, то оказались бы в знакомой нам соотнесенности субъекта и объекта познания и попытались бы примириться с противоречием между идеализмом и реализмом, и поймем, что корень нашего собственного существования, несомненно, метафизический, а не физический, поскольку для совершенно одностороннего взгляда физики духовное, которое дается как изначальный факт, вообще не существует, а есть только физическое. Тогда мы окажемся в путанице метафизики с ее огромными мировыми загадками и мировыми антиномиями. Мы ищем "гвоздь, на котором висит Вселенная", и спрашиваем о стене, к которой он прикреплен.
Так наше мышление, неустанно подгоняемое внутренним беспокойством вопроса об основании объяснения, устремляется вверх от проблемы к проблеме, от уровня размышлений к уровню размышлений, и в этом безостановочном регрессе, из тоски по положению и разрешению последней загадки, оставляет без обсуждения некоторые вопросы более низкого порядка, оставляет нерассмотренными некоторые вопросы более низкого порядка, совершает продвижение от эмпирически данного к чисто гипотетическому, от осознанного к неопределенному и сомнительному, как правило, не доводя эти резкие различия в модальности до ясного осознания; проблемы низшего и высшего ранга легко выстраиваются в своеобразную логическую иерархию по степени их общности, по степени их близости или отдаленности, от эмпирической основы до трансцендентальной вершины; и, таким образом, если не вмешиваются какие-то размышления совершенно иного происхождения и направленности, то постулат, идеал, программа метафизической универсальной теории полностью оправданы. Великие архитекторы мысли всех времен, обладающие, помимо широты интеллектуального горизонта, умозрительной мощью комбинаторного и синтетического формирования мысли, удовлетворяют эту потребность разума; с самоуверенностью гения и уверенностью субъективного убеждения они представляют нам свои всеохватывающие доктрины, в которых претензия на абсолютную истину заложена как самоочевидный атрибут. Затем они стоят как монументальные духовные произведения и ждут верующих, которые соберутся вокруг них.
Логический стиль метафизической системы, кстати, может быть самым разнообразным. Не каждая система имеет простую, типичную базовую форму схемы дедукции, которая плавно спускается от трансцендентального принципа к широте эмпирического базиса. Здесь проявляется индивидуальный стиль мышления мастера-строителя. Платон использует иной подход, с помощью искусной диалектики убеждая своего ученика в иллюзорности последнего, применяя к изменчивым и преходящим фактам мира чувств эталон идеальной концепции знания и стремясь возвести его к сверхчувственному царству только понятийно познаваемых вечных субстанциальных форм. Иное дело Аристотель, который, будучи одновременно разносторонним эмпириком и эрудированным знатоком литературы, всегда обращает внимание на обилие конкретных деталей в физическом и моральном мире, оставляет и уступает им реальность, обычно предполагаемую и оспариваемую Платоном, но тут же накладывает на них повсюду печать своих уже готовых основных онтологических концепций. Декарт, напротив, глубоко математизированный ум, ставящий во главу угла доказательство, уверенность, желающий восстановить метафизику по формальной модели математики с первых оснований, отбрасывающий за борт всю науку прошлого как неадекватную, кто после долгих сомнений, исследований и поисков считает, что нашел абсолютную точку зрения в неоспоримом базовом факте нашего самосознания и отсюда, с помощью строго выстроенных цепочек рассуждений, берется реконструировать расшатанную его сомнениями Вселенную. Системы Спинозы и Фихте производят впечатление наибольшего единообразия и формального совершенства. Но, несмотря на все стилистические различия, везде господствует один и тот же идеал: абсолютное, вечно достоверное выведение родословной всех частных истин из абсолютно достоверных принципов, а значит, абсолютное знание о мире.
Такова прометеевская идея метафизики. Очевидно, что она бросает вызов скептицизму. Чем грандиознее задача, тем сомнительнее ее выполнимость. Философски стремиться к высшему, но философски и давать отчет о своей работе. Однако, как уже отмечалось ранее, я здесь отчитываюсь, а не критикую, и сейчас можно остановиться лишь на двух моментах, обсуждение которых мы оставим для более позднего сообщения. Речь идет, во-первых, о том, действительно ли метафизику можно полностью исключить и обойтись без нее в той степени, в которой ее так часто требуют скептики; во-вторых, о том, что между догматической и критической метафизикой существует определенная разница.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































