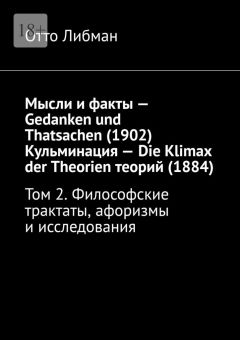
Автор книги: Отто Либман
Жанр: Философия, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 34 страниц)
XIX.
Достигла ли теория трагического и трагедии со времен Аристотеля до Корнеля, от последнего до Лессинга, Шиллера, Гете и их многочисленных продолжателей какого-либо существенного, фундаментального прогресса, остается предметом споров и сомнений, несмотря на все прекрасные дискуссии по этому вопросу, идущие как вширь, так и вглубь. О смысле и значении ελεος и φοβος, которые, по Аристотелю, возбуждаются трагедией, о χαθαρσις των τοιουτων παθηματων, который из нее вытекает, и о вине или недостатках (αμαρτια) героя, о том, что, по мнению Аристотеля, необходимо, чтобы постигшее его несчастье имело трагический эффект, а не просто вызывало ужас и отвращение, написаны комментарии к комментариям и сделано множество остроумных, верных или неверных замечаний. Некоторые объявляют определение Аристотеля устаревшим, изжившим себя и слишком узким. Так, например, Иоганн Болкельт в своей великолепной "Эстетике трагического", которая с большой грамотностью выделяет множество типов и подтипов трагического и со своими классификациями то тут, то там доходит до микроскопического. Как бы то ни было! Многое зависит от интерпретации, а слова Аристотеля, как учит опыт, достаточно эластичны, чтобы вместить в себя все, что угодно.
Основной предпосылкой и основой трагедии является сочувствие. Совершенно несимпатичный человек, т.е. чистый эгоист, совершенно не способен понять и насладиться трагедией, как глухой не способен слышать, а слепой – видеть. Несмотря на весь ум, несмотря на тонкий эстетический вкус к внешним вещам, несмотря на умение распознать правильность или неправильность статуи, картины, музыкального произведения по правилам анатомии, перспективы, теории гармонии, все трагическое в искусстве, как и в жизни, будет абсолютно непонятным для совершенного эгоиста. Сочувствие – это то удивительное чувство, которое ставит нас вне себя, в внутреннее мистическое отношение к другим людям, к животным, ко всему живому, и, начиная с понимания физиогномических выражений, проникает в самые сокровенные глубины их существа, как и нашего собственного. Смех, как известно, заразителен, как и плач. Неосвященный человек, видя другого искренне смеющимся, невольно улыбается, более того, он сам смеется. Тот, кто видит другого горько плачущим и слышит его сетования, сам болезненно морщит лицо, и у него наворачиваются слезы.
В физиологических терминах это можно назвать "подражательным движением, подражательным рефлексом", и это, наверное, правильно. Но дело гораздо глубже и действительно содержит в себе тайну. Собака и ее хозяин смотрят друг на друга и понимают друг друга как в радости, так и в боли, душа проникает в душу. Смех, слезы, радость, боль, сострадание, всеобщее сочувствие, выходящее за пределы индивидуального "я", сознания и самоощущения, в сознание других людей и соединяющее индивидуальность с совокупностью всех живых существ в мистическое единство, в метафизическом плане является телеологическим фокусом природы. Как понять эту метафизическую тайну – за пределами эмпирического знания. Но здесь кроется основа и корень тайны. Мы видим в реальной жизни или на сцене, как стремящийся и действующий человек вступает в конфликт с той или иной силой и в борьбе с ней не побеждает, а терпит поражение. Это вызывает наше сострадание, ελεος. Его поражение не обязательно смерть, он может, как Тассо, жить и после поражения, но его поражение как таковое трагично. Мы жалеем его. Силы, которым поддается трагический Гельв, обычно внешние: противоборствующие стремления других людей, ненависть врагов, зависть богов, жестокая воля тирана и т.п. Но есть и чисто внутренние силы, скрытые в самом герое, например, внутренний конфликт с самим собой, противоречие между волей и способностями, конфликт между головой и сердцем, мучительное "ни то, ни се", мучительная, задумчивая невозможность принять решение. Мы можем быть свидетелями страшной душевной борьбы, и мы ее чувствуем. Эластичность человеческого разума, как правило, очень велика и простирается очень далеко; порой она доходит до невероятного. Он может быть сбит с ног ударами судьбы, но все равно поднимается, как ива, согнутая бурей, или как поле зерна, побитое ливнем. Но есть определенные пределы упругости, за которыми, когда они "перейдены", происходит трещина, разрыв – безумие, психическое отклонение, или смерть, или самоубийство, или совершенно раздавленная, живая-мертвая покорность. – Так внешние и внутренние силы, характеры, ситуации, роковые ошибки и недоразумения, досадные совпадения, вражда противников, собственная ошибка героя, его опрометчивость или нерешительные колебания и нерешительность приводят к трагической катастрофе. Мы с нарастающим напряжением следим за ходом событий, участвуем в них, понимаем, что надвигается грозная судьба, надеемся, боимся, сомневаемся, – и вдруг катастрофа, страшный крах, глубокое потрясение. У человека есть врожденное естественное право на жизнь и радость, а судьба безжалостно разрушает его – в этом трагедия.
Это и есть трагические чувства φοβος и ελεος.
Что касается учения Аристотеля о том, что герой должен сам стать причиной несчастья, совершив ошибку или проступок (αμαρτια), чтобы вызвать впечатление трагедии, а не просто ужас, то это часто принималось во внимание. Но следует помнить, что "трагическая вина" не всегда должна быть этической виной, возмущением, грехом, преступлением; она может быть и глупостью, непрактичной ошибкой, неосторожностью, глупой выходкой, – как в "Короле Лире" и "Эгмонде" Гете или в "Эрбфёрстере" Отто Людвига: Αμαρτια означает ошибку, а этическая вина – лишь частный случай трагической вины. Хотя эстетические чувства, пробуждаемые в нас трагедией, непосредственно связаны с этикой и этическим суждением о ценности, сведение морали к эстетике так же неверно, как и сведение искусства к морали. – В качестве яркого примера можно привести, в частности, "Фёрстер" О. Людвига. Редко когда глубоко трагическое в его страшной форме изображалось так сокрушительно, как в этой драме, трагедии, которая сама по себе очень сильна. Этот страшный крах целого общества способных, добрых, только несколько слишком вспыльчивых людей, это доведение судьбы до безумия, возникшее вполне закономерно из незначительного спора по ничтожному пустяку, подстегиваемое непредсказуемыми случайностями и ошибками, показывает нам, с одной стороны, объективную природу трагического во всем его величии, а с другой – вызывает в высшей степени трагические чувства страха и жалости, φοβον χαι ελεον. – Вообще, у этого поэта глубокая душа. Психологическая тонкая живопись, изображение колебаний страстей и мыслей – вот что неизменно захватывает, захватывает, пленяет и движет в О. Людвиге.
Что касается χαθαρσις των τοιουτων παθηματων, то Jac. Бернейс недавно дал следующее необычайно правдоподобное объяснение. Жалость и страх – это παθη, т.е. кратковременные потрясения ума, преходящие аффекты; но это не nasispLnn, не постоянные склонности ума. Для этих постоянных склонностей, предрасположенностей ума, которые по-немецки называются Mitleidigkeit и Furchtsamkeit или Hang zum Mitleid и Hang zur Furcht, в греческом языке нет соответствующих выражений. Поэтому, когда Аристотель говорит, что трагедия – это "μιμησις πραξεως σπουδαιας – δι' ελεου χαι φοβου περαινουσα την των τοιουτων παθηματων χαθαρσιν", это означает: "это имитация или представление серьезного действия, которое, вызывая страх и сострадание, приводит к очищению и исцелению от сострадания и страха".
Такая трактовка представляется верной. Трагедия имеет психологический эффект, подобный тому, который производит в природе сильный ураган и гроза. Гроза грозно надвигается на горизонт, сильно приближается, начинается буря, вздымает тучи пыли, гнет и корчует деревья, все бежит и пытается спастись, льет проливной дождь, гроза разряжается яростно, с молниями и раскатами грома, потом проходит, воздух очищается, снова поют птицы, дышится свободно. Так и трагедия вызывает в душе зрителя бурю эмоций. Беда грозно сгущается перед глазами, она приближается и врывается, страх и жалость дико возбуждаются до глубочайшего потрясения, взрываются и бушуют, а когда катастрофа проходит, разум чувствует себя очищенным от этих аффектов, мы свободно дышим и в серьезном настроении смотрим вслед уходящей буре, над которой, возможно, высится цветная арка мира. Возможно, так и будет! Ощущение освобождения, очищения, облегчения и свободного дыхания после буйства аффектов – это и есть трагический катарсис. Однако этим сущность трагического катарсиса не исчерпывается. К нему можно добавить еще кое-что. То, что выходит за рамки судьбы отдельных людей, за рамки сознания отдельных людей, за рамки победы или гибели целых народов, за рамки общей судьбы человечества в целом. Сознательно или бессознательно каждая трагедия напоминает нам о границах человечности в целом, которым подвержен каждый человек, как самый великий, так и самый маленький, и это причудливое многообразие общих мыслей, которые, как следствие трагедии, пульсируют в нашем сознании. Призыв утешаться индивидуальным несчастьем, имея в виду судьбу всего человечества; призыв быть более справедливым к ближним, чем это делает слепая неразумная случайность; призыв улучшить течение мира после конца; призыв к вечной справедливости, к нравственному суду над миром; всеобщее сочувствие, глубокое, чистое, ровное, свободное сочувствие всему живому, всему чувствующему, всему страдающему – такие очень общие мысли и чувства звучат в нашем уме и сердце как следствие трагедии. В таких мыслях, разнообразно перемешанных между собой, в которых то одна, то другая преобладает, в которых попеременно звучит то одна, то другая, – в высшем смысле завершается сущность трагического катарсиса.
XX.
На фоне всех трагических конфликтов, трагических судеб и трагических катастроф темными глазами таится метафизическая мысль, которая то тут, то там отчетливо пробивается и высвечивается у некоторых величайших трагических поэтов.
Все положение человека в природе и в мировом порядке по сути своей трагично. Не только потому, что только человек из всех существ видит перед собой верную смерть, что только он один видит вокруг себя целую армию опасностей, зол и мук, о которых животные совершенно не подозревают. Но совсем по другой причине. Человек – существо среднее и знает, что он таков. Он видит себя как бы посередине между животным и Богом; он знает свои границы и не может за них выйти. Он перерос животных, но не достиг божественности, божественного совершенства; он знает, что никогда не сможет его достичь. Он намного выше всех своих животных собратьев благодаря языку, разуму, артистизму, умственному образованию, владению природой; у него есть идеалы, в то время как ни у одного другого земного существа их нет, и в то же время он понимает, что всегда недотягивает до своих идеалов, несмотря на все свои усилия. Он достигает науки, искусства, нравственной культуры, но в то же время понимает, что всегда должен оставаться несовершенным. С высоты птичьего полета он смотрит вниз, а с высоты лягушачьего глаза – в бесконечность. Только он один из всех известных нам существ находится в этом поистине незавидном положении сознательной ограниченности, сознательного несовершенства; без сочувствующих, без сопереживающих. Полностью зависящий от самого себя, он чувствует себя одиноким и изолированным в мировом порядке. Он знает, что он не всеведущ, не всемогущ и тем более не свят. Но если бы ему было даровано всезнание, то без одновременного дарования всемогущества это был бы самый катастрофический, самый страшный дар. Реальное, действительное, всепроникающее всезнание, охватывающее прошлое, настоящее и будущее в частности, без всемогущества было бы невыносимо, было бы судьбой Кассандры, потенциальной до высшей точки. Он приходит из неизвестности и возвращается в неизвестность. Он чувствует себя брошенным и чужим в этом мире.
Лоос человечества – это трагический лоос. Это не сентиментальность, не болезненная гиперестезия, не чрезмерная жадность и трансцендентная эвдемония, не пессимистическая усталость от мира, не "желание поиграть со своим горем", когда он вынужден жалеть себя из-за своей сверхчеловеческой и недобожественной амфибийной природы и гермафродитного строения. Веселье, шутка, юмор, наслаждение жизнью, ирония – это лишь эпизоды, временные утешения на мрачном фоне трагизма человеческой судьбы, сознание которого неизгладимо присуще более глубоким духам. Яснее или отчетливее, совершенно независимо от несчастья и смерти, от личных страданий и боли, именно это общее осознание человеческой ограниченности лежит в конечном счете в основе трагической поэзии и находит сокрушительное выражение у величайших поэтов и художников, таких как Шекспир, Гете, Бетховен.
XXI.
Положение о том, что музыка есть подражание и выражение чувств, совсем не ново, а очень старо; оно высказано уже Платоном словами: "των μελων χινησις μεμιμενη τα της ψυχης παθηματα" (De legibus, II. conf. De republica, III, 398 – 399). Это повторяет Аристотель и более подробно останавливается на нем, заявляя: "ритмы и мелодики содержат подражания гневу и мягкости, доблести и благоразумному спокойствию, а также их противоположности, вообще имитации всякого рода эмоциональных состояний εστι δε ομοιωματα μαλιστα παρα τας αληθινας εν τοις ρυθμμοις χαι τοις μελεσινν οργης χαι πραοτητος ετι δ ανδριας χαι σωφροσυνης χαι παντων των εναντιων τουτοις χαι των αλλων ηθιχων. Polit. VIII, c. 5). То же самое можно найти в книге Евклида "Εισαγωγη αρμονιχη", в книгах Птолемея о гармонии и в других местах. Этого мнения придерживается и Кеплер; он говорит: cantus ipsius affectuumque qui cantus species sequuntur, proportionalia sunt elementa, totidem fere numero utrinque. Harmonia Mundi, III, 15.
Поскольку, однако, эта точка зрения часто подвергалась сомнению, а в последнее время прямо оспаривалась формалистическими эстетами, особенно Хансликом, я защитил ее от этих нападок и закрепил с помощью генетической дедукции и психологического эксперимента. (AnalysiS der Wirklichkeit, 2nd ed., p. 625 ff.; 3rd ed., p. 659 ff.). Правильность этой точки зрения наиболее очевидна, если вернуться к истокам музыки, к немузыке, но это: человеческое пение.
Музыка проникает в нас скрипками и флейтами, рожками и басами, литаврами и тромбонами, всем звучанием и великолепием оркестра; или звучит на могучем церковном инструменте органе во всех его голосах и регистрах – от контрабасовых нот до pre-vox angelica. Он удивляет и очаровывает нас разнообразием своих звуковых красок, звуковых смесей и звуковых сочетаний. Но эти звуковые эффекты и звуковые различия волнистого моря тонов, хотя и рассчитанные отнюдь не на простую сенсорную стимуляцию и щекотание ушей, а имеющие более глубокое значение, не являются главным, основным, существенным в музыке; скорее, суть композиции уже воспроизведена струнным квартетом, более того, она уже содержится в простой фортепианной партии. Основными компонентами музыки являются ритм, мелодия и гармония. Ритм, который может быть выражен и без музыкальных тонов, например, ударами барабана, – это биение пульса в теле музыки. Мелодия и гармония добавляются к ритму, который также доминирует в стихотворной поэзии, как нечто специфически музыкальное. Сам по себе ритм, медленный или быстрый, устойчивый или торопливый, ямбический или трохаический, дактилический или анапестический, уже характеризует определенное настроение и движение сознания; Однако эта смена настроений значительно углубляется и точнее характеризуется мелодией и гармонией, так как повышение и понижение тональности вызывает, вернее, вызывает подъем и понижение чувства, созвучие или несозвучие тонов удовлетворяет или не удовлетворяет, каждый интервал, каждый аккорд производит своеобразное впечатление и имеет эмоциональное значение, например, минорный аккорд элегический, минорный аккорд элегический, минорный аккорд дульцетный, минорный аккорд мелодический. Например, минорный аккорд элегичен и меланхоличен, мажорный аккорд – бодр и радостен. Такт, темп и ключ, восхождение или нисхождение, подъемы и спады тона, тесная или широкая гармония, длительность или краткость мелодических периодов, полное избегание или намеренное накопление диссонансов, выбор нежных или энергичных тональных красок – словом, все определяется общим преобладающим основным настроением души и динамикой поднимающихся и опускающихся на этом фоне веселых или серьезных, радостных или болезненных аффектов, которым призвано дать выражение музыкальное произведение; и чувства, выраженные композитором, эхом отдаются в груди восприимчивого слушателя. Душевное спокойствие или беспокойная торопливость, смеющаяся радость или глубокая печаль, устремленность в даль или задумчивая меланхолия, необузданная страсть или серьезные утешения, наставления и предупреждения церкви находят свое прямое, недвусмысленное выражение в этих элементах и характеристиках музыки. Любая подмена, любое неправильное использование этих выразительных средств воспринимается как абсурд, возможно, как нелепость, как если бы кто-то захотел сочинить церковную музыку в вальсовой поступи или сыграть похоронный марш в самом торопливом темпе. Возьмем, к примеру, певческий монолог, страшную арию дона Писарро в первом акте "Фиделио", в которой он объявляет о своем решении убить Флорестана. Этот дико бурлящий, перекатывающийся аккомпанемент – как непосредственно он заставляет нас почувствовать бурю эмоций, поднимающихся и поднимающихся в груди убийцы: страх, ужас, ненависть, дикая вражда, кровавая месть кипят и бурлят, вплоть до слов, вырывающихся с оглушительной силой:
«И кричу ему в ухо:
Победа, победа моя!»
Ничто, ни слова, ни образы, не способны непосредственно воспроизвести невообразимую бурю эмоций, бесформенную, невидимую, но мощную динамику чувств и страстей. Но музыка может, и она это делает, как в данном, так и в других случаях. Музыка – это бесформенная жизнь разума, невообразимый образ самого реального, что есть в человеческой груди. Само собой разумеется, что композитор должен следовать правилам гармонии, так же как поэт – правилам грамматики. Но композитор не становится композитором через гармонию, как и поэт не становится поэтом через грамматику. В музыке, как и в поэзии, есть пустые фразы.
Если мы теперь еще больше вернемся к оригиналу, то теорема Аристотеля применима в общем виде:εστι μεν τα εν τη φωνη των εν τη ψυχη παθηματων συμβολα. De Interpretatione, c. I. Через голос и в голосе аффект непроизвольно выражается у животных, как и у человека. Громкий смех и громкий плач – это тональные, тонально окрашенные аффекты, которые сразу же понимаются. Крик, ликование, рыдание, плач и причитание, крик радости и крик боли – это звуки, которые не являются словами, не являются частями речи, не являются выражением понятий, суждений, мыслей, а являются непосредственными и сразу понятными звуковыми выражениями аффекта. Точно так же и пение без слов, напевание сиюминутной мелодии, которой человек, сам не зная почему, дает волю господствующему в нем настроению ума. Это естественный продукт. Именно им, художественно развитым, является музыка. Она оплакивает, плачет, ликует, рыдает, мечтает, мчится, танцует, шутит, без слов овладевает нашим сердцем и направляет его вверх и вниз по великой шкале аффектов; она утешает, успокаивает, умиротворяет, исцеляет, примиряет; подливает масло в огонь или бальзам на раны; она также возносит нас в бесконечность.
Первобытной музыкой всегда была и остается человеческая песня, которая сначала, как и птичья песня, исполнялась без слов, выражая не мысли, а чувства и возникая из естественных аффективных звуков. Лишь позднее из человеческой песни возникла двухголосная музыка, написанная на произносимый текст, и чистая безсловесная инструментальная музыка. Изобретенные инструменты служили отчасти для подражания пению, например тростниковая дудка и флейта, отчасти для сопровождения пения, например χιθαρα, лира и арфа. Но суть дела осталась прежней.
Таким образом, то, что музыка представляет, имитирует и делает известным восприимчивому человеку, – за исключением эпизодически возникающих тоновых картин, – не есть, как в изобразительном искусстве, какие-либо предметы, не внешние объекты; это нечто чисто субъективное, внутреннее; это чистый пафос без идей; это тайная жизнь ума без образа. Вот почему одна и та же мелодия, одна и та же музыкальная композиция может быть положена на совершенно разные тексты в той мере, в какой эти тексты способны вызывать одни и те же душевные настроения, один и тот же ряд аффектов.
Апокалиптические откровения
XXIII.
В великой увертюре № 3 "Леонора" Бетховен изображает ход целой драмы; в увертюре же "Кориолан" – только одну сцену, главную сцену драмы, а именно решающий разговор между Кориоланом, жаждущим мести и грохочущим, и женщинами, которые умоляют все настойчивее и наконец побеждают сквозь слезы. И то, и другое происходит так трогательно и убедительно, что любой человек, знакомый с драмой, узнает в этих тонах драму. Но когда здесь употребляется слово "изобразить", это, конечно, не означает, что музыка рисует сами видимые события, что они предстают перед глазами в виде зримых образов, а лишь то, что с захватывающей достоверностью воспроизводятся чувства, бушующие в сердцах героев, вовлеченных в эти события, и эмоциональные рефлексы, вызываемые в сердцах слушателей. Лишь в исключительных случаях, в отдельных фрагментах, встречается прямое интонирование и звукоподражание, что в музыке вообще является лишь исключением из правил и эпизодом: например, в увертюре "Леонора" в самом начале мы слышим медленный спуск по темной лестнице подземелья в жуткую подземную темницу замка, а в середине слышим дважды спасительный сигнал трубы. Однако распознать его может только тот, кто, как и композитор, заранее знаком с драмой. Совершенно незнакомые с ней люди были бы глубоко тронуты мощной силой тонов, тяжелой, мрачной серьезностью, плачем, волнением, напряжением, бурным возбуждением и, наконец, экстатическим ликованием, но все равно остались бы перед загадкой. Для него, поскольку совершенно одинаковый ряд субъективных эмоций может быть порожден объективно совершенно разными процессами, на одну и ту же музыку возможен и совершенно разный текст. Таким образом, объективно музыка всегда остается двусмысленной, хотя субъективно она однозначна. – В таком положении оказывается слушатель по отношению к симфонии. Не приходится сомневаться, что в каждой из своих симфоний, например, в "Эроике", Бетховен думает о каких-то конкретных процессах типичного или индивидуального характера, которые его вдохновляют, окрыляют, погружают в чувства и эмоции, которым он придает тональное выражение в своей музыке. Но музыкально он может выразить только сами чувства, субъективные эмоции как таковые, и именно они для него, как и для музыки в целом, являются главным, основным, а объективные процессы – относительным второстепенным делом.
Слушатель может сопереживать чувствам композитора, что бы он себе ни представлял. Если он способен почувствовать то, что чувствовал композитор, значит, цель композитора достигнута, значит, он понял произведение. Понимание музыки – это сопереживание, а понимание речи – это мышление. Если простой крестьянин, хотя он музыкален, чувствует и поет всей душой много прекрасных песен, все же не понимает симфонии Бетховена, то причина не в том, что он не знает объективной причины создания этого музыкального произведения, не в том, что он не знаком с basso continuo и гармонией, а в том, что эмоциональная жизнь такого человеческого духа слишком высока и чужда ему. Он качает головой и не понимает, что это должно означать. Так что, как говорит Гамлет, "икра для долга". Тот, кто слышит музыку, но не понимает ее, глух к ней. Важно уметь сопереживать. Конечно, композитор должен досконально знать гармонию и basso continuo, так же как поэт – грамматику, но это лишь элементарная предпосылка и необходимый инструмент, а не внутренняя суть искусства.
Аналогий между слышимым и видимым много, но они не убедительны. Простой аккомпанемент без соответствующей мелодии подобен развалинам без крыши; одиноко стоящий столб – аккорду, взятому в одиночку; шкала – груде кирпичей, сложенных ступенями, по которым можно удобно взбираться и спускаться, не прыгая и не карабкаясь. Музыка не может изобразить видимые предметы, но она может точно передать то эмоциональное впечатление, то настроение, которое вызывает в человеческой груди вид видимых предметов вместе с массой связанных с ними мыслей. Возьмем, к примеру, такую картину: высокие мраморные колонны разрушенного храма богов; под ними сидит козопас в окружении пасущегося стада; на заднем плане виднеется синее море. То, что человек здесь чувствует, вполне можно выразить в мощной инструментальной композиции. Но тот, кто услышит эту композицию, не зная повода ее создания, и полностью прочувствует ее эмоциональное содержание, сочтет ее иероглифическим текстом, не имеющим комментариев с объективной точки зрения, потому что совершенно очевидно, что определенные чувства могут возникать у нас по совершенно разным поводам. В тональности слышна боль, слышна радость, слышен сокрушительный трагизм и улыбчивый юмор, но откуда они берутся – не слышно. Тем не менее, вы понимаете музыку; точно так же вы можете слышать, как человек смеется и плачет, и понимать его, даже не зная, по какому поводу он смеется или плачет. Музыка – это язык эмоций.
Именно поэтому музыка так тесно связана с религией, именно с религиозными чувствами и состояниями души, даже если она не имеет ничего общего с догмами и догматикой. Церковная музыка, как известно, является одним из самых мощных средств в руках Церкви, потому что она безошибочно вызывает чувства преданности, назидания, раскаяния, уныния, благочестивого энтузиазма, преданности бесконечному и вечному, трогает до слез и возносит к небу; независимо от того, принадлежит ли слушатель к той или иной конфессии и секте.
XXIV.
Чудо Бетховена никогда не будет до конца понято, изучено и разгадано. Ведь он сам был для себя загадкой, над которой вечно ломал голову, так и не сумев ее разгадать.
Я есть, я был, я буду; никто не приоткрыл мне завесу.
Эти глубокие, одинокие боли и эти глубокие, одинокие восторги; эта тоска, уходящая в бесконечность, эти тоскливые размышления, заглядывающие в далекое, далекое прошлое, эти сетования и эти ликования, эти обиды и гордость, эти горькие внутренние схватки, этот дикий юмор, играющий с булыжниками; Надежда и отчаяние, и рыдающая печаль; затем снова энергичное сплочение, твердая героическая воля и железно твердый поступок; и радость, радость, радость, могущественно возвышающаяся над всей дымкой, и путаницей, и неразберихой, и кричащими диссонансами:
"Радость, прекрасная искра богов!"
Но – – какая радость! – Бетховен чувствует все, что может чувствовать в себе самый тонкий, самый чувствительный человек; но он чувствует все, и радость, и боль, гораздо глубже, гораздо глубже, гораздо больше в своем сердце, чем кто-либо другой. Он задевает в человеческой груди аккорды, которые иначе неизвестны, потому что никто другой их не задевает. Даже в бетховенской радости есть что-то трагическое и сокрушительное, тогда как в божественном Моцарте даже печаль и боль несут в себе что-то сладкое и мягкое. Даже Пасторальная симфония с ее пением и танцами в лесу, с ее восхитительной баховской идиллией, с ее буйно веселым, плебейским крестьянским танцем – даже она не столько забавляет, сколько трогает и волнует. Ибо это удовольствие – как оно вдохновляет нас? Как вздох Фауста на пасхальном гулянье:
"Здесь я человек, здесь я могу быть!".
Как вздох облегчения, временного избавления души, привыкшей к боли и борьбе, чувствующей все более близко, временно сбросившей с себя бремя, в которой боль и борьба сами еще трепещут, превращаясь в удовольствие и радость.
Долгое время я подумывал написать своеобразный комментарий к Девятой симфонии, которая, подобно взгляду Сикстинской Мадонны, сопровождает меня всю жизнь; но я отказываюсь от этой мысли. Словами не передать того, что говорит в тонах это высокое, трансцендентное чудо, хотя оно и перетекает в слова, в песни, в распевы, хотя искупительное вступление речитатива, исполненного человеческим голосом, вводит то, к чему мучительно стремились и тщетно добивались в бессловесной борьбе инструментов, в увенчание целого. По замыслу мастера, в песнях человеческих голосов должна быть достигнута вершина, завершение, исполнение того, что уже не может быть достигнуто бессловесной инструментальной музыкой. Однако слова, языковой текст песнопений – лишь придаток к тому аффекту, который возникает в живых человеческих голосах, к тому могучему, ликующему морю звука, проникающему прямо от сердца к сердцу в глубины нашего существа. Без музыки слова текста не имели бы ни малейшего значения. Если бы после инструментального вступления четвертой части музыка вдруг смолкла, полностью прекратилась, и текст песни Шиллера стал бы только произноситься, только декламироваться в разговорном тоне, в грохоте, это не было бы вершиной, это было бы невыносимым падением с высоты. Там, где язык слов терпит крах, где он уже ничего не может сказать, там начинается музыка, там начинается непостижимый Бетховен, и он говорит нам. – Идите и услышьте, идите и почувствуйте! – Музыка выражает то, что никогда не выразит язык слов, – чистую, лишенную воображения динамику человеческих эмоций.
Поэтому я воздерживаюсь от комментариев, программы, прозаического пересказа, хотя в доходчивой прозе можно было бы сказать много интересного как о целом, так и о некоторых отдельных деталях. Заменой может служить Девятая симфония.
1.
Через тяжелую борьбу из предчувствия задумчивости Поднимается титаническое стремление К эфирным высотам, где витают светлые фигуры;
Жаждущее сердце жаждет небесных цветов,
Оно борется и жаждет. Тщетно! Демонически беснуются бессмысленные козни судьбы. Жизнь человеческая – что ты? Безответно отдавшись слепой силе, Окрыленная надеждойСмирилась?
Тщетно! Отчаяние хочет сокрушить ваши силы.
Но блаженные сферы предстают перед вами заново в сверхъестественном образе.
Вверх! Вверх! Вы должны добиться успеха. Бросьте вызов судьбе, бросьте вызов адскому грохоту! Мы стоим твердо, и далекие громы раздаются.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































