Текст книги "Новомир"
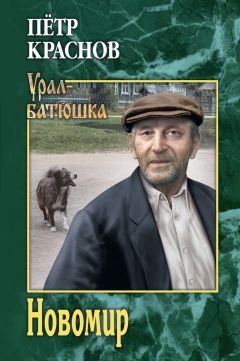
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Сели ужинать наконец, и он нисколько не стесненно держал себя – как, должно быть, и везде, был оживленней обычного, пошучивал; тем более что за столом этим, как оказалось, не в первый раз сидит – сиживали, да, то по делу, то по праздникам… И она эту связанность свою – родным связанность – понемногу одолевала, ловила усмешливо-сообщнические взгляды его, словечко-другое вставляла, кивала, когда он – иногда – как бы от них двоих уже говорил. Оттаивала и мать тоже, уверяясь, может, что у них в склад-лад все пока, а дальше как бог даст…
– С уборкой разделаемся – за дом возьмусь.
– Так, а что там? – недоумевал отец. – Главное сделал. Газ провел, перезимуешь теперь.
– Уже брус заказан, Иван Палыч. С глухой стены комнату еще прирублю и кухню-столовую. А сенцы эти – к шуту… большая веранда будет. Ну, это на лето уже, с крышей, само собой, тоже. А пока готовить, фундамент залить.
– А усилишь – один-то?
– Да кой-чему научил отец, а зима у нас долгая. И люди обещаны, даст Вековищев. – И усмехнулся, на нее глянул, в глаза ей: – Начать – не кончать… ну, было бы к чему руки приложить. Ради чего.
Он спрашивает? И нужно ль отвечать, если выбор делает не она… если уже выбрала, хоть и неуверенность некая щемит, не шутка – город бросать, это теперь-то… И – надо – улыбается ему, еще сама не зная – как улыбается, веря только, что он поймет как надо.
Встали из-за стола, он спокойно перекрестился на небольшую, в полотенцах, иконку Николы в углу – всегда, сколько она себя помнит, здесь Никола, в задней избе, а Спас, что в горнице, появился позже, отец хоть не сразу, но согласился на это. Мать, мелким крестиком в стол куда-то, как всегда, осенившая себя, одобрительно смотрит в спину Алексея, отец же как не видит всего этого – привыкли уже, видно. И она крестится, не смея просить себе счастья, не спугнуть бы, какое есть, но лишь по-людски чтобы все было, шло, как вот сейчас.
– Ты гли-ко, двенадцать уже…
– Мы… проводимся, – находит слово она, смущенья особого уже в ней нет, – а вы ложитесь, не ждите. Устали же.
– Да натоптались…
Она лежит на плече его и уже перебирает в мыслях, что назавтра сделать надо… какое – завтра, если светать уже скоро начнет! А ему еще отдохнуть надо, хоть немного.
– Все-все, пошла я!.. – Но как вставать не хочется, уходить от него, кто бы знал. Уткнуться бы ему в шею носом, уснуть… Пересиливает себя, его тоже, тормошит истомленного; и уже платье натягивая – в избяной темноте при таких-то шторках свет не включишь, – говорит ему во тьму эту, дыханьем их и жаром еще полную, наугад:
– Давай сразу отберем, что стирать. Порошок-то хоть есть?
– Да там все, в тазе…
В кухоньке свет включают – ага, ведра есть, посуда всякая в шкафчике, чашки-кастрюльки, ложки-поварешки, картошка в мешке… так, а в холодильнике что? Правда что шаром покати, кусок ссохшейся колбасы, в самый раз песику, да хлеб в пакете черствый. Мясо из морозилки на полку нижнюю, чтоб отошло, ключ от дома запасной в сумочку и – до обеда, Лешенька!.. Выходят за калитку, над головою редкие отуманенные звезды, полынная прохлада, пришедшая со степи, дальний за школой фонарь, лампочка простая на столбу: проводить, может?.. Ну что ты, Леш, я ж дома!..
Спать не хочется совсем, она садится на родительское крыльцо, смотрит на темную, в себе забывшуюся улицу, на непроглядную громаду тополей, вознесенную в небо, смутно сереть начинающее будто… поскорей бы утро, день. Нет, она не торопит время, торопить его опасно, почему-то знает, чувствует она; наоборот, мало его, не хватает ей, а столько еще сделать надо, успеть.
Калитку на засов она заперла от лишних глаз, а они ей все лишние теперь. Все, что нужно для борща, из дома захватила, мясо поставила варить, а на второй конфорке белье в ведре кипятится – пар столбом, дым коромыслом!.. И окна между делом протерла, паутину обмахнула – сколько ее! – и за полы принялась: подметаются, да, но не мыты, сразу видно, давно, и бельишко застирано, простыни-наволочки тоже, все перетряхнуть надо, – мужики… По полкам книжным только глазами пробежала, удивилась опять: когда и где собрать успел – и столько неизвестных ей, серьезных даже по корешкам…
Стирает во дворе, у летника, оглядывает позьмо, ширь дворовую и опять думает: сколько работы здесь, боже мой, чтобы обжить все, засадить. Ничего, глаза страшатся, а руки делают. Первая всегда у матери поговорка – от нужды, работы извечной, только лет семь назад, может, и выбрались из всяких строек; а тут их, детей, учить, подымать… Как он, Павлик, там? Двое ребятишек все ж и Вера, невестка, больная, по женской части неладно…
И отгоняет мысли всякие такие, не сглазить бы… вроде б все ничего у нее, хотя сама еще себе удивляется, как выдерживает такое, мало того – желает, ждет, как будто обещанного чего-то ждет… И разговаривает негромко, чтоб с улицы не услышали, с Овчаром, накормленным ею так, что пузцом сытеньким отвалился на солнце, пожмуривается: что, скучно одному хозяина ждать? Ску-учно, день-то длинный какой, все жданки съешь… А тот садится, польщенный явно, что с ним по-человечески говорят, глядит смышлено, голову набок, и хвостишком работает, подметает.
Все сделать, что хотела, она успеть не смогла, конечно, машину его услышала у ворот, выскочила.
– Ну-у!.. – говорит он, оглядываясь в доме, и это ей за лучшую похвалу. – Когда успела-то?! Простыни еще эти, занавески… шут бы с ними.
– Да заодно уж… Обедаем?
– И поскорей. Голодный, как… Последний раз Танюшка здесь прибиралась, когда на каникулы ушла. Говорит, шефом у тебя буду, а вот глаз не кажет: женишки небось, дискотеки… Устала?
– Да когда уставать, Леш? – Она не притворяется ничуть, ведь и в самом деле время пролетело – не видя как, да и в охотку все шло. – Правда. Надо еще…
– Ничего не надо, хорошка, – отдохни.
– Здрассте, а погладить?! Пересохнет же.
– Вот я тебя и поглажу! – дурачится он, но не гладит, а обнимает ее, так стискивает, что дыханье занялось, в шею целует, нешуточно уже, ниже плеча… – Уж у меня н-не пересохнешь!..
Пообедав, сидят на чисто вымытых – поскоблить бы еще – ступеньках крыльца, тесно прижавшись, у него, он сказал, пять минут еще, к трем начальство районное подъехать должно – носит их поганым ветром… Притыкает в консервной банке окурок: и знаешь, зачем приезжают? Чтоб сказать, что теперь ничем они помочь не могут – ни средств у них, мол, ни обязанности, выкручивайтесь как хотите. А водку дармовую как жрали, так и жрут… нисколько аппетит не испортился. Ну, без них так без них, воздух чище…
Замолкает, усы отчего-то теребит, подергивает, и привычки к этому она вроде бы не замечала за ним, нет такой; щурится на пустырь двора своего – нет, дальше, с лицом замкнутым, почти каменным. Но вот переводит глаза на нее, и они вовсе не хмурые, какие можно бы ждать от раздумья о невеселом нынешнем, а внимательные… слишком внимательные, и это ее, как всякую женщину, беспокоит, просто не может не тревожить. И, помедлив, говорит негромко, то ли спрашивая, то ль утверждая, ладонь ее в руки свои забирает, прячет всю в них:
– Значит, будешь хозяйкой?..
И не кивает, а поводит головой в сторону всего – дома, белья скатанного, чтоб не пересохло, свежего полотенца для них двоих, общего, ею у раковины повешенного, и полотенчика другого, тайного от всех…
Это так неожиданно для нее – здесь, сейчас, и не то что растеряна она, но не сразу ответишь. Она этого ждала и по инерции будто ждет еще, относя все хотя и в близкое, может, желанное, но будущее, – а уже надо отвечать… И уж боится, что пауза слишком долгой будет, слишком окажет она мелкие всякие неуверенности ее и страхи, нерешенность некую выкажет, неверие в них двоих – которого в ней ведь уже и нет; и поднимает глаза, в его глядя, без прищура обычного, ждущие пристально, говорит:
– Буду, Леш.
– Спасибо.
– За что? – совсем тихо, смутясь отчего-то, даже заробев от всего, перед ними открывающегося теперь, спрашивает она.
– За тебя.
13
Уехал, а она мыла посуду, гладила потом стареньким – на каменку давно пора – утюжком простыни, быстро провянувшее на ветерке белье и все опомниться как-то не могла… Решилось. Когда, как остальное все будет, многое, непростое и хлопотное – о том еще и слова не сказано; только спросил, посоветовался ли: своим пока не будем говорить, торопиться? – и она кивнула молча, согласно, никакие слова не шли из нее, как заперло. Кивком же ответила, когда и раз поцеловал, и другой, сказал: дома ужинать будем, заеду за тобой…
Оставляла ненадолго дом, провожаемая Овчаром, и у калитки, помня наказ не выпускать щенка на улицу, присела и потормошила, погладила его: что, и ты мой тоже?! Мой, шелудяка ты этакая, мой, умничка! И приказала тоже: стереги! Господи, да тебя самого-то стеречь еще надо!..
И будто что-то снялось, что не давало радоваться – вволю не давало, к домишку крестной чуть не вприпрыжку торопилась, озаботиться забыв, видел ли кто ее из двора выходящей или нет.
У крестной самовар почти всегда наготове, нахвалиться им не может – года полтора назад крестницей подаренный на первые отпускные, еще и дядя Федя успел из него чайку попить, покойный. Сидят за ним, разговаривают, говор у нее старый тоже, как мало у кого на селе, простой:
– Ты не в отпуск, часом? Зачужалась, что и во сне не увидишь…
Это она, конечно, ворчит просто, преувеличивает для укору, и спорить с ее воркотней бесполезно.
– В сентябре, может. Или в октябре…
Она говорит ей это и сама надеется, что – в сентябре, перед увольнением. И еще колеблется, сказать ли ей и как сказать… за тем ведь и шла, признаться, чуть не бежала сюда. За тем, а уж от крестной ничего наружу не выйдет, проверено, не то что сказать – намека никому не даст, что знает, находя в этом удовлетворение какое-то свое, не совсем понятное…
– А што цветешь-то вся? Еще вчерась как шанежка с поду… аж пыхало. Спросить, думаю, иль нет?
Сысподу, с пылу с жару прямо… И чувствуя, что краснеть начинает, помялась, проговорила на всякий случай, полушутя вроде б:
– А не скажешь нашим?
– Так прямо и пошла, сказала… Дел мне больше нету.
И, раз назвалась-напросилась, рассказать пришлось – накоротко и уж не обо всем, конечно; да и что словами скажешь, какие-то пустые они получаются, несродные, друг к другу не приставишь, не приладишь… Как будто все то, о чем она говорила теперь, не с ними происходило… конспект чьей-то жизни чужой, куцый.
– Во-он што… – И вся еще в новости этой, успела порадоваться крестная, повторила: – Это в шабры, значит, ко мне?!
– Так, выходит, – улыбалась и она, Лешиными словами сказала: – Уборку свалить бы. А пока не говорить, никому.
– А тот как же-ть… городской который?
– Да никак, хреска. Ну, чужой. Я уж и так, и сяк – чужой…
– И правда што… чужого не замай, свово не отдавай. Не, парень уважительный. Здоровкается первый и по делу горазд, люди говорят… строгий. А што эт он – лицо побито вроде?..
– Да так, случайно совсем… Так вот и решили.
– Вона как… Не, не скажешь плохого, – рассуждала все будто удивленная, все бровки высоко державшая крестная, поглядывая весело, кипятку себе из краника подливая. – И жених… да-к, а што? Первый у нас, жених-то! Эт ты отхватила, девка!..
«Отхватила!..» И не удержало, засмеялась, клонясь над клеенкой, впору голову на руки, покатать счастливо.
– А што смеешься?! Тут уж подбивали под него клинья, всяко… А девки анадысь што утворили над ним… ты спроси его, спроси! Все крыльцо ему лопухами завалили. Лопух, мол…
– Лопух?!
– Ага. И учителки эти наперебой, особо новая эта, целу зиму, считай… ну, ладно.
Учителка? Ее дернуло было, больно и безрассудно… постой, погоди. Зимой? Мало ль что зимой… А лопухи летом, так? Ну, так…
У крестной маленькие глазки, бесцветные, а все видит:
– Болтаю я, грешная. А об чем – сама не знаю: гутарили люди и уж гутарить про то перестали…
Или расспросить? Не помешает знать, не зазорно вроде… не помешает? Нет уж, или верь, либо совсем не верь ему, что-нибудь одно. А учителка эта… не Мельниченко ее фамилия? И повторила, чтоб перебить мутное в себе, противное что-то, со дна поднявшееся: не Мельниченко?! Вот так. Вот и забудь, это ж каторга – не верить. Мой он, вот и все.
– …а людей не слухай, – говорила крестная. И добавила, как-то самодовольно: – Уж я бы знала, ежели што…
– И не думаю слушать, – сказала она. – Мой, больше ничей.
– Да-к у вас што ж… все уже? – и посмотрела долго и строго, со значением, как она это умела. – Все со всем?
С недоумением она глянула на крестную – ну да, мол, я ж сказала, – и ту раздосадовало это почему-то:
– Ну ты гли-ко… ну, ништо она не понимает! Ребенок прямо… Донесла хоть, спрашиваю?
Она не сразу еще, но поняла наконец, что именно – донесла; и вспыхнула лицом невольно вся, и неудержимым каким-то, нервным смехом залилась, чуть не до слез, теперь уж головой на стол, еле кивнула ею.
– Опять она смеяться… Што смешного-то?! Слава богу, коли так… – Тяжело с табуретки поднялась, повернулась к образам, крестом большим осенилась, размашистым. – Слава богу! Не опозорила на старости…
Голос у крестной съехал, пресекся, и она вскочила, обняла ее, плечи ее оплывшие, слабые в разношенной старой кофте шерстяной; и стояли так, прижавшись, плакали молча – за все, обо всем…
Усаживаясь, вздохнула старуха еще раз, облегченно слезку отерла:
– Сохранила себя, спаси те Господь… Эт главное, если хошь.
– Ну, не очень и спрашивают сейчас… – сказала она, лицо ладонями остужая, не поднимая глаз.
– Ага, как же!.. Не-е, золотко, они не сразу, они опосля это спросют, в случае чего… щас, пока сладкая, не спросют. Да и то – на какого попадешь…
Хоть бы уехала она, что ли, – эта, из школы, думает рассеянно, опустошенно она, как и всегда после слез; ну что вот хорошего ей в чужом месте, средь людей, чужих тоже? Тут и свои-то не знают, как дальше быть, все наперекосяк пошло, неладно… нет, дома надо жить сейчас. Кого только и как не тасует она теперь, чужбинка, сколько ее везде, неприкаянности всякой, как почужала сама жизнь… Ехала бы ты домой, учителка. Но по себе знает, как непросто найти его, дом свой.
Алексей все-таки выкроил время и повез ее в воскресенье сам. Говорили все больше о сентябре: «Да, бери отпуск, как раз с уборкой закруглимся…» – «Бери… Если дадут». – «Ну, сразу увольняйся тогда, невелика разница… Так мы что, Люб, – и руку ей на колени положил, качнул их ласково – так, что желание ворохнулось в ней, – свадьбу делать будем или дом? А с родными посиделками обойдемся, гостеваньем…» – «Дом, – не задумываясь, твердо сказала она. – Разом не потянем, Леш… да и зачем?» – «Ну что ты за разумница у меня!..» – и поерошил ей волосы, по щеке погладил, шее, и она, как ветру, подставляла лицо, купала в ладони его…
На подъезде к городу решил вдруг: а что, заскочим сразу к Ивану?! Утром звонил он Базанову, и тот в редакции будет с какой-то срочной работой, ждет, надо перевидаться. «С тобой хоть подольше побуду, а то не видя три дня эти… Заодно и познакомлю». – «Наверное, и мненье спросишь – потом?» – пошутила она, не без ревности. – «А почему нет? Он хоть и щелкопер, а глаз наметанный… Выслушаю. А рассужу по-своему». – «И как же?» – «Любя… Не смотри так, дорогу потеряю».
И это все ведь, оказывается, что о любви ей сказал он – за все время, сколько они вместе. Будь он не за рулем – и она, может, приласкалась бы, спросила наконец, как это – любя, ей и слово это нужно тоже, без него, ей кажется, будто чуточку не завершено их счастье… а что счастлива сейчас, это она сознает. Но, видно, он суеверный тоже, сглазить не хочет, знает, что завершенность, полнота достигнутая тут же и разрушаться начинает здесь, в этом неполном всегда, неясном и жестоком в себе мире… так? Может, и так; и пусть не говорит, они и так это знают, вместе знают, а больше ничего не надо.
Выпутались из улиц к центру, более-менее прибранному, с газончиками свежими, поливными, с людом, живо снующим на перекрестках; и он угадал, глянул – как один только он глянуть может, с полуулыбкой в краешках губ и в глазах, доброй, нечасто они добрыми бывают:
– Что, не хочешь из города?
– К тебе хочу, – сказала она упрямо.
В редакционной многоэтажке, увешанной вывесками газет, они прошли через фойе с подремывающим в кресле милиционером, ничего не спросившим, поднялись на второй этаж. Не то что стесненной себя чувствовала она, но ведь смотрины, что ни говори, у лучшего и, как кажется, вообще единственного друга, так на вопрос ее и сказал полчаса назад: «Да один, считай, других-то стоящих и…» Тем более известный такой; но на это было чем успокоить себя: свой же, сельский, мать у него, оказывается, в Заполье живет, хоть в соседнем районе, а недалеко.
Алексей без стука толкнул одну из дверей в темном коридоре, пропустил ее вперед.
Из-за стола оглянулся на нее, торопливо встал парень в расстегнутой по жаре чуть не до пупа рубашке, колупнул одну пуговицу, другую. Большеглазый, с темными, сейчас, в работе, беспорядочными волосами, с залегшей уже на лбу морщинкой вертикальной, думающей, симпатичный, пожалуй, – Ваня и Ваня… И она тотчас вернула уверенность себе, даже улыбнулась слегка его растерянности, так он глядел…
– Что, не узнаешь? – за руку здороваясь с ним, сказал Алексей. – Своих надо знать в лицо… Люба моя.
– Иван… Мне говорил о вас Алексей…
– Петрович, подсказываю… Хватит тебе чайные церемонии разводить! Да и некогда нам, десять минут на все про все. Уборка у меня – может, слышал? Фамилию свою мне оправдывать надо.
– Тогда – кофейку? – И включил чайник пластиковый белый, новомодный. – Да садитесь…
– Что, тоже в выходные приходится? – с улыбкой сказала она ему, и он засмотрелся на нее, не сразу отвел глаза:
– Да вот, круглый год пашем-сеем, а убирать нечего. – И оправился вроде, улыбнулся тоже – открыто, малость будто удивившись себе. – А к кофе у меня сахар только, не взыщите… не рассчитывал на красавиц. В казенщине в этой…
И маленький кабинет свой одноместный, накуренный, несмотря на открытую фрамугу, обвел хозяйской уже рукой, пренебрежительной.
– Нет, школа какова?! – кивнул ей Леша на него, усмехнулся. – Сразу под уздцы!.. За своей конюшней смотри. – Папку, с собой прихваченную, расстегнул. – Так, по делу… Вот материал, какой обещал… всякое там, сам разберешься. Не маленький. А это программа краткая областной нашей организации. Независимой, повторяю, ни от какой там московской, от генерала этого… И юридически, и идейно, само собой, – сами с усами.
– Значит, все-таки Русский национальный собор?.. Н-да. Церковным все равно тянет, свечками. Просфорками. Народ, так сказать, не поймет.
– Ну, не тебе, нехристю, судить… Займись, Люб, – показал он глазами на поднос с чашками, на закипающий чайник. – А мог бы вроде знать: собор – учрежденье политическое тоже. Не меньше, чем церковное.
– Да наслышаны, начитаны, нахватаны… – Иван смотрел, как насыпает она в чашки кофе; а когда до сахара дошло, показал ей палец – одну ложечку – и подмигнул, совсем по-свойски, и она с понимающей улыбкой прикрыла глаза. – Вся власть соборам!..
– Что это вы там… семафорите? Да, собору!
– А где ж большая программа, развернутая? Тут же одни лозунги только. Речевки, гляжу. Слоганы. Дацзыбао – на стенку в туалетах.
– Не закончили еще. Третье обсужденье будет.
– Та-ак… Москву единогласно сдали, до Тарутино не добрались… Что-то не то у нас по дороге.
– Да вот такие чистоплюи, как ты. С водкой, с марафетом… с оптимистичным анализом на год две тыщи десятый. А мы там уже. Организацию сколотили, рабочую. Действующую!
Она с удивлением и уж тревогой слушала спор этот, новое это совершенно для нее… не хватало еще поссориться им, тем более при ней. И серый проблеск этот в его прищуре ничего хорошего не обещает:
– «Слоганы»… Разуй глаза. Это система политических мер, ни одной щели для воров. Ни одной запятой лишней, прочитай на досуге… Ладно, кофеек пьем.
Ну, слава богу… Она перекрестилась даже про себя; а Иван как ни в чем не бывало попивает уже – привык давно, верно, ко всем таким Лешиным резкостям, выразительные глаза его ироничны, если не сказать – ядовиты:
– Это – на бумаге. Эрстэ колоннэ марширт… А реальных средств у вас и на четверть этих пунктов не хватит, даже если политически выживете. А сдохнуть ныне просто, в русском этом словесном угаре… утречком не достучатся соседи, люди добрые.
– Будут реальные. На то и собрались.
– Соборовались… Ладно так ладно. Так вы что сейчас и как? Куда?
– С Непалимовки мы, – сказал она, по возможности весело. – Завезет меня Леша – и назад.
– Эх, жалость какая! А то пошли б сейчас в кафешку, где потише, поуютней…
– Кафешантанщик, я ж говорю!
Так вот оно и есть, в кафе уютней ему, похоже, чем дома… И как-то жалко его стало, ясноглазого: напоролся смаху, видно, на какую-то, а теперь вот пятый угол ищет.
– О чем маракуешь-то? – Алексей постучал пальцем по боковине пишущей машинки. – Хоть по делу?
– А-а… О женщинах, вестимо, о ком еще, – заулыбался было тот, но тут же и покривился, серьезным стал. – Мало хорошего. Продают нашу женщину на всех углах – и если бы в рекламе только, в порнухе. И в бардаки, и на запчасти… Тут не столько даже деньги, тут глубже задумано: сломать нам воспроизводство, говоря грубо. Деторожденье. Кастрировать хотят, стерилизовать – психологически. И по всему фронту ломят, сволочи, брагу жизни, березовый сок ее на самогон перегоняют, на секс… Я на этих гляжу, какие заправляют всем, при должностях, солидность уже нагнали на себя… они что, мальчики? Иль вправду бесы – с рожками? Основу жизни взламывают – и думают, что в стороне от этого останутся, с рук им сойдет… я поражаться устал! – Он разозлился, осунулся, скулы выступили; и ей больше говорил, чем Алексею, еще шире глаза раскрыл, гневно дрожал губами: – И всерьез ведь рассчитывает вся эта шелупонь демократическая, что лично у них все и везде в борделе этом всеобщем цивилизованно будет, тип-топ… ломай жизнь, на дыбу ее подвешивай – и хорошо живи! В особняках своих живи, со всем барахлом награбленным, мародерским, детей даже люби своих, ублажай чем можно!..
– Ничего у них не получится, – сказала она, чтоб успокоить ли, смягчить как-то его. – Зверинец получится, если без… идеала хоть какого-нибудь. Ну, без любви.
С некоторым усилием выговорила она это, про идеал, но другого подходящего, не такого громкого слова не нашлось.
– Вот!.. – приткнул он пальцем, глянул быстро на нее, удивленно будто. – Короче не скажешь! И точней.
– Ну и родили бы, с Ларисой.
Алексей вполне серьезно это сказал, без всякой подначки, и она про себя согласилась с ним: а в самом бы деле. Может, кое-каких проблем и не стало б… другие появились бы, к жизни поближе, шутка ли – ребенок…
– Кандидатскую она хочет родить… – поскучнел Базанов, и ей показалось, что сожаленья в голосе его не так уж много. – Никогда не пишите кандидатской, Люба.
– Вот уж не собираюсь, – засмеялась она, переглянулась с Лешей. – А у нас – ну, на мелькрупозаводе, – могли бы некоторые. Как, например, фуражное зерно народу скармливать, американское… Хоть садись и пиши.
– А-а, это в городах наших, по востоку? – тут же сообразил, вспомнил он.
– Да уж и тут пошло, то же… Замазка, а не хлеб. Не пропечешь.
– Так это от вас? Точно?
– С мелькомбината, ну а потом от нас. За другие мельницы не скажу, не знаю.
– Из наших писал собкор один, по востоку, а концов не нашел – все виноваты, минсельхоз первый! А достань его. Этим особо подзаняться бы, мерзости кругом… не успеваю, понимаете?!
– Ну, обо всем не перетолкуешь, – поднялся Алексей, сделал руку кренделем, и она с готовностью, с охотой пристроилась к ней. – Оставайся, несчастный! Позвоню. Ларисе нижайшее… скажи: после уборки в гости будем. Всерьез, бутербродами не отделается.
– Ни одного не будет! – клятвенно пообещал Иван. – Провожу-ка вас…
– Еще чего. Сиди, мысли.
Лестницы дождавшись, сердито выговорила ему:
– Ну, зачем ты это, про бутерброды?! Нельзя ж так!
– Ничего, для профилактики. Он сам давится… по горло сыт ими.
– А интересный. Неплохой…
– Плохих не держим.
Только дома – чем-то странным немного показался ей теперь дом этот, совсем уж временный, – обнаружила она, что одной сумкой больше выгрузили они из багажника и принесли, синей, незнакомой.
– А эта?..
– Да со склада кое-что выписал… мясо там, копченка, то-се. – И усмехнулся: – Взялся за гуж – не говори, что не муж… Ешь, не экономь. И – поехал я, Люба, с трассы к комбайнам сразу. Старье ж, встанут – он меня к стенке поставит, Вековищев. И будет прав, сам поставил бы… затянем к дождям – на одной горючке обанкротимся. – Обнял, улыбнулся в самое лицо ей, близко: – Ох, заскочу как-нибудь – на ночку!..
– Ног же таскать не будешь, милый… – почему-то шепотом сказала она ему, стала целовать лицо. – Успеется…
– Да?! Может, до пенсии отложить прикажешь?..
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































