Текст книги "Новомир"
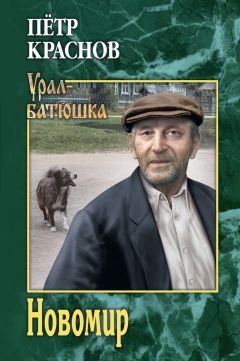
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 28 страниц)
VI
– Мама-ань!
– Аюшки?!
– Есть хочу!..
И всегда ему давали, хоть порой с подзатыльником за настырность, но есть давали. Он такого, чтобы не давали, не знал; и уже уминал вовсю бледно-серую ноздристую, жесткую как подошва краюху, пока мать, громыхая прогоревшей жестяной заслонкой, гнулась у загнетки печи, что-то доставая ему скудное, но горячее; а хлеб – он вот он, под чистой ряднинкой на столе, почти вволю. Да нет, считай что вволю, ему-то досыта. Школьная самодельная сумка его из такой же ряднинки, только старой, на подоконник брошена; в глубоком окошке дымит, избяную пыль роит мартовский нещадный свет, поесть быстрей и туда, в немыслимый этот свет и свободу, уроки потом. Затируха с лучком тоже серая, зато едок, по отцу, из всех: уж ложка не рассохнется…
Еще не тронутый теплом снег не блестит, не дробится еще ледяной корочкой, а лишь ослепительно, освобожденно как-то белеет, светит весь, и белизна его, отраженная, возвращенная небесами, будто дымкой повисла, продернула все насквозь прозрачным туманцем слепящим. Благостные, стоят на задах тополя средь нехоженых снегов, каждый теперь в маленькой своей, едва приметной со стороны лунке – это от согретой, уже совершенно сухой коры. Одна дорога накатанная блестит да лед на срубе колодца, да еще высоко зависшее солнце катается само в себе, переливается в своем блеске над стоячей тишиною улицы, деловитыми петухами изредка нарушаемой, гусиным сторожким кагаканьем. Осели, пока лишь только под тяжестью своей, сугробы, подросли оттого избы, приветней глядят с обеих сторон, нет уж подслеповатости в них, безнадежности зимней – да и сколько можно… Салазки елозят, мотаются сзади в раскатах, а то в задники валенок подшитых ему тыкаются, как глупые. Санек углядел его в окно, мигом выскочил, натягивая на ходу куцую ребячью телогрейку-колхозницу, побежал к сараю за своими вязанными из березы легкими санками, а следом в хорошем настроении вышел за ним дед его, старый дядя Иван. Вышел, намереваясь, видно, к себе идти; на небо глянул, на ярое солнышко – и от избытку света, как от табаку, хлебнул воздуха, чихнул один раз, другой, утираясь и с удовольствием приговаривая себе: «Доброго здоровьица, сват Кондрат!..» – и сам же отвечая: «Здоровье-то воловье, да на Кондрате зипун заплата на заплате…»
Дед Иван не то чтоб строгий, нет – он просто думает все о чем-то, не перестает, и что ни скажешь ему, как он тут же оторвется от всяких своих мыслей, озаботится весь и головой покивает: «Так-так… что ты сказал? Домой, говоришь, зовут? Пойду… да-да, щасик, это, пойду». «Думает много, – мать говорит, – а такой же бедный, не лучше нас, никак хозяйство не ладится…»
Нет, дед – он добрый. А сейчас вот и вовсе веселый вышел, в духе. Он вон и прошлым летом, под осень, когда у него гость ученый был, а они с Саньком ради интереса прибежали поглядеть, – он и тогда не прогнал, а наоборот, за стол их обоих посадил по такому делу, Санька по голове погладил, сказал: «Это унук мой, Семенов, а этот тоже свой… Так ты когда ж последний раз Семена-то видел?» – «Сразу после войны, помню – в форме еще». – «Да-к он, считай, до последнего в ней ходил, латать – не за что хватать. Любил. Так вот поразмыслишь – ничо не выходит…» Гость был двоюродным братом дяде Сеньке, не старый, а уже в очках; Саньку две книжки дал и конфеток дорогих, в бумажках, и ему тоже четыре дал, дед Иван так мигнул ему – он и дал. Сидели за столом все, даже и самый старый дед из запечья вылез, борода аж зеленая, а все живет. Его уж и звать-то забыли как: дед и дед. Потом он, вспомнив, у матери даже спросил: как у Головиных деда звать? «Макси-имом… – сказала мать. – Ввек не забыть». Ел он плохо, руки больно дрожали, ел-ел и крошку на пол уронил. И так за ней, за крошкой, и полез под стол. Его отговаривать, а он все равно не унимается, лезет: «Как же, – бормочет, – нельзя…» Санек первый не выдержал, прыснул; глядя на дружка, заулыбался несмело и он, уж очень дед разволновался: глаза как-то безумно, диковато выворочены всегда, полны старческой белесой слезой, шея и спина под просторной рубахой тощие, одни жилы; глядит боком, как гусь, под стол, трясет головой: «Нельзя, – лопочет, – нельзя…» Согнулся Санек, захихикал – и тут же ложкой по лбу схлопотал, так рассердился дед Иван. «Глупые! – бросил, только что не крикнул. – Рази над этим смеются?! Ох, неразумные…» И правда, как-то нехорошо получилось.
Вышли потом на воздух посидеть, к завалинке. И тут как тут Погребошник откуда-то взялся, всякую посиделку чует, другой раз думаешь – с улицы не уходит:
– Здорово, годок! Не забыл?!
– Ну что ты, Василий, как забыть! Ну, здравствуй… садись вот сюда. Как живешь-то?
– Да как…
Так они разговаривали, потом что-то все примолкли, задумались. Гость, разминая папиросу и оглядывая поросшую лебедой и жирной пустырной полынью улицу, серую, нахлобученную кое-как солому крыш и скособоченные плетни, вздохнул:
– М-да, знакомо… Пауперизм, самый натуральный.
– Это как то есть? – с почтением поинтересовался дед Иван.
– Ну, бедность…
– Х-хо! – бодро сказал Погребошник. – Бедный только черт, у него и креста нету. А мы ще ничего! Люди вон уже поросят кое-кто стал заводить, жирку, понимаешь, захотелось. А я на лето так решил: тоже поросенка заведу – а что?! Зелень будет, то-се – глядишь, к осени подсвинок. Делов-то!
– На какие шиши? Сумлеваюсь. Да и хоромы твои – одна солома, не дай бог, петух взлетит, рухнут ведь…
– Да много ему надо – три плетня, четвертый наверх… Нет, заведу. Небось мы тоже не из последних. А ежели, к примеру, взяться, так и двух, государство нынче дозволяет, оно тоже кумекает, чтоб у меня какой-никакой, а стол был, иначе я, это, и тягла не потяну, вот ведь оно как. А я привык, чтоб у меня, значит, на столе…
И такое понес, что даже всем совестно стало перед чужим человеком. Там семья – ложками запутаешься, всемером одно яйцо едят, да и то на Пасху, до снегу в школу босиком бегают, а ему хоть бы хны. Сам же посмеивается: по сусекам чистота, последнее, мол, тараканы на той неделе доели – прожорливые, черти, а в иждивенцы их не пишут, говорят – малы еще… Да куда ж, говорю: вдвоем в чашке не умещаются, злые, хоть заместо собак на пастьбу брать. Не знаем, не знаем, говорят, нам таких указаний нету, чтоб тараканов; мышей – это еще куда ни шло… А мыши поразбежались с голодухи, вот незадача-то.
К старому же деду Санек то и дело ныряет – тот хоть не в себе, а за своего признает, жалеет: то сухарик пересохший какой-нибудь вынет из сундучка, даст, то бублик-витушку или яичко. Только яйца все от долгого держания тухлые, и Санек приспособился сдавать их в магазин, шестьдесят копеек штука: «Маманя дала, на подушечки…» И все жалеют, сирота, принимают не глядя. А дед иногда сидит-сидит у окошка, да и придет в себя; бабы на ток идут, а он спрашивает: «Это какой же-ть у нас праздник ныне?» – «С чего ты, старый? Нету никакого праздника… какой те тут праздник – уборка в колхозе». – «Да-к, а что ж оне в калошах все, али лапти жалеют? Непорядок…» Совсем полоумный стал дед, на все у него одно слово. Одни «нельзя» у него и остались, а говорят – председателем был, давно, грозой по округе ходил; мать сказывает, так его боялись, что страсть. А теперь никто не боится, старый совсем дед.
Все глаза повыел свет, все высветлил, и под вечер так накатались, налазились по снегу – за всю зиму! – что уж ничего и никуда, кроме как домой, не хотелось. Прибежал, молчком покрутился возле неласковой что-то нынче матери, свою сумку было потянул с окна – уроки-то учить надо – и не удержался, полезла рука под ряднину, за хлебом. «А вот я те цапну! – суровая, углядела мать. – Я т-те так щасик!.. А что на ужин, ты подумал? Черти носят где-то, набегаются, а потом есть им… сердце рвут потом, требуют!.. Небось потерпишь!» Но скоро сама не утерпела, маленько, а отрезала ему, а что осталось – на полку. Пришел отец, папаня, долго раздевался, сопел у порога, валенки стаскивал, ловил шапкой гвоздь под притолокой; прошел потом, подсел к столу: «Што, учим?» И тут же меж ними, прямо на букваре, мучная чашка оказалась, пустая: «На, ешь! Может, и нам что с сынком оставишь, пожалеешь?! Ить это куда же дело годится, – запричитала, – куда же ехать-то дальше?.. Хоть к старому, кору хоть толочь… ты иль думаешь что, или нет?! Ты за каким тут живешь, кровать пролеживаешь? Ить уж хожу-хожу по людям, за срам не держу… так уж давать перестали, в долгах вся, как овца в шерсти! А ты свое взять не можешь, нёха!..» И печь обняла, заплакала. Какой уж вечер так, какую неделю, все зима подобрала, приела, позимок подскреб. «Завтра прямо с утра пойду, – угрюмо глядел в сторону, бурчал отец. – С места не сойду, а летошнее стребую». – «Завтрева он пойдет… доколь ты завтраками будешь нас кормить, идол?! Господи, видно, не наголодалась я! Два голода прошла, в полыну чуть не подохла, сколько можно… Неуж и детям нашим планида такая, неуж их тоже не пожалеешь? Видно, и тебе там глазыньки замаслили, добрались, что не видишь… – И, как на врага какого глядя, сказала страшно: – Домой не приходи без муки – все, хватит. Не пущу, к маманьке своей иди, раз ты такой». Помолчала, слезы утерла, жестко подтвердила: «Вот так, миленок. А к людям ходить – не находишься, все бедуют, кого ни возьми». – «Что уж, и мельник тоже?» – «Мельник да кладовщик нам не ровня, они вон полколхоза свезли. Только к ним раз сходишь, другой, а на третий сам не захочешь, хвост прижмешь. Сегодня остатним покормлю, а завтра не проси… в контору иди просить, вот так».
Нет, нехорошо дома, на улице лучше. День ото дня грело, подтаивали дороги, и капель уже заиграла, заплескалась наперегонки, заторопилась – вот она я, вот я!.. – и чиликали, хвастались на всю улицу и огороды воробьи, про общее кричали и каждый про свое; замостились зернью и блеском наста, совсем ненадежного к полудню, окрестные снега, кружевным приподнятым ледком, легким и хрупким, подернулись на солнцепеках, рушатся со звоном, с шорохом звонким от каждого шага, талой пахнут водой. Еще рано распружать, отпускать на волю подснежные воды, не пришел их срок – но и он уж недалек, уже виден.
Набегавшись, валенки промочив, завертывали к деду Ивану поиграть. Санек там свой был, как дома. Изба у них старинная, бревенчатая, и хоть покосилась вся, а просторная, солнце так и бьет в узкие старые окна высокие. И никого, все на работах, один дед старый, Максим, за печью дышит порой надсадно, с хрипом, бурчит что-то и надолго опять затихает – спит, что ли, все время? Не-е, важно мотает головой Санек, вовсе и нет: лежит – и все. Он думает, наверное. И разговаривает сам с собой. Он все время как вспоминает что; лежит-лежит, вспомнит – и забудет тут же. И начнет тогда жалиться, обидно ему становится, прямо аж слезы текут. Бабаня говорит, это всегда так: всю жизнь кто не плакал, тот под старость слезно жить будет. А кто слезокап если был, как вот Маняша, те ничего, терпят. У них, значит, терпенье от слез получается. И Санек без церемоний отдернул занавеску, сунулся туда, крикнул:
– Дедака-а!..
– А-а…
– Деда, ты что тут, все лежишь?
– Да это я… лежу… Забы-ыл… – Дед зашевелился закряхтел и даже поскулил как-то, будто что болело. – Как есть все забыл… говорю, быков распрягай и штоб духу… А он, это… Не знай, не знай, как жить.
– А ты вставай, нечего! Вставай, все бока небось отлежал. – И добавил грубовато: – Лежишь тут…
– Бока-а… Ох, не знай, не знай. Главно дело, говорю, гад ты закоренелый… а меня, ты думаешь, пожалеют?! И так его, гада, и этак. Нельзя, говорю. А ежели, например, ты бы? Или уж нет, не так… не упомню чтой-то.
– Вставай давай, нечего буробить. Тепло в избе, небось не замерзнешь. Посиди хоть, а то… Вот всегда так, – обернулся он, – не подымешь – сам не встанет. Прямо беда с ним. Мне бабаня говорит: подымай, как забежишь, нечего ему.
Дед, было видно там, кое-как сел на лежаке, свесив бессильные тонкие ноги, опираясь руками, отчего костлявые плечи его высоко поднялись. Посидел так, не глядя даже на них, ребятишек, Санек ему валенки старые широкие на ноги вздел, – и медленно сполз с постели, со свалявшейся овчины своей, тяжкий застарелый запах мочи дошел до них. И, хватаясь то за лежак, то за Санька, а то за печь, еле двигая валенками, пошел. И бороденка, и глаза, как бы незрячие, куда-то вывернутые вбок, и руки его подрагивающие, все время ищущие, нащупывающие вокруг себя что-то, – все в нем вздрогнуло, замерло на мгновение, когда Санек насовсем отмахнул мешавшую домотканую тяжелую занавеску и прямые, жаркие, благодать всему теперь несущие лучи ударили наискосок, будто ноги ему охватили, старые и холодные дрожащие ноги, будто припали к ним. И все вспомнилось тут же и забылось. Вспомнилось, через пласты прокуренного райкомовского воздуха, рябь и пестроту циркуляров увиделось холодное поле, всероссийская запашка под небом суровой весны, какие-то люди, много людей, малахаи и кепи, постные зрачки то ли уполномоченного, то ли агента райфо, сапогом ковыряющего огрех, даль ветреную и в этой дали виднеющиеся кое-где, тряпьем крытые и старой соломой, шалаши пахарей, волчьи балки, отгорки сизые, степь, и все это отражалось, изгибалось в закругленной мирообъемлющей линзе, в зыбкой пасмурной глубине воловьего глаза, покорного и терпеливого, – и вот отразилось напоследок еще и пропало, и забылось тут же, оставив по себе лишь не внятную никому, нынешнему хозяину тоже, старческую беспамятную слезу.
– Иди-иди, что застрял?.. На лавку вон иди, к подтопку. Там тепло.
– Я уж и то… Что, думаю, лежать-то? Нельзя. Спасибо, сынок. Ты, это, у нас ласковый… прямо из всех. Хорошо, это…
– Ла-асковый… Сам не знает, что буробит. Сиди уж.
– Сяду вот… сюды вот, на солнышку. Главно дело встать, а там… И, значит, этот тоже вылез, куда конь с копытом: я, мол, скажу… я ить в кулак шептать не буду!.. А каково это, вилами?! Кому ни доведись. Нельзя, да. И пошли, так иху мать! А травы где клок, где ёк. Дожжи, туды их… ветер, это, посолонь завернул – невтерпеж. Товарищ, говорю, Милисин, я ж не против. Не было такого, чтоб я – да так вот… Ну, пришла. Разве это справка, говорю. Лаптем она заверена, ваша справка. Нету, говорю, и не будет. А квитанции мы в исполком, вот так… Эх-хе-хе-е… А этот, как ево. Штукарь, что ли? Али нет? Не знаю… – Помолчал и затосковал, заскулил опять: – За-бы-ыл… Нехорошо-то как, сынок, забыл я…
– Ну, понес… – по-взрослому опять сказал Санек и полез, бодая головой подзорники, под кровать; зашипела, аж захлебываясь, там гусыня, уже поселенная там, посаженная в кошелку на яйца, и Санек, поспешно пятясь, вытащил оттуда две одинаковые железяки, торжествующе крикнул: – Во, гляди, что мне деда с кузни принес!
Железки, хоть и поржавленные, в самом деле были хорошие, даже какие-то таинственные: с откидывающейся вогнутой крышечкой каждая и шестерней широкой внутри, он таких еще не видел; а были это, оказалось после, высевающие аппараты от сеялки, в них-то они и играли потом, долго, то в лопухах, в полыни на задах под припекающим солнышком, а то, по ненастью, в избе. Играли, гудели, елозя по полу, тревожа гусыню, а дед сидел над ними, уцепившись за лавку, мелко тряся головой, шея уж плохо держала, все глядел куда-то, бормотал неразборчиво, диковато косясь в потолок, или начинал истово кивать, с кем-то словно соглашаясь и сокрушаясь тоже, и тогда речь его будто прояснялась, и опять можно было разобрать и слова всякие:
– Я ить как… ить не для себя же. Нет ить. Оне потравили, оне и отвечай. А не хочут. А вы, говорю, знаете, чем это пахнет?! Трудкоммуной, это, принудработами не отделаетесь, да! Не те времена, говорю. Нет, не те!.. И, значит, это… – Голос у деда, окрепший уже было, с фальцетом уже, будто на что наткнулся – наткнулся и съехал; и, растерянно помолчав, глядя неизвестно куда, поверху шаря мутными глазами, словно ища там чего, вдруг жалобно как-то сказал, почти пожаловался: – Ить не для себя ж…
Вошел со двора, бухнул дверью дед Иван, поставил на коник[3]3
Коник – лавочка, прибитая к стене.
[Закрыть] ведро с водою, глянул на них, играющих, потом на старика:
– Что, митингует все дедака?
– Ага! Про квитанции какие-то!..
– Вы уж не надо… не смейтесь уж над старым. Пусть его.
– Не-е, мы ничего…
VII
Слаженные, старенькие горы первыми потом встречали его, возвращавшегося издалека. Сначала были просто далью, прохладным синим, сизым в воздушной дымке окоемом в жарко остановившейся степи, призывом к себе, обещаньем приблизиться, открыться и дать все, что давали всегда в безучастной щедрости своей; а потом, пока провинциальный автобусик одолевал одну лощину за другой, понемногу выделялись, вставали из торжественно колеблемого марева, вот уж выше они, ближе, уже выглядывают из-за невысоких косогоров, пологие и теплые, со скупой зеленцой на красноватых, кое-где поразмытых ливнями склонах, уже кругом знакомые места. Из-за них, по-старушечьи округлых, с яркой мягкой муравой и черноземными по пояс овражками в распадках, вставали порой широко раскинувшиеся рати светло-пепельных, синих грозовых туч, вольно и стремительно летящих над головами встревоженных и обрадованных людей в никуда, за горизонты, наносило и холода с буранами, но откуда же вставало всегда солнце, детское солнышко раннее – вскатывалось, будило птиц и речные излуки, ночную воду, истребляло кроткий туманец… Порою, правда, жгло, морило хлеб насущный, а с ним и людей, оставляя полынь да пустырную лебеду, – но уж это стало известно ему потом, позднее, когда резче проявились черты этого мира, когда сквозь добро проступило зло, а само это зло разносило, как темный ветер, неистребимое семя доброты, необходимости ее, иначе жить было бы нельзя, не выжили бы… Доброта солнца, встающего из-за гор этих, была каждодневна, и зло так или иначе проходило, хоть оставляло по себе память.
Они первыми вытаивали весной из-под неглубокого, зализанного ветрами высот снега, и к тому времени, когда село в долине, берега и речные кусты мокли еще под сугробами многоснежных в те годы зим, горы на своих плоских вершинах и крутых лбах уже просыхали, сухое тепло галечной земли необъяснимо соединялось, не смешиваясь, с холодящим ветерком, студило и грело разом, давало вдохнуть столько воздуха и сильного, мягкого сквозь испарения весенней земли света, сколько не доводилось потом нигде и никогда. И не забыть ту ясность и радость, незамутненность ту жизни, когда они всею ребятней улицы переходили потемневший, напитанный водою синеватый снеговой лед реки, за ней долину со старым руслом, обозначенным где камышом зимним, где оттаявшими козырьками берегов, и поднимались огромным глинистым, пополам с камешником, склоном под самое небо – которое сначала, со склона, казалось совсем далеким, где-то за взлобком горы, а потом вдруг открывалось все, над всем на свете, еще выше становилось, но ближе… Улицы с огородами и дальние хутора, река с красным плитняковым обрывом родничков, лес осиновый – вот они, рядом, рукой подать, и все это обнимала пестрая талая, в клочках пашен и солнечного тумана степь.
Пасха.
Мать, с самого утра замотанная у печи, среди суеты все же вспомнила о нем, как-то вот помнила. Разбудила пораньше и едва одевшегося подтолкнула к порогу: «Иди-ка, иди… глянь хоть, как солнышко-то играет, своих потом приучай. – И засмеялась сама себе же, радостно: – Свои-их… Господи, да что тебе сейчас говорить, что понимаешь-то?! Беги-ка, а то не успеешь».
Улица еще в утренней ранней мгле, в тенях, тянет по ней горьковатым дымком от множества растопленных печей, ночью ничуть не подморозило, тепло и пахнет землею оттаявшей, прошлогодней травой. Люди не ходят – летают, часам к десяти надо управиться со всем хозяйством, со стряпаньем и сесть всей семьею за стол. Солнце еще за крышами, увидеть можно только с реки. Лед за вчерашний день и за ночь подтаял, набух, еще весь спаянный лежит, но уже плоский, чуть только приподнявшийся будто на середине – с ручьями прибыло воды; а за рекой, за пологим отгорком висит справа раннее красноватое, мягко блещущее солнце, еще не распустилось во всю свою яркую теплую силу. Ближе к лету оно будет вставать из-за самих гор уже готовое, раскрывшееся; а сейчас зависло, покойно округлое, доступное глазам, озаряет ближнее, пробует свои лучи на дальнем, гонит тени… и вдруг легонько так растягивается и подпрыгивает, маленьких будто забавляет. Вот опять подрожало; вот повело его в сторону, толкнуло мягко, под ним какие-то волны там бегут, струятся, светозарные и прозрачные, играют, вечные, с тою же радостью, как в первоначальные времена, ни на сколько не убыло ее в мире… Неистребима радость, бегут светоносные волны, играет солнышко в весенней мгле, зовет к ней, будит. С плотины слышится в тишине дальний тупой стук пешни – это мужики рубят насыпь ее мерзлую, пора уже спускать реку, чтобы не своротила дуриком всю плотину, лед сломала и унесла, себя почистила и понапрасну в огороды и на улицу не лезла; летом, к Троице, ее опять перехватят бульдозером, иначе не будет воды в колодцах и посохнут берега. Вчера тронулись оба распадка в горах, что напротив видны, глубокий снег в них черно провалился, там бушует в ледяных пещерках и теснинах полая вода, донося лишь неясный шум и бурчанье сюда, – значит, двинется скоро, пойдет и река, их Дема.
А день между тем набирал силу, теплел, уже и трубы печей не дымили, лишь горячий воздух дрожал и размывался над ними – Пасха. Из дома в дом по всему утреннему порядку уличному бегают ребятишки, «славят»; робкие и бойкие, кто каким уродился, открывают в сеничном сумраке чужие двери, появляются на пороге в печное тепло и запахи, в руках у всех ситцевые мешочки, уже-таки полные, в глазах готовность сказать все, что положено, и ожиданье. Столько в глазах ожиданья всякий раз и растерянной радости, что любая хозяйка, самая даже угрюмая, покоробленная жизнью, оттаивает: «Ой, да это никак Васек, Головиных, – с удивлением будто говорит себе и всему дому. И тянется к подоконнику, где в чашке лежат крашенные луковой шелухой, чернилами, синькой и бог знает еще чем яйца: – На-ка вот эту. Бат-тюшки-светы, а сколько набрал-то уже – это когда ж ты успел? Молодчи-ина!..» У него уже тоже мешочек полный, он забегает домой, чтоб выложить половину и бежать дальше по дворам, мать его тоже хвалит, шуруя у загнетки рогачами и чугунками, раскрасневшаяся, в отблесках печного жара вся, в углу на столе уже готовая, прикрытая слегка полотенчиком с петухами подрумяненная «пасха» – так называли они большой хлеб, яичным желтком помазанный для румяности, по верхней корочке крест-накрест завитушки сделаны: «Чтоб через полчаса домой, садиться будем…» «Ого, – посмеивается и отец, зашедший со двора, где управлялся со скотиной, и тоже говорит: – Это когда ж ты успел?! Молодцом, так и надо! А у крестной-то был?» Был, к первой забежал. Два самых ярких яичка дала крестная и конфеток в придачу, обрадовалась своему; век не забудет он два яичка этих, крестную саму, тихую, ходившую к своим по задам всегда, неприметным челночком сновавшую, скреплявшую собой всю довольно горластую и неспокойную их родню.
Откровенно теплый, чуть не летний денек выдался как по заказу. Вынесены из домов на подсохшие сугревки столы, мужики режутся кто в картишки, кто в домино, дымят, пересмеиваются, хмельные малость и все сплошь нынче благодушные. Где-то пиликает гармошка, цветастое мелькает по всей солнечной улице, опять смех, иногда радостный девичий визг, торжествующий крик молодости. Бабы, распустив праздничные юбки и фартуки, расселись по завалинкам и скамейкам, семечки грызут, шелуха виснет по неутомимым ловким губам, спадает гроздьями в передники – дружно тянут, перехватывают ловко друг у друга крученую веревочку разговора, обо всем, что увидят, вспомнят ли, подумают. Кое-где кучешками греются старики, не спеша переговариваются, порой тихонько псалом какой-нибудь затянут, начнут тихо совсем, будто про себя каждая, и обязательно докончат – сплошь почти одни старухи, изредка торчит меж ними выгоревший, полувоенного образца картуз, повыбило жизнью мужичков, при любой склоке в самой середке оказывались. Иное дело в избах, чаще всего в задней половине, где собрались охотники посидеть за столом, за бутылкой хлебного кисловатого самогона. Синий дым пластается в солнечных лучах, бьющих прямо в окна, в потные, немного сонные лица мужиков. Кто нехотя хрустит соленым огурцом, кто размахивает руками, то снимая, то надевая опять шапчонку, в затрапезной стеганке, забыл за стаканами с утра приодеться, – доказывает что-то. Но надо и меру знать, да и солнце морит, подымаются: «Ну, не дорого пито, дорого – быто». Выходят на воздух, на завалинку, еще не вполне просохшую, усаживаются, а тут как раз с невысокой горушки, на которой стоит изба, ребятня яйца катает. Интересно мужикам, сами катали. Подзадоривать, подзуживать они мастера:
– Что за шум, а драки нету?! Ну-кась, чья очередь?
– Колян, ты что эт?! Твое ж яйцо – бери, нечего думать!
– Где это его, когда мимо… Санек, не отдавай!
– Как это «не отдавай», когда носком задело! Больно легко жить будешь, ежели… А ну-ка дай ему, Колян!
– Никаки-их!.. Подножку ему… Та-ак! А теперь ишшо – ай молодец! Ну, ишшо – ну!.. Бей, не боись! Ну-у, брат Санек, как же эт ты оплошал…
Двое дружков его, сопя, изо всех сил сдерживая злые слезы, катаются по мягкой, с втоптанной семечной шелухой земле – уступить, сдать при взрослых никак нельзя. Распаленный, всегда в драках злее, Санек угодил наконец быстрым своим костлявым кулачишком сопернику по носу, тот кинулся было, но увидел свою закапавшую на землю юшку и зажмурился, губенки дернулись и задрожали – готов, сварился… Мужики ухмыляются, довольные, хвалят Санька, а Коляну сочувствуют, но так обидно, что лучше бы уж ничего не говорили… И тут кто-то неожиданно осаживает Санька:
– А ты-то что распетушился тут, разгордился?! Подумаешь, Коляна он победил… Колян зимою ногу ломал, в себя ишшо не пришел. Ты вон другого, его вон победи, а потом гордись. Что, задумался? Тут, брат, задумаешься, это тебе не Колян… Ну, ладно, не надо, ежели боишься…
Санек поворачивается к нему – да, к врагу теперь уже, это видно по его готовым на все, враждебно узким глазам, хотя всего минуту назад они были самыми что ни на есть верными друзьями, в одной паре и в «чижик» играли, – и быстро, не задумываясь, кидается вперед. Санек еще распален, зол и ловок, а он смущен таким вот неожиданным поворотом, не хочет вовсе драться – но и отступать некуда, все смотрят. Он заслоняется кое-как, делает назад, споткнувшись и едва не упав, шаг-другой, отмахивается как может, а его подбадривают, будто за него все:
– Ничего-ничего, браток, держись! Вмажь ему хорошего, чтоб знал наших… Бей своих, чтоб чужие боялись!
Поддержка в самое время, Санькин кулак уже в ухо заехал, в скулу, ветрено в голове стало и пусто, поплыло… ах, ты вон как?! Но Саньку лишь одно надо, он бьет уже нагло, без совести всякой, уже и ногами, под низ… Ему потом сказали, что мужики собрались было разнимать их, больно зло и не в лад дело пошло, – когда он, еле удержавшись на ногах от очередного наскока, удара опять, вдруг неожиданно для всех, для себя тоже, со всего маху треснул уже торжествующего, яростно дышащего Санька в лицо. Тот упал, что-то сипя, а он кинулся на него, насел и тыкал его лицом в землю до тех пор, пока чьи-то сильные жестковатые руки не стащили его с дружка бывшего, не оттолкнули. Потом долго мирили – «мирись-мирись, больше не дерись», – он не хотел, злобно плачущий Санек тоже, помирили их насильно.
После обеда всей ватажкой пошли за реку, на горы. Каждый прихватил пару кизяков, картошины, кто-то спер дома бутылку керосина и шел, гордый, налегке. Шли старицей вразброд, вольно, мерили промазанными дегтем кирзачишками каждую попавшуюся на пути лужу – а их много было, этих ложбинок с талой прозрачной, еще ледяною водой, с шелковистым мягким дном из мертвых трав, и в каждой по солнышку каталось, и не хотелось уходить от каждой, а вот так стоять, смотреть всегда на легкую их прозрачную рябь от переменчивого, талого тоже ветерка, стоять и смотреть. Рядом с еще запечатанной ледышкой суслиной норой – спят пока суслики, но уже, должно быть, неспокойно спят, ворочаются – углядел он один, за ним другой зеленый колкий венчик «пальчиков», корешков таких белых, которых всегда пять, травянисто-сладковатых; выкопал ножичком, ополоснул в ложбинке и съел, остальные тоже орудовали вовсю ножичками и палками – но пора идти. Все слышней падающий шум, будто мельницы водяной, распадка тронувшегося, лощины: бесится и скачет, вырываясь из грязного источенного снега, вода, прыгает на черноземные подмытые обрывчики и, обессиленная, падает сама в себя, в страшноватую, глухо бурчащую подснежную пещеру-промоину, под лед старицы. Здесь осторожнее надо, недолго и пропасть, как много тому лет назад пропал один мужик, – так, говорят, и утащило под лед, только и нашли, что шапку. Далеко обходят они устье распадка, снежный, блещущий, такой безмятежный на вид склон, начинают карабкаться в гору. Там, наверху, кто-то уже есть, вьется дымок, ветер доносит обрывки смеха и криков – это свои. Верстой дальше, на высоко взметнувшейся соседней горе, тоже двигаются фигурки и что-то стоит, тряпица на жердине, что-то вроде флага или бунчука, – это с соседней улицы, навек враги… пойдут нынче или нет? Они там дружные все, хитрые, драчливые – около сельского клуба живут, научились всему. Если их больше, то драчки не миновать; хитрые, знают, когда кулачки затевать. Подъем все круче, суровее, голая бедная глина, жесткой спутанной проволокой чилижник по карнизам коровьих тропок, здесь как раз самый прогон колхозного скота. Ковыль редок, отдельными плотными пучками, а меж них все та же глина с гравием, местами вымытая каменная чешуя плитняка да всякий жухлый сор, подсохшие уже прошлогодние лепешки коровьи, есть чем костер питать. Ветер все настырней и прохладнее, пахнет степным, кизячным, солнце в легкой светлой наволочи, но пригревает как надо; а сверху уже машут, радуются – своих прибыло! Вот последнее, самое крутое, вот взлобок сам, небо, сухие сизые плоскогорья с белеющими по ложкам снежными языками – открываются, уходят увалами далеко, в дальние свои туманные кочевья, туда, где рождаются облака и ветер гонит вечные волны ковыля, вызревающих летом хлебов.
Высок, просторен мир, а никто этого, иногда кажется, будто и не знает. Празднует внизу свой день село, шевелится, мельтешит что-то на его улицах, все та же будто, только разве что самую малость другая работа муравьиная там идет, – а тут праздное и вольное всегда, когда бы ни поднялся, и если есть она, работа, то мало кто видит ее, так она слита со свободой высоты. Сквозь старый прорезается новый ковыль, молодой, солнце греет, плавными и широкими, никем не означенными кругами плывет еле заметный в первовесеннем мареве то ли беркут, они тогда еще водились, то ли коршун, не разобрать; где-то поблизости, должно быть, шныряет по голым еще логам, оглядываясь на каждый ветерок, голодный лисий выводок, еще по осени спугнутый ими в верховьях распадка. Лишайник уже зеленеет на камнях и земле, торопится, пока не прогнало отсюда влагу, травка мелкая – еще подземная, бледная – лезет, все понемногу просыпается, пробует жить, все заново. Живет здесь еще что-то, неназванное; словно какая дымка сквозит, сама душа высокогорья этого, времен, которые были здесь и прошли, сгладили самые горы, поразмыли глину, камешник обкатали до ласковой гладкости, ковыль наростили и дикий вишенник – были и пролетели… Шумит внизу, скатывает свои торопливые снеговые воды лощина, ворчит непокорно, зверовато, и вот послушаешь подольше, постоишь – и будто различишь вдруг внятную жалобу, крик прощальный чей-то, сминаемый потоком, скрываемый, но опять и опять возникающий, – будто чью-то душу тащит неумолимо под тяжкий источенный лед…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































