Текст книги "Новомир"
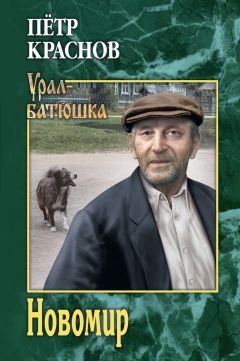
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 23 (всего у книги 28 страниц)
Доняло жарою и старика: туфайчонку свою, всю плоскую и тяжелую от долгой носки, снял и, прежде чем свернуть и к лямкам своего мешка приторочить, повертел ее, поглядел, с удовольствием сказал:
– Чи-истая… Я и Федьке своему тоже говорю: что ты женку-то маешь стеганками своими этими, как их… мазутными? День-деньской колотит на реке, сердешная. Ты вывесь, говорю, на плетень ее, туфайку-то, под дождик, особо если окладной… вывесь, и пусть висит себе. Через день-другой куда твой мазут денется, солидол…
– Что, и солидол съест?
– И солидол съест, а что ж. Чистота, знаешь, свое всегда возьмет… на то и чистота.
– Я тоже шофером стану – ну ее, эту скотину! Целый день бегаешь как дурак. А дядь Федя вон сел и поехал.
Дед глянул странно, обидно даже как-то, о чем-то совсем другом думая, и сказал – будто даже не ему, а иному кому сказал:
– Ты еще сосуд малый, скудельный… что вольют, тем и будешь. Так-то.
И добавил, переменив голос:
– Ну, пошли. А ты вот что… ты гони давай лощиной, низом, телята смирные сейчас, а я тут на Культурку загляну, я скоро. Гони потихоньку, хватит им.
И ушел вперед. А он промашку сделал. Гнал себе да гнал низом, а потом решил, чтоб побыстрей до стойла, скосить дорогу, напрямую верхом взять до другой лощинки, а там уж до реки и рукой подать, там сами побегут… Стал заворачивать – жара уж очень изморила – и еще снизу увидел, что куда-то не туда заторопились вдруг телята, потянулись друг за другом. А когда единым духом, с колотящимся от нехороших всяких мыслей сердцем одолел склон, выскочил наверх, то увидел такое, что разве в плохом сне когда бывает… На виду у Культурки – вон уж будка ее, флажок трепещет и люди какие-то ходят, – на виду у людей целых полстада уже подопечных его вломилось в кукурузу молодую, рассыпалось в ней, жадно хватают, ломают и топчут, панический только хруст, шелест бежит по ней, разор уж всюду… а бригадир если, объездчик там?! И кинулся.
– Это не твой там страдует, помощничек-то?.. – с усмешкой сказали деду Трофиму на Культурке. – Ишь ведь как носится… припекло-о! Ничего, пусть кукурузки хватнут, попробуют, не все ж колхозным. Ярар[6]6
Ярар (тат.) – хорошо.
[Закрыть] им сейчас, разговление… день святого объедения! Да не спеши, Трофим Николаич, – выгонит. Бригадир далеко, а ему за науку: попотеет, зато ночку нынешнюю крепко поспит. Делов-то.
– Потеха!.. – хохотнул, глядя из-под руки, другой. – Он их оттудова, а они, кажись, еще дале… Вот умора-то. Это чей же у тебя такой?!
Когда дед Трофим подоспел, он уже последних выгонял, самых жадных – из последних, кажется, сил… Выгнал, вскачь заставил их в лощину спуститься – довольным, дурашливым даже скоком уходили они от его кнута, – тонкий матюжок вдогонку запустил. И, деваться некуда, к деду пошел, утирая запаленное лицо, все косясь еще на остановившееся, как ни в чем не бывало пощипывающее лениво травку стадо внизу. Подошел, ожидая всего, не то что глаз – лица не в силах повернуть к нему, стал.
– Ты што ж это, так-то?.. Иль как побыстрей хотел, полегчей? – Помолчал, хмыкнул и сказал: – То-то… Ну, ладно… явен грех малу вину творит. Погнали.
И с Погребошником, хоть и не рядом жили, стеречь доводилось, вот уж с кем не соскучишься. Как-то спросил у матери: что это, мол, все – Погребошник да Погребошник?.. «Да-к, а сметану в парнишках любил, – отвечала, – в погребках чужих. Другие баловались, а имя ему одному досталось. Непутевый, попадался часто». А пастьбу он знал не хуже «многих некоторых», как он хвастал; и, как ни странно, все кругом подтверждали это, головами кивали – знает. Полстепи обойдет, а скотину получше иных накормит. Предлагали уже и в пастухи к обществу наняться, плата не то что в колхозе, мигом бы хозяйство свое поправил – отказался: «Не, я один не могу… мне чтоб с народом. Я, когда один, маюсь дюже. Вот маюсь – и все!..» Небритый вечно, глаза с бестолковинкой рассеянно-веселой, праздной; матерок его беззлобный, бодрый то на базе слышен, то на Культурке, а то у двора какого-нибудь, где собрались посудачить, – второй бригадир, везде поспевает…
Утром, мимо колхозной базы прогоняя, захватывали всегда Цветка для коров. Кто так назвал быка – неизвестно, только совсем уж не цветок был: масти грязновато-серой, осадистый, с крутым толстенным загорбком, он не шел, а медлительно шествовал, мало на что, даже и на коров, обращая внимание; а то стоял, весь будто в думе о грузной силе своей, сквозь дрему силы этой смотрел куда-то, так вконец и не решив еще, куда бы ее употребить, грезил и в грезе этой тяжел был и одинок среди всего… Пока стадо, будя обмокревшие в росе кусты, вламывалось в них, с чавканьем одолевало низинную топь Черноречки, пило и обчесывалось в ее зарослях, готовясь к дальнему прогону на заречные травяные взгорья, Погребошник скорой ногою сбегал на бычатник и вернулся, погоняя впереди себя на тяжкую рысь иногда переходящего бугая. И все бы, наверное, обошлось, то есть было бы как всегда, если бы не топь эта, куда и взбалмошные телки без нужды не лезли, старались обойти.
Цветок, чтобы перейти ее, сунулся было в одно место, в другое затем; загрузнул, но рывком взбросился, выдрал толстые короткие свои передние ноги из грязи, попятился, заворачивая всем корпусом на сухое, – когда наскочил на него, дурным кроя матом, погонщик… В безалаберном раже наскочил, никому не нужном, такое бывало с ним почему-то порой; и тяжелым от росы пастушьим кнутом оглушая воздух, жахнул, опоясал с ходу так умело и беспощадно, что бык будто наткнулся на что – замер тупо, а потом стал поворачиваться к обидчику. Но тяжело опять взлетела рука с кнутом, запоздалый толкнул в уши, осушил слух еще удар один хлесткий, грязною полосою возник по морде быка прямо – и осек, и не дал собраться силе этой. Дрогнула, помешкав, сила, и Цветок, по воде, по грязи свои подбрудки волоча, все тою же трусцою грузной вдоль речки взял, а потом под остервенелую ругань преследующую прямо в топь свернул все-таки, туда, куда его с таким идиотским упорством и совсем без нужды загоняли. И одолел ее с трудом, даже для него едва посильным, голову подымая от брызг воды и грязи, выбрался на тот берег, стал; морду потянул, неизвестно куда глядя, низко и глухо проревел что-то и, не оглядываясь, направился к стаду – уже в гору потянулось стадо, на старинные свои коровьи тропки, перепоясавшие всю степь, на прогон.
И весь день потом не было покоя от Цветка, весь день он то тут возникал, то там, бунел издалека угрожающе, землю медлительной вроде ногой кидал – но далеко, грозно летела с клочьями дернины земля; и уходил в стадо, серою глыбой сквозил в нем то здесь, то там, всегда неожиданно, и не раз вздрагивали выведенные из забытья привольной окрест жизни пастухи и поспешно оглядывались, определялись, где они и где он, вездесущий… И всякий раз, когда слышался утробный этот, из-под земли будто доходящий рев неудовлетворенный, ему отзывались, неслись в ответ нервные, со злом немалым уже матюки Погребошника и летели вослед угрюмо уходящему камни – все карманы набил Погребошник ими, обкатанными дождями и временем, изъеденными многотерпеливым лишайником камнями со взлобков окрестных, не любил Цветок летящих камней.
Под вечер, еще не выгнав стадо со стойла, решили перекусить, прибрать все съестное, что наложено было в их кирзовые сумки из дому – «шут их не таскал, эти сумки… все руки оборвал, надо-ть освободить, облегчить…» Облегчать-то, впрочем, не от чего было Погребошнику, оставалось у него в сумке краюшка серого заветревшего хлеба, яичко да соль в спичечном коробке, другого провианта и с утра не было, скудно живут. Зато освободилась газета. Он ее расправил, разгладил кое-как на колене и принялся читать, приподняв и далеко на вытянутых руках отставив: «Близко глаза не берут – бастуют, стервы». Так он читал, и по лицу его то будто тени, то свет какой бегал, брови хмурились иногда, но тут же и подымались, удивляясь не на шутку, а бессмысленно-веселые такие всегда глаза теперь напряженно, с трудом даже ползали вслед за буковками, пытаясь что-то такое из них добыть, скрытое, но ему очень нужное, а что – он и сам, должно быть, не мог бы сказать. Если и читались где усердно газеты, так это на пастьбе. Коровы мало-помалу подымались с песчаной речной косы, проходили мимо него, так вот важно сидящего, разбредались потихоньку по заросшему татарником и полынью берегу, а одна подошла, яичную скорлупу на сереньком песке понюхала, а потом и к сумке его потянулась: только и ждут, когда ты сумку хоть на минуту оставишь, хлебушек всех тянет… Погребошник, не глядя, отмахнулся: пошла-пошла, нечего!.. И развернул газету, большая была газета, не районная. А он пошел завернуть коровенку Лагутиных, прожорливую и потому вечно рыскающую, беспокойную, все норовившую отбиться от всех и куда-нибудь в запретное залезть, ухватить. Тетка Поля так и называла ее – «ненажора»… Пошел, краем глаза какое-то очень уж скорое движение в стаде уловил и в какой уж за день раз спохватился – где Цветок-то?..
Бык ходко шел, не сворачивая; коровы, что-то почуяв неладное, уступали ему дорогу и вослед глядели, а он, загорбок приподняв, шел среди них прямо к Погребошнику, а тот не видел… Надо бы крикнуть, позвать хотя бы дядю Ваську, чтоб очнулся от газеты, но голос куда-то запропал, только руки хватаются за карманы – камни, где камни… неужто не осталось?! Вот он, камень. И тогда он крикнул что-то и побежал к дяде Ваське, тот на него, подпаска, оглянулся, а бык уж рядом… Уже взмыкнул, головой взмотнул, поддел короткими рогами, широким лбом грязно-курчавым – но только газету, она и спасла. Она, шуршащая и цепкая, одним крылом как-то повисла все ж, и не на рогах даже – на морде, прилипла будто, и бык оскорбленно, глухо заревел, мотнул мордою вбок раз, другой, переступая вбок же и стараясь скинуть, а пастух уж на четвереньках, на четвереньках кинулся в сторону, за шарахнувшихся коров, пытаясь в стадо уйти, – но вот и про ноги вспомнил, встал на них… И криками, киданьем камней и гальки всякой не сразу в растерянность ввели, сбили гонор с быка; все он бунел, косясь мутным тупым глазом, упрямо голову пригибал, песок нюхал и кидал его под себя угрожающе, себя ж осыпая, пожитки их стоптал – пока наконец не угодил ему один из камней в самое болезненное место, по рогу. Он от этого голову даже вздел, глаза прикрыв, головою мотнул, и замолк, и пятиться стал, разворачиваясь, торопясь уйти, – пересилили…
И долго, до самого почти возвращения в село, не мог успокоиться Погребошник, матерился, кнутом быку грозил издалека, жахал им, но и только. А под конец притих и что-то заскучал, бормотал: «Беззаконие жизни…» Замолкал и кряхтел, темными толстыми, в заусеницах пальцами под фуражку лез, к затылку: «Беззаконие… Эх, жизня…» Днем им встретился Бурдяй, он овец нынче стерег; встретились в степи, посидели малость, поговорили. Бурдяй, коротконогий и весь какой-то корявый, неухоженный, как корень земляной, был человек суровый: «А ты-то здесь какого? Гришку бы своего пропер сюда… отстерег бы, чай, не переломился. Будет ему лягушек-то по берегам сшибать, с отца, лоб такой, выдул уж, под матку…» – «Да-к не хочет, что ты с ним сделаешь… – растерянно как-то, конфузливо оправдывался дядя Васька. – Уперся, м-мать его! Лучше, грит, дома – картошку лучше оброю… Хрен с ним, мне-то не все ль равно, здесь иль на огороде. Да и куда их, двух парнишек…» – «Парнишек!.. У твоего-то уж усы, у парнишки… он те скоро поднесет к носу кулак-то! Поднесет, добалуешь. Моя б воля…» Гришке и вправду жизнь – умирать не надо, что хочет, то и делает, а управы на него никакой. Ни во что никого не ставит, ни старых ни малых не различает, сестер, дурех, щупает, голодный вечно, злобноватый и вдобавок дурак, каких мало. Его уж и побаиваться стали: мало ль что удумает, что ему в голову взбрести может… Недавно обозлился за что-то на своих, вилы в руки – и на крышу: пораскрою, к такой-то матери, орет, вы у меня помокнете!.. Поковырял, а взять не взял: уже не соломенная – земляная стала крыша, так перегнила вся и слежалась. А утром хвать-похвать – нету вил, единственных вилишек на все их хозяйство, хоть в соседи иди. Спасибо, люди добрые подсказали: что это, мол, у вас второй день вилы в крыше торчат?..
И в школе измучились с Гришкой, уже на два года отстал, в седьмом все сидит. В доме холодина – хоть волков морозь, струпья да вши, по парте бегают вши, а он их спичкой «дрессирует»; а если спросят о чем, то встанет и глядит, как вот Цветок, простые даже слова не сразу понимает – тупой очень. И девки, сестры его: в святой канун двора не подметут, изумлялись бабы, лишний раз не повернутся, полов не моют, вот какие девки! Мать у них только не ночует на базе, опять вон лишнюю группу телят прихватила, желтая вся, сгорбленная, страшная от работы: прибежит с темнотою – а в доме, а на огороде как стояло все, так и стоит, на волосок не сдвинулось, ее дожидается… Поругается без толку – да в работу опять. Да ведь в колхозе там либо на «помочи», дивились, Погребошник хоть куда, самого черта в работе сломит, а вот дома своего как нет у него, все бы ходил руки в брюки, чепуху городил. Хорошо еще – власть сейчас старается, помогает хлебом, а то бы как такие вот жили?
А вот уж забрело скрасневшееся солнце в одну тучку, в другую перекочевало потом, и вот совсем сошло, закатную мглу разогревая. Вечерней полынной пылью запахло, отяжелели тени, и ветер, весь день трепавший ковыли и приречные кусты, унялся, и полого опять вытянулась ископыченная стадами, до шороха высохшая степь – домой пора. Ты уйдешь, где-то ходишь там, а дом ждет. Родные показались крыши, зады соломистые и плетни, огородной укропной прохладой потянуло с долины, под ногами домашняя уже мурава, и отраженным, но все равно призывным светом небесным, меркнущим занялись окна, еще далекие, а под ними, он знает, уже люди сидят, каждый свою корову ждет-дожидается, и ребятишки малые бегают, спешат доиграть, пока светло и стадо не заполонило, не отняло еще у них улицу, пока лето и тепло…
Он рассказал дома, как все с быком вышло, и братик тоже (затесавшись меж колен к нему, пока он по-взрослому устало, неторопливо ужинал, – соскучился братик) слушал, заглядывая преданно в глаза ему, и со всеми вместе счастливо закатывался, даром что ничего не понимал еще, только разговаривать учился. Посмеялись, мать рукой махнула, сказала:
– Да бог с ним… он ить безобидный. Сроду такой.
На что отец только протянул:
– Ну не скажи-и…
Цветок потом, очередные пастухи рассказывали, дня три бунел, беспокойный был, камнями только и спасались, кнута-то он не очень боится. А Погребошник ходил как ни в чем не бывало и всем рассказывал, смеясь и удивленно, малость с нервностью только, подергивая бровями, приглашая послушать и посмеяться:
– Речь ему, што ль, в газете не пришлась… шут его знает! Так и вздел на рога! Ну, думаю, так и не дочитать мне газеты. Всю изодрал, сволочь такой!.. Хотел отнять; да, думаю, хрен с ней, с газетой… пусть побесится, раз так, ей и цена-то две копейки. Не стал отымать. Он ить меня боится, Цветок-то; шут с ней, думаю, с газетой – ишшо принесут…
XVII
Смеялись и над Бурдяем – вот еще человек тоже!.. Уж тащит в дом, тащит, уже и некуда, все хоромы свои великие понабил, добро на добре лежит, добро давит, гноит – а все мало ему. Ведь уж про себя забыл, землею зарос, и все воруют с женой на пару, тащат. Знать все знали, видели, и кто не без греха; а вот чтобы поймать – этого власть не сумела, хитер Бурдяй. Правда, тоска в нем какая-то завелась с недавних пор, попивать начал, да это и понятно: добра всякого, денег много – а кому? Детей-то нету. Не сказать, чтобы сильно пил – нет, такого не было; не пьет, соглашались все, а «потягивает», каждый день, считай, прикладываться стал – и нехорошая эта примета… Он как-то, довольно-таки подпив, и сам со смешком, с ухмылкою понимающей толковал мужикам, куда и хмурость обыденная делась:
– А надысь, друзья-товарищи, впросак я попал. Прямо так попал, что хоть плачь, нечего с базы взять – и все тут!.. К большому коровнику, где ремонтируют, сбегал: думаю, хоть доску какую… нету! Соль комовая, то же самое, заперта… да и на кой она, прости Господи, самому лизать? Так аж беспокойство прямо взяло. Оно ить как: не несешь – живот болит, а тащишь – как будто быть так и надо, и душа в спокое, гляди да оглядывайся только… Ну, подцепил на вилы котях колхозный, на дороге валялся, да пошел домой. И пра-слово, все как-то легчей сделалось: прибыток как-никак, не пустой идешь… Натура!
Это Бурдяй рассказывал у них за столом, сидя с мужиками после разгрузки машин. А сидели по великой радости: строительный лес они с отцом привезли, на новые избы. У того-то, правда, и старый пятистенок – дай бог каждому; а вот они дождались, наконец купили! Устали в саманухе жить, мерзнуть, к подсохе подсоху становить, столько лет деньги собирали, себе во всем отказывали – дождались. Небольшой хоть будет домок, а деревянный, свой. Под окном бревна сложили, и на весну уж твердо решено: либо плотниками нанятыми, либо хоть «помочью», а строиться, хватит, только бы терпения хватило до весны…
А пока латали то, что есть, зима новый дом ждать не будет. С отцом вместе, пока уборка не настала, возились: сначала потолок в кухонном чуланчике подперли как следует, потом пару половиц, насовсем сгнивших, меняли. Отец уже и доверял ему кое-что, поглядывал только, подсмеивался порой:
– Во-во! Фугань, сынок, а я топором подправлять буду!.. – И серчал: – Кто ж так молоток держит?!
– Да я ж хорошо забиваю… ни гвоздя не согнул!
– Согнул, не согнул – а держи правильно, по-людски! Хорошо он забивает… Люди увидят – позору не оберешься.
Тут же и братик терся, путался под ногами. За какой инструмент ни возьмешься, к тому и он, завидуя, тянется: дай вот ему, да и все тут! А не дашь – губы скобкой, и такой обиженной, сиротской, что сам ему отдаешь, уговариваешь: «Ну, держи – на, держи… ты подержишь, а потом я, ладно?» Ладно, кивает и он, в глазах еще слезы по кулачку, а сам уж улыбается, уцепился за несчастный этот молоток и так и сияет сквозь слезы…
Но, бывало, и ревел – и так опять горестно, искренне, что все кругом улыбались: вот у кого горей-то!.. А мать, когда занятая, лишь отмахнется: пусть поревет, ничего с ним не сделается… гром без тучки не бывает, дитя без слез не вырастет. И правда, если не лезть, не мешать ему, братик мигом замолкал, успокаивался; и через минуту, глядишь, уже чем-то занят, возится, сопит, хоть и не высохли еще слезки.
Закончили наконец с половицами; отец стал инструменты собирать, а он за веником побежал, стружки смести. Но нигде веника, как назло, не было – или братец куда затащил? Уж он это любит: возьмет что-нибудь, всякую какую ни есть всячину, что приглянется, и таскает за собой полдня везде. Он и с веником этим таскался, все чему-то радовался.
Выход скоро нашелся: на зады, вон там полыни сколько, стеною стоит. Солнце жаркое нынче, палит – спасу нет; во дворе ошалелая мухота гудит, даже и куры похоронились, рядком в дальнем углу под сараем расселись, а одна забилась под кормушку, к сырой земле поближе, раскрылилась, лапки вытянула, – невмоготу всем. Повис над округою, звенит аж зной, вон листву как поскрутило, скукожило, одной полыни все ничего, в рост вымахала и свежа, как в мае, пыльцою белою пылит, и стоит над нею недвижный, дыхание перехватывающий горький дурман…
Он ее мигом наломал, пахучую, горькую – чем не веник! – и побежал, стараясь коротким тенечком нового их амбара, в саманную прохладу избы, только там и спасение. И уж начал подметать, когда пришла с огуречника мать, неся в переднике огурцы, хвост разросшегося лука, редиску – это для квасной похлебки, окрошки. Вошла и почуяла, моментально увидела:
– Да ты что ж полыну-то полну избу нанес?! А ну-кось, выкинь… выкинь, делать ему нечего тут! Господи, и удумал же, вражонок!.. – и подзатыльник отвесила, нешуточный. – Выкинь, говорю тебе!..
– Я только подмести хотел…
– Выкинь, без тебя замету, доброхота. Это надо ж! Мало я его нанюхалась, да?! Веника нету, что ль?!
– Нету нигде, я искал, – через обиду сказал он.
– Искал он… А и полыном нечего, руками лучше!..
Никак не любила мать «полын», так она его называла, – а он и забыл; и каждое лето приставала к отцу: сбей да сбей, мол, его на задах, уже и проходу от него нет… «Да на кой черт, – вяло отпирался отец, после будыльев этих косу хоть заново отбивай, целая морока. – Он и овцам не по зубам, твой полын…» – «А ни на кой… душу воротит, на задах как в лесу!» И своего добивалась, а то и сама косу в руки брала, воевала. Только вот нынче руки не дошли, и полынь, будто в отместку, все заполонила, на погребку даже забралась, того и гляди стены подвалит… Совсем он забыл, а вот теперь ходи как виноватый. И обидно было: он же работал, помогал. Он подмести хотел, чтобы вошла она, а дома чисто и половицы две новые…
– А ты что есть не идешь… что надулся там, в сенцах? Мигом за стол, некогда мне вас потчевать. А штаны, штаны-то!.. Все как ни есть в смоле – что ты на этих бревнах не видал?! С бревен никак не сгоню, – пожаловалась она отцу, уже хлеб за столом нарезавшему, – все их излазил, пузом вытер. И штаны – их ведь теперь мочи не мочи, не отстираешь. Смола.
– Строитель… – усмехнулся отец. – Вот пусть и ходит в таких.
Пообедали молча, мать по жаркому времени в избе осталась, дел ей хватало везде; братика сморило, спать завалился – еще за столом, на коленях у матери, таращил глазенки слипавшиеся и смешно зевал; а они пошли во двор, под плоскую крышу лапаса[7]7
Лапас – строение, сарай с плоской крышей, на которую складывается на зиму сено.
[Закрыть], как отец сказал: «Перекурить это дело», – имея в виду обед. Сидели, глядели на двор свой, мало-помалу обустроенный в последние времена, с сараем новым и амбаром, загороженный наконец со всех сторон; на небо, серенькое какое-то даже от зноя, глядели, в сухой жар пространств над тусклым кое-где блеском тополей, над огородами привядшими, ожидающими вечера, чтобы хоть какой свежести вдохнуть, отец сказал:
– Что, получил за полын? Вот так-то, брат.
– Я ж только замести хотел…
– Мало ль что хотел. Мы давай вот что… мы чурбаки давай эти распилим. Надоело на них глядеть. Где наша стахановка?
И новой поперечной пилой, купленной в расчете уже на будущую стройку, взялись пилить.
Прошло еще несколько таких же томительных дней, и жара сошла, спала; отмягчело, потянуло с «гнилого угла» юго-западного, подуло потом, заволокло, и всю ночь напролет ломился в ставни закрытые ветер, молнии трепетали испуганно, проникая и сквозь них, и ночной, глухой через необоримый в ненастье сон гром прокатывался, тревожил – но ни землю, измаянную жаждой, ни людей испугать уж, растревожить не мог, так заждалось все его, с такой отрадою слышало сквозь сон, как рушились, омывая все и вся, косые, ветром сносимые пласты ливня, как стегали снаружи по стенам, завалинки размывая и сновидения, размягчая человеческое и земное, утишая… И еще один из дней настал, памятный только тем, что были и такие: сырой, теплый был день, где-то солнце путалось, сквозило порою в облаках – ватно-мягких, расплывшихся, переполненных влагою, и то светлело и ветерок объявлялся, а то опять теплый начинал идти нетягостный дождик, ворошил воздух и траву, в листьях шепелявил, в обрызганных, с каждой тропки посвечивающих кустах, в лугах, где сыро и пахуче, и в парной благодати зелень всякая, где ни листика, ни единой травки лишней нету, и всему бы жить и жить без конца…
Шли по лугам они с матерью, вместе с тропинкою обходя-огибая тяжелой полные росой кусты, росою же ноги окропив, в виду рощиц, до каждой кривулины знакомых и своих, напитанных влагою огородов, плоскогорий за рекою потемневших, омытых, распадков их, затопленных доверху парным воздухом, синеватыми дневными туманами. Шли среди июля, среди трав его, усмиренных сенокосом, созревших дней, среди сбывшегося – а то, что не сбылось, того нет и не было никогда, нигде.
Не было двух рослых, в летах уже, сестер ее, хозяек дома и огорода, поуставших уже матерей детей своих, как у всех беспокойных, а то, может, и внучат бы уже, – не могло быть, потому что день в день умерли в девчонках, не изведав ничего, не отведав жизни-то как следует, вымученные голодом, уже от него не по-детски уставшие, от него и от жизни; старшей тринадцать было и девять средней, уж она и лиц не помнит, да и какие лица – старушками померли бессловесными, морщинистыми, сгасли, маманя и не слышала как. Вот брат – тот был и есть, в фэзэу перед тем забрали, он и выжил, и в войну уцелел; а их не было. Есть вон полын все такой же дремучий на задах и по всяким неудобиям: в него, еще по весне, кинулась она, схоронилась, шестилетняя, когда узрела на проулочной их дороге неестественно высокую, быструю и потому страшную чем-то пыль катящуюся, услышала глухой рокот пополам с дребезжаньем и тут же выскочивший из этой пыли автомобиль впервые увидела, его железки, стыло блещущие, подрагивающие, узко посаженные неживые глаза… И зачастил он в сельцо, и если бы кто сверху глянуть мог, с зоркой высоты, то бы увидел то же, что видели и знали все, о чем быстрее этих воняющих резиной пыльных колес цепенящие расползались, от которых руки опускаются, слухи: где он, механически озабоченный, – там следом и голод… В полын же разросшийся, выстоявшийся к осени, заползла она, грезя уже не о еде, а о чем-то другом, забытом теперь; заползла в обманную горько-прохладную сень его под стеною котуха, в избе запах измучил, оставшийся от сестриц, – а силенок выбраться из него не осталось, и стал душить ее полын. Уж как он мучил ее, ноздри жег, сухой порошащей пылью своей роток забивал, дыханье, губы горечью последней палил, свои видения белые, страшные и зовущие, показывал и звал, навалившись, ее же именем детским маня, зазывая назад, подальше отсюда, – и почти задушил, зазвал и только испугать не мог, нечем было чистую душу пугать. Не боялась, некуда уже было бояться; ручонку подвернув, лежала, сказывают, и глаза уже подкатила. А мать ее, последнюю, искала уже, надоумил Бог: шатаясь, а то на четвереньки становясь, не в силах его сломать, лазала меж полыну, задыхаясь, шарила – сердце говорило, что здесь. А других уж после находили, полыном проводил их, малых, этот мир – кого ночью прохладной звездной, звездочки зазвали, а кто, может, до утра терпел, до свету, кого как, этого теперь никто не скажет.
И уж недавно, лет, может, семь тому, шла с огорода и сынка, кровинку, увидела: сидит в полыну, головка склонена, рубашонка затертая на нем… увидала, и ноги так и отнялись, так и стала. Он, может, играл там… конечно, играл, что ж еще, – а ей самой до себя, чуть не в охапку да быстрей домой его, обеспамятела совсем, дуреха. И то можно сказать, что всё уж быльем поросло и люди другие пошли, время и вовсе… полын-то все тот же! Люди другие, а полын, все кажется, без перемены, все тот же. А кому скажешь, кто поймет?
Лугами шли, торопились, огородами, надо было успеть, иначе разберут в магазине все ботинки, а школа на носу. Поберечь бы денежку – а нельзя, школа. Восьмой класс как-никак, без ботинок нельзя, люди засмеют.
И успели они к ботинкам, купили. И возвращались уже заполдень. Землю, воздух, траву подножную – все подсушило, ветерок разошелся, разговорился в верхушках, задумчивый разнося высокий шум, – о чем шумится им, деревьям неспокойным? Облака растаскивало над головой, перемещало, открывая голубое, чистое; с какою-то неведомой пока, но целью перестраивало их, шла там какая-то работа большая над всем, надмирная, – и вот будто означилось там что-то, возникло, еще образа не имея, смутно лишь беспокоя; и вот, на глазах прямо, открываться стало, расходиться неостановимо, словно какие ворота отворяло перед ними… Встало сбоку, в жемчужной короне вознеслось облако, над ним призрачно-голубым дымным веером вскинулись лучи, полосами высвеченного воздуха ввысь уходя и врозь, и прогал им великий открылся, провал сияющий, зовущий – иди, звал, приди… Будто радость какая лилась оттуда, из глубин вечно светлых, ясность шла сама, приветность – она для кого? Кого зовет так, манит, кому эту радость обещает и свет свой, приветно сияющий, ничем земным не отягощенный – ему, что ли, человеку?
Не верилось, что ему. Да и посильна ли будет ему, им всем, кому нет числа, жизнью навек оскорбленным, неотмщенным, эта радость? Не верилось…
Место потом, у родни на задах, мать показала; сказала: «Не тебе об этом бы знать… ну, и знатье нужно, ладно», – и показала. До камешка известное, везде они тут играли, днями целыми пропадали в лопухах этих, средь полыни, на мураве задворной… прямо здесь? Прямо здесь. И долго потом с оглядкой невольной проходил, вроде свое все кругом, родней родного – а нехорошо, томительно как-то. Жутковато порой, нехорошо. Откуда было ему знать, что самое нехорошее – это когда свое. Некому было подсказать, все молчало кругом либо косноязычило, а то и вовсе о другом говорило, – невнятном, как сама жизнь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































