Текст книги "Новомир"
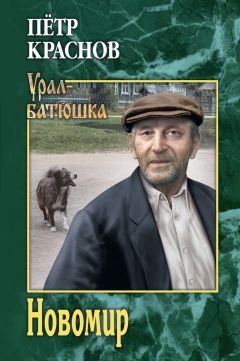
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
Он еще раз проводит ладонью, грубоватой чуть, но о своей мозольной грубости знающей, по ее щеке, отводя волосы назад, за ухо, задерживает на шее; и снимает трубку, ничего не говоря, и начинает набирать, приглядываясь в отсветах фонаря к диску. Но медлит что-то, останавливается наконец и поворачивает к ней смутное в бессонной фонарной ночи, неопределенное, как все в ней самой сейчас, лицо:
– Что ему… сказать?
Она не знает, растеряна, тычется молча в шею его – и снова этот запах, с полынком еле уловимым, ноги заставляющим слабеть, сесть тянет, как в степи на прогретый ковылек… Тычется, виновато почти, и не целует, а прижимается лишь губами в мягкое, может, самое в нем и шершавое от проступившей щетины, под скулой, и потом лбом… И он, кажется, понимает – или нет? Суховато целует в висок, в волосы ее, набирает опять, ждет. Медленные идут гудки, слышит она, неохотные; наконец отвечают, он говорит: «Привет, не поздно я?..» И разговор, в какой она не то что вслушивается, нет, ей не до того сейчас, а просто слышит, низкий его, с усталой хрипотцою, что ли, голос слушает: отсюда, откуда ж?.. Да, знаешь, дело. Ну, не дело, а… Дома как? Нормальная ненормальность – сложновато… не в кон? Да это я так, на всякий случай – случаев знаешь сколь? Знаешь. Он опять гладит, отводит за ухо стрижку ее, прижимает за плечо… не один? Почему ты решил? Да нет… Ну, еду тогда. Ладно. Одна? Есть, не суетись. Есть, говорю. Все, давай. Все.
Трубка повешена, она целует его, и благодарность скрыть, кажется, не удается – да и надо ли? А он горячей, требовательней, в шею, и она даже на цыпочки привстает, обнимая под курткой и чувствуя, как перекатываются под рубашкой плотные, с тонкою, наверное, кожей мышцы, всего чувствуя… слишком всего, и с тихим, с прерывистым смехом отстраняется бедрами, отталкивается и плечами вывертывается из рук его, все-таки и смущенная его желанием. Но кабинка тесна, руки сильные и не чужие, свои почти, она уже их знает немного и дает забрать всю себя, все, и казаться начинает, что падают они куда-то, обнявшись, или плывут с кабинкой этой вместе – мочой же пропахшей, лишь сейчас почему-то замечает она… Ее передергивает всю, возвращает; она усилие над собой делает – и над ним, отрывается, спиною выбирается на воздух, выводит его, не выпуская руки, и еще раз тянется губами к нему, к подбородку, уже колючему, в уголок губ, второй раз сама.
Он помнит, конечно же, что – пора, хватит; но ведь и в самом деле ему пора, ночь давно, перебрех собак в частном секторе умолк уже и всякие теперь скоты ходят на свободе, не то что фонарей – света дневного не боясь, а у него дело, какое оно ни есть. Она разглаживает кармашек на его груди, на куртке, взглядывает – нет, он все понимает, у него добрые совсем глаза, без прищура всякого сейчас, и она кивает ему: ага? Ага. А где он живет, этот… ну, Иван? Да? Так это ж по линии по одной – далеко, но все ж…
– Нехорошо у него там, неладно… – говорит он. И поясняет: – В семье. Да нет, ничего… я там вроде парламентера. Дурит она – а чего б еще надо ей? Посидим с Иваном, ночку отдай… Нет, я провожу.
Он смотрит, меряет глазами малосемейку; они поднимаются к ее двери, и слово, всего одно – «кофе?» – с совершенно непонятной себе самой интонацией произносится ею, голосом таким непослушным, что высечь бы его, голос… В ответ он опять тянет ее на себя за мягкие, она сама это чувствует, в его руках безвольные плечи, тискает ласково их как-то, говорит: «Нет, пойду…» – целует еще, бодает скулой и уходит – в самом деле уходит, оглянувшись на повороте из коридора и кивнув ей: жди…
Она отпирает дверь, входит – и посреди комнаты останавливается, не в силах что-либо думать, делать ли, оглядывается; и спешит к окну, к незашторенной его, в слепых отсветах темноте, зная сама, что ничего-то она там, на другой стороне, не увидит, кроме одинокого средь листвы фонаря в улочке и недвижно-бессонного, настороженного зарева над скопищем ближних и дальних мертвых огней города. Немного погодя с воем прокатил за углом неизвестно в какую сторону поздний троллейбус – успел? Должен успеть, остановка недалеко. Напряженно вслушивается, пытаясь определить, где остановился троллейбус; но тут, как назло, этажом или другим выше, в одной из дыр оконных пролетарского этого ковчега врубают на полную мощность магнитофон, и начинает хрипеть, глухо выть не забытый здесь еще Высоцкий.
Потерялась совсем девочка. Затерялась где-то между тоской ноябрьских выстуженных огородов с нетающим в бороздах снежком, слякотью небесной, в вечер переходящей, в вечность, гремящих пустых и плескающих коровьим пойлом тяжелых ведер, вечно сырых галош на грязном приступке заднего, во двор, крыльца – и оскорбительным равнодушием этих пустых огней, для чего-то другого засвеченных, не человеку, но чему-то преступившему уже все законы, нелюдскому кадящих синюшным своим призрачным светом, назначенным не осветить, но скрыть, растворить в призраках своих все, самого человека тоже – оставив от него лишь косую тень… И что так надрывается этот, над чем, волчьему подвывая в себе, в нас, в мертвенном этом недвижном зареве ночи?
Заело штору, приходится на стул вставать, на подоконник – и вся как нагая она под волчьи немигающим взглядом города, лишенного небес; вместо него, неба, муть какая-то, сизая от дневного смога взвесь, немота и хриплый этот, осатанелый, в ней полузадохнувшийся уже голос.
5
Она не знает, от чего проснулась – не от радости ли? Уже налиты тяжелым багряным жаром шторы, брызжет в их расходящуюся от сквозняка щель солнцем; и она на груди переворачивается – потяжелевшие, ей кажется, груди – и все теперь помнит, все… Даже то, что вчера как-то ускользнуло от ее внимания, запало в промежутки головокруженья того, странного же, сладкого, забытого почти… как за диван бигудишка какая-нибудь западает или заколка, потом только и найдешь.
Помнила, как в какой-то момент за шею обняла, повисла почти; как лицо его потом в ладони взяла, когда в плечо он целовал, – и как оно сильно, неукротимо двигалось в них, лицо, порывалось все ниже куда-то, все глубже в нее, вздрагивать и ежиться заставляя… Какое на ощупь плотное и сильное тело все у него, такая приятная под рукою плотность у благородного, тяжелого дерева бывает – у статуэтки африканской такая, Слава же и давал как-то подержать, готовиться мальчику… И руки его, когда владели всею, – мог же, но не позволил… совсем мало, вернее, но не в этом же дело, а в том – как. И телом всем вытягиваясь, руки под подушку запрятав, в прохладное, вспомнила, как отстраняться пришлось, и смешок вслух упустила – замираньем каким-то отозвавшийся в ней; и вдруг поняла, что не в комнате одной это сквознячок гуляет, жар ее сна наяву разгоняя, радость отвеивая и усмиряя, а в ней самой, что – боится…
Прибралась и, на миг какой-то поколебавшись, подняла спинку дивана, хотя этого-то обычно не делала. Коньяка оставалось больше полбутылки, она еще вчера мимолетно тому порадоваться успела, по-бабьи, не увлекается, вина и вовсе. И розы на столике, она уже присаживалась к ним, на минутку: отборные самые, свежие нашел…
Надо было в магазин, хлеба свежего ему, всего, что попадется подходящего и по карману, да еще и приготовить успеть, котлеты, может, фарш у нее есть, а уж десятый час. И на лестнице вспомнила: Слава… Вполне ведь может прийти, не в первый же раз, как она не подумала сразу, – позвонить, упредить.
В телефонную кабинку заскочив, огляделась: неужто здесь, Господи?! Ничего-то мы себе не выбираем, никого, все кто-то за нас. Нет, она и выбрала вроде – но кто и что может сказать ей наперед? «Кто может молвить „до свиданья“ чрез бездну двух или трех дней?..» – из книжечки маленькой у нее… из Тютчева? Лето, давно ничего не читала, а надо бы.
Никто там не отвечал, и было это странно даже, в такую-то для горожан субботнюю рань – собачку выгуливают, что ли? Собака считается Славиной, сказали – чистокровный французский бульдог, а выраженьем морды, прости Господи, скорее на маму чем-то смахивает; и она никогда ни за что не поймет, как можно не то что любить – а там любили ласки, сюсюкали, склоняясь, – но просто жить в одном помещении с этим омерзительным существом, кривоногим, злобноватым вдобавок… Опоздала; ну, еще раз попробует, от магазина, там автомат в тамбуре, не успели еще раскурочить.
Возвращаясь, увидела его, Славу, у подъезда – видно, поднимался уже к ней и теперь, на бетонный блок присев, служивший тут чем-то вроде скамейки, поглядывал вокруг в раздумье… накаркала, надо же! Он что, в самом деле слов ее всерьез не принимает?! Разозлилась даже, шаг сбавила – может, свернуть куда, прогуляться? Нет, нехорошо, низко. И он заметил ее, издалека было видно – обрадовался, встретились на самом солнцепеке.
– Я ж просила, кажется…
Больше было нечего сказать ему – больше раздраженья этого, непреодолимого.
– Ну а если рядом оказался… по пути! – улыбался он нисколько не виновато. – Шеф просил тут к клиенту зайти, бестелефонному – вон в тех домах… О, какая сегодня ты! По какому случаю?
И за руку хотел взять, но она отшагнула, плечами пожала:
– Выходной… – Не нашла чего другого, солгала: – К родне надо, к тетушке. Пошли сядем.
– Уж и кофейку страждущему…
– Нет, Слава, нет… Сядем, – и пошла, он за ней, с деланой уже веселостью недоумевающий, к скамейке старушечьей у частного дома напротив, там они, бывало, сидели. С нее, кстати, и подъезд был виден.
– Мы ж договорились…
– Да что ты озабочена так этим? – Она уже села, а он стоял перед нею, высокий, от природы стройный, черными живыми глазами ласково глядел – куда эффектней, конечно, Алексея, это она вынуждена была признать сейчас, девы лабораторные не зря считали его красавчиком… Если б не квартирная белотелость, не мягкость рук его, эта не то что безвольность, нет, но уклончивость от всего… от мамы привык уклоняться. – Пришел – и ушел… Ну, люблю. И не скрываю.
Она молчала, всегда он обезоруживал ее этими откровенными слишком, непривычными и, как казалось иногда, неприличными даже в чем-то словами, каких не любила и побаивалась, лучше молчать уж, чем так, впрямую; но и оспорить не могла, обижать не хотелось… Что вот на них отвечать? Сидишь как дура – словами этими, глазами, всегда такими предупредительными к ней, незаслуженно ласкаемая, авансом будто, оглаживаемая… кошку так гладят. Или эту псину свою. Опутают словами, огородят – не рыпнешься, это в семье у них манера, что ли, такая… И движение сделала, как бы освобождая место ему рядом на скамейке, без того достаточное, и он подсел:
– Скрывать это вообще опасно. Как сигарету в карман от учителя – прикуренную… – Он руку ей на плечо положил, качнул шутливо: – Ну, пришел, увидел – и ушел, пять минут не деньги… У тебя что-то?
– Не знаю… устала.
– Скрывать ты устала, – сказал он все в том же шутливом тоне, каким, кажется, привык уже с нею разговаривать, и она подумала: верно. Он вообще чувствительным был и, в конце концов признала она, умным человеком, и мягким… чего б еще надо? Так Алексей вчера сказал, Леша, о той, жене Ивановой: чего еще ей надо?.. Она не знает, как той, а вот ей самой – надо. Не скажет, может, в точности – чего, но надо. Не чужого, своего, и чтоб он шел, вел, но так предупредительно не оглядывался, незачем, если веришь. Чтоб понимал, но не так вот, с заглядыванием в глазки. Сказал чтоб – и охота пропадала спорить, как у нее и матери после иного слова отца. И много чего еще надо, о чем она сама имела пока смутные, в слова пониманья не переведенные пока представления, да в том и не имелось нужды, оно так сохраннее было, чем в словах… Да, это все тоже надо было скрывать, и она устала.
– Что, угадал?
Угадал; как будто то, о чем она думала сейчас, она ему вслух сказала… бывает же чувство такое. И ответить нечем, не сумеет она ответить.
– О чем ты? Что именно – скрывать?
– Ладно… По крайней мере, хоть я этого не делаю. И, значит, скрытности в два – да, ровным счетом в два раза меньше между нами. А в два раза – это много. Это целая куча откровенности… Монблан, мама миа! Это между нами можно счесть даже за нормальное.
– Мама… – Раздражение опять накатило на нее. – Не скрываешь? Даже мою… – Она подыскивала слово, не глядя на него. – Вариантность мою?
– Как-как?
– Ну, что я – вариант… я не знаю… кандидатка, в общем, не очень надежная. Подходящая, может, но…
– Конечно подходящая! И единственная. И вообще, все мы кандидаты – куда-нибудь, во что-нибудь! В жизнь!.. – Он не зря юридический окончил, Слава, в конторе адвокатской какой-то работал теперь, набирал разгон. – Любого из влюбленных спроси… да, подходящую ищут, подходящего. Чем я-то в конце концов не вариант?!
Он встал, выпятил грудь и отставил ногу, смеющимися глазами глядя сверху, даже подмигнул.
– Я не о том – о другом совсем… Что на привязи у вас, как овечка. Как не очень надежный вариант. Привязанность, нечего сказать…
– У нас?! Ну что ты городишь, Любава!
Что-то от нее в свой лексикон уже он успел взять, шутил иногда, поддразнивал. Но она лишь мельком взглянула, нашлась:
– Из вашего материала горожу. Подкинули, я и горожу. Да из этого, хотя бы… Чудо-юдо рыба ерш – временный ордер! В ЖЭКе сбежались все посмотреть – ни разу такого не видели. Вас особо, говорят, почтили, как никого. Теперь я у них на особом… особое почтение мне. В случае чего и выставят в два счета. – Она не давала ему сказать, торопилась, обида лезла – да он и возразить не пытался, кажется, удивленный. – Ваш знакомый, этот… ну, Виталий Моисеевич, – ну просто маг! Начальница ЖЭКа говорит: легче постоянный было выдать, раз уж все документы от вас приняли, чем этот… Временная, на крючке… Рыболов-спортсмен. А дорогой кузине твоей поручено меня известить. Передай, что порученье она выполнила – блестяще, нет слов!
– Позволь… порученье? Какое?
– Что постоянный ордер – заметь, постоянный, законный! – я получу только на этой… за этим, за свадебным столом. А не будет… Стола если не будет – не получу, это уж само собой. Видишь, нагородила сколько. – И вспомнила, не удержалась: – Монблана теперь целых два, мама миа! Если сложить, эта самая получится… с любовь высотой. Гора эта…
Она забыла названье горы, да и зло свое тоже, потому что он так растерялся, что даже смотреть неудобно было, нехорошо. Встала, не зная, что дальше делать, сумку перед собой из руки в руку перехватила – и вышло по-дурацки деловито, дальше некуда, прямо приговор подписала… И поняла, что лучше всего сейчас было б уйти. Или ему, или ей.
– Подожди… – сказал он другим, какого она еще не слышала, голосом, невнятным.
Она покорно приостановилась, ничего не ожидая, глядя, как у ворот соседнего дома какой-то тип с согласия хозяина пугает и дразнит молодого кобелька, и тот не лает уже, а сипит, задыхаясь, на врага – какой тоже чуть не на четвереньки встал, хотя не пьян вроде… как грубо все, гнусно тут, не по-людски. Зоопарк какой-то – без решеток. Он тоже не смотрел на нее – а где-то перед собой, ближе, чем стояла она, остановил взгляд, где происходило что-то для него непонятное или нелепое.
– Погоди, – сказал он еще раз, морща лоб и все так же не глядя. – Ты зря… Я спрошу… может, ты зря. Разберусь. Я позвоню…
Он повернулся и пошел. Потом заметил, наверное, что идет слишком медленно, и пошел быстро.
Народу на большой улице, куда выходила торцом малосемейка, было по-прежнему мало еще, все никак не наспятся, не наваляются, разве что кудлатка похмельная какая за водкой-пивом выскочит, за буханкой, да шли из недалекой отсюда, недавно открытой церкви с ранней обедни старухи в неярком, а то темном, все как одна в платочках – и не сразу его белая тенниска затерялась средь них, среди чахлых околотротуарных липок, которые сажай здесь, не сажай – все равно сломают, какая-то темная страсть к разрушенью полезла из многих, слишком из многих… Помолиться бы. Но что отмолить можно в бесстыжести и нелепости жизни этой, как умолить ее, Господи?!
И села опять, почти обескураженная: неужели все?.. Как это скоро все получилось, получается – и с ним, и с нею самой… в самом, что ли, деле судьба? Она грубо так не хотела бы вроде, так скоро… Не ври, сделала – значит, хотела. С вариантами этими дурацкими прицепилась к человеку, навязалось на язык, – а у самой что, не варианты?.. Ну нет, она же не знала, она уж разуверилась, что может быть такое: автобус, «вечерняя лошадь» их обшарпанная, спина его в проходе – и гулкий этот, как предупреждающий, удар и следом другой в дверь ее, все не забывается это никак…
И Слава – он же тоже не знал, это видно же. Мама с папой всем там крутят, с хитромудрым знакомым своим, вот у кого вариантов… Но и это неправда тоже, что ни о чем не ведал, так не бывает. Хоть что-то, но знал. И ждал. Глаза только не знал куда девать, сейчас вот…
Все равно жалко. Хорошего жалко, было ж. Нескучный, шутить, рассказывать умеет, она немало всякого узнала от него. И ласковый, искренний же: «Яркие карие глаза у тебя какие, теплые! Даже сердишься когда… нет, уволь, не могу твою сердитость всерьез принимать!» – и она тогда насторожилась, выговорила ему: как это – не всерьез?! И когда предложение делал – как волновался, как словам ее («да, Слав, но чуть подождать…») обрадовался, не спрашивая даже, зачем ждать и чего, да она и ответить бы не смогла, сама не знала… Как от мамы даже пытался защищать – и заслонял иногда, когда слишком уж наседала, словами опутывала. Всегда наготове, придешь – уже готов у нее силок очередной, заводит уже в него, заманивает… откуда она силу эту слов знает? Цепкие какие-то у нее слова, как гардинные «крокодильчики», не успеешь оглянуться – вся в них обвешанная, в обязанностях по отношению к ней, обещаниях, из тебя, оказывается, уже вытянутых: вы ведь так и сделаете, не правда ли?.. Ведь вы не забудете?.. Уж вы Славу, пожалуйста, заставляйте, он рассеян бывает, разбросан – слишком, знаете, круг интересов широк, я на вас надеюсь, вы, я знаю, не подведете…
Нет, еще не кончено ничего – во всем, что навалилось вдруг и почти врасплох захватило ее. И решать все это, похоже, не ей, не Славику и уж тем более не маме – какой придется все-таки со скрипом оставить свои такие обширные замыслы. Решать ему. Ты и сама не заметила, когда и как передала это право, да нет – обязанность тяжелую эту ему, и назад уже не возьмешь, не захочешь взять. Разве что сам он бросит…
Бросит?!
Это так ново было, неожиданно – так подумать, – что она в первый момент себе не поверила: он бросит? Из-за чего, как? Даже улыбнулась, все еще со скамейки этой старушечьей глядя, как копошатся под стеной общаги с выводком подвальных котят первые с утра детишки, такая ж безотцовщина тоже, – но уже не чувствуя улыбку, усмешку свою уверенной. Как бросают… Сама как бросала, ни с того ни с сего порой, надоедал очередной – и отваживала, не слишком-то задумывалась. Сама-то «брошкой» не была еще, ни разу.
Она встала, пошла к подъезду: чушь какая, думать об этом – это сейчас-то… Растерялась, вот что, потому и лезет в голову всякое. Главное, ведь ни поводов к этому, ничего нет; да она и не даст их, поводы, она просто не может дать их сейчас, не сумеет даже… Господи, вот дура-то! Взбегая по лестнице, на часики глянула: десять уже, о котлетах лучше думай. О гарнире – гречку отварить, может? Или рис? Рису маловато осталось, нет бы вспомнить, купить, мимо же витрины прошла, глянула же… Вот дуреха-то.
6
Еще она думала, представить пыталась, как он поведет себя в первую не минуту даже – миг этот, почему-то очень важным это казалось, и как ей себя с ним держать, слишком уж скорым все между ними было и вместе с тем расплывчатым, неустановившимся – при дневном-то свете… Непозволительно скорым, если с кем другим, она так не хочет и не умеет, хоть как-то привыкнуть должна.
Но для него, на полчаса припоздавшего с лишним, никаким вопросом это, похоже, не было, не выказал того ничем. Сумку, в целлофановом пакете цветы – пионы?! – все в сторону, потом; стояли в прихожке крохотной ее, в проходе, верней, и ей-богу же соскучился он, в чем другом, но в этом-то не могла она ошибиться. Не обманывалась же, волосы гладя мягко-русые, лицо подставляя губам его, бережным, – после того, первого мгновения, продлившегося, когда заглянул в глаза своими, будто от блеска собственного сощуренными, и губ долго не отнимал от ее виска, вдыхая, просто обнял и стоял так. И сказал то, о чем она только что подумала, но чего еще никак не ждала от него – недоуменное чуть, шепотом:
– Ей-богу, заскучал…
От него пахло малость водкой, и он знал о том, помнил; цветы подавая, еще раз в глаза глянул, а усмехнулся не ей, себе:
– За амбре извини, чуть не ночь просидели, считай… ну, повелось у нас так, не часто видимся. Не сказать чтобы часто. Разговору набралось.
– Вы хоть завтракали там, орелики?
– Да покормила… – И засмеялся, вернее, сказал, посмеиваясь: – Да уж, орлы, далеко залетали!.. Ну а ты-то как тут?
И, не дожидаясь ответа, в волосы ее сунулся лицом, отыскивая все, что находил вчера, к шее.
Открыли створку окна, шторы задвинули и обедали в прохладе, в гуляющем по комнате сквозняке. Иван работал, оказывается, в старой областной газете, бывшей партийной, и фамилию его – Базанов – она слышала уже не раз, что-то даже читала. Карьеру некоторым попортил он тут… неужто тот самый? Самый тот. Учились вместе, в общаге четыре года голова к голове спали, на койках соседних. Жалеет уже, что агрономию кинул, – так ему и надо, не лезь в эту грязь… журналистскую, какую еще! О семейных его делах Алексей не стал говорить, не хотел: ну что скажешь… ну, плохо. По-доброму, к ним бы в гости. Но это до лучших, даст бог, времен; а может, на реку – а, Люб? На дальний пляж, там хоть бережки посвежей, не так накопычено…
Предложенье неожиданным было и чем-то ее смутило, заколебалась про себя – вот так, вдвоем? И ответила не сразу, подумала опять: как-то скоро все у них, будто даже поспешно – и не от нее ль это, не она ли торопится? Опасно скоро, да, и она не привыкла так… и что хорошего, если бы и привыкла, как лабораторные девки ее? Но и ничего особенного в том не было тоже, чтобы на пляж, сама сто лет не купалась – целых сто, с весны если считать, да и в городе сейчас некуда податься, не в киношную же духоту; а дома оставаться…
Она с сомнением, с неготовностью пожала плечами… ну, можно. Ей не хотелось отказывать ему сейчас в этом еще и потому, что, может быть, придется отказать позже – если бы он захотел остаться. Вот чего она боялась и боится, с самого утра. Ведь и понимала вроде эту свою опаску, а как-то не то чтоб забыла… Нельзя оставлять, ни за что, иначе что сам-то он о тебе подумает? Нельзя, пожалуйста, попросила она себя. Все будет, если тому быть, но не теперь, не сразу.
Да и что, в самом деле, смутило ее в этом – на реку сходить всего-то, искупаться? Или уж старой девы комплексы проклюнулись уже? Ну, есть в ней, она и сама знает, это не то что старомодное, а… Есть, и кто догадывается из подруг – усмехаются, а то попрекают, и пусть, мало ли дур, всем не угодишь; но ведь не до ханжества, нет же. И ей это его предложенье кажется уже нормальным вполне, хотя, будь вечер, лучше бы в театр сходить или на ту же Баянову – но нет-нет, не надо на вечер…
А на реке она была весною, со Славой, вернее – целой компанией, больше пили, дурачились, чем купались, вода еще обжигала ледяной свежестью своей, будто снеговой еще. Не для нее и тем более не для Славы была вода, так что загорать ей пришлось в родительском огуречнике, за прополкой да поливкой… и ничего, успела, она и всегда-то любила загорелой быть.
Но ощущенье неловкости, да и, может, ненужности всего, что произошло между ними какой-то час-полтора назад, вернулось к ней, заставило потупиться уже перед другим, перед Алексеем, будто он мог что-то об этом знать или догадываться. Что-то не то, не так она сделала… и не от ее ли боязни этой перед выбором, перед жизнью досталось мальчику? Она подумала об этом впрямую – да, вопросом, ответ на который и без того был ясен. Мальчик и виноват-то, может, меньше всех. Он по-своему, но любит. А это другое, она не знает, как это можно выразить, но совсем другое дело, это другие совсем права у человека и на человека, она же ведь помнит себя в первой, горькой от избытка сладости, несмышленой еще влюбленности – он где теперь, юный тогда еще их учитель географии, Андрей Сергеевич? И готова почти признать, что любящий – не виноват, хотя бы уж потому, что как бы не по своей воле любит, а по вышней, и за себя не всегда может отвечать, не в силах той воле перечить – да, именно так, и Славик бедный мог и не на такое пойти, лучше всех зная эту зыбкость отношений меж ними, чтоб удержать…
– Эй, на том берегу… вы где?
Он, оказывается, смотрел на нее – не то что настороженно, но как-то внимательно… неужто почувствовал что? А ты еще не убедилась разве? Какие они… Почти торопливо встала, к нему, коленями в колени, за руку взяла: около тебя. С тобой. Так на реку? Ты так хочешь?
– Спрашиваешь!.. Нажарился я на этих посевных-сенокосных… вяленый уже. Балык.
Даже в низкой зеленой пойме под крутоярами коренного берега не ощущалось почти реки. Зной, пылью висевший над городом, разве что чище здесь был, но плотнее, безветрием отяжеленный, без всякой тени; и лишь на самом подходе сильней потянуло наконец травой с сыроватых ложбин, лозняком, открытой водой. Такая жара, а река в мелких бегучих бликах серая на вид, колючая и неприветливая, это от поблекшего, высоту потерявшего неба. Но вода-то теплая – она, босоножками в руке болтая, забрела в ее отрадную ласкающую плоть, песок отмытый продавливался меж пальцев, игрушечный галечный перекатик шептал рядом, в ступню глубиной, и обморочно кликала над ними чайка.
Подбережье пологое, какое дальним пляжем называли, было пустынным. Вдалеке, на пляже городском, что-то разноцветное лениво роилось, еле пересиливая полуденное оцепененье, а здесь лишь спекшийся иловатый песок, полянки зелени кое-где, пойменный на той стороне реки лес; и за дальним лозняком компания какая-то сидела, отсюда неразличимая, и женщина стояла там, расставив ноги и к солнцу лицо подняв, прикрытое панамой. Им не пришлось долго искать, сразу выбрали место, просто выбрели на него – под тальничком тоже, на травяном его подножье.
Она, может, слишком долго расстилала старенькое тканевое одеяльце, пристраивала сумку в жидкой тени… она, странное дело, раздеваться перед ним стеснялась, хотя в компаниях-то делала это едва ли не с охотой, чувствуя на себе собачьи глаза парней, что-то в них собачье сразу появлялось, и неудовольствие подруг; то же и с Мельниченко когда-то, чуть не додразнилась… Ждала, и оглянулась лишь тогда, когда шлепанье ног услышала по воде: прямой, узкобедрый, в синих то ли плавках, то ли трусах трикотажных, он шел без остановки туда, где угадывалась глубина, и резко выделялся загар шеи и рук его… рабочий загар, на песочке валяться некогда, на людях не растелешишься даже и в поле, хотя спина уж прихвачена тоже солнцем… И тесемка тоненькая на шее – крестик?
И быстренько стянула через голову платье, на тальник накинула и пошла, но не за ним, а вбок куда-то, выше по реке… Господи, да что с нею? Засиделась, старая, думать стала много, вот что. Уже он плыл, от течения косо отмахиваясь, с головою и раз, и другой, с наслажденьем негромко отфыркиваясь; и ее приняла вода, чуть не холодной показалась в первые ознобные мгновенья, – охватила и понесла к нему. Она поплыла, огребаясь лишь и стараясь в лицо не плеснуть себе, и прямо на него вынесло, стоявшего по грудь, ждавшего уже.
Он поймал ее, в воде скользко-холодную, такою ощущала она себя, тяжелую, и теченьем ей ноги на него занесло, так что пришлось обхватить ими его, под напором шатнувшегося; но устоял, прижал к себе крепче, бережней и заглянул в лицо, прямо в глаза своими смеющимися, в дрожи брызг на ресницах, и стесненье, и боязнь эта дурацкая оставили ее. Обняла, всего его, как ни отвлекала вода, чувствуя – он, вот весь он, его напряженное, мышцами в сопротивлении потоку подрагивающее тело, оскальзываются друг по другу они, как большие холодные рыбы, качает их, то прижимая ее к нему, то вздымая плавно и разводя; и еле удержаться могла, дождаться, когда он первым коснется близкими губами, скользящими по мокрой щеке, к губам ее, шее…
Они так и вышли, обнявшись, и легли, лицом друг к другу. Она стирала ладошкой со скул его оставшиеся капли, отводя мокрые потемневшие русые прядки со лба, с висков; и он тоже провел осторожными пальцами в одном уголке ее глаза, в другом, вытирая.
– Что?
– Краска, – сказал он. И усмехнулся, добавил: – Грим ваш…
Она быстро встала, побежала к воде и, зачерпывая полные пригоршни ее, теплой и пресноватой на губах, умылась и крепко вытерла лицо и подглазья ладонями. И, возвращаясь, увидела, как он смотрит на нее… с удивлением ли, мальчишеской растерянностью? Невозможно было понять – как, да она понимать и не хотела, главное – он ждал ее, дернувшись навстречу было, приподнявшись на локте и почти недоверчиво глядя или с жадностью, пойми их… Нет, она-то знала, волей ли, неволей, а отметила, что это ведь в первый раз со стороны ее он увидел без платья, увидел почти всю; и уж не стесненье никакое в ней, нет – радость за него и за себя, девчоночья, за них, и если было б что на ней прозрачное, вроде газа, то прихватила бы пальцами прозрачное это и крутнулась перед ним, язык показала…
И упала рядом с ним, на него почти, и лицо к нему повернула, прикрыв глаза, подставила:
– Вот!..
И только она знает, как легки и неуследимы губы его, прикасающиеся к ее лицу то тут, то там… целуют ли, капельки собирают ли оставшиеся, и усы не жесткие, нет, щекочущие чуть, а руки… Ох, руки, она в них вся, они вездесущи и все в ней знают, почти все, и она вздрагивает от них и прижимается, бежит от них к нему же, бояться опять начинает их. Она зарывается от них в него, прячет даже лицо, губами в ямку его у шеи вжимается вся, – но так беззащитна, оголена спина ее, ноги, и каждое этих рук то касанье, то крепкое, дыханье перехватывающее объятье так пронизывают невыносимо, как дрожью тока, что уж только на спину – перекатиться бы, прикрыть ее, спину, его не отпуская… нельзя, что ты, нельзя! И напряглась, стона не сдержав, оторвалась, руки перехватывая эти, и губы его чуть не вслепую нашла, впилась…
В тот же миг чайка панически закричала над ними. Она вспомнила, что – берег, опомнилась вконец, приподнялась и, глазами блуждая, обернулась туда, к лозняку; но нет, слава богу, женщины той уже не было там, не видно никого. Он лежал навзничь, с закрытыми глазами, синий эмалевый крестик на плече, и что-то вроде улыбки бродило по его лицу. Она взяла в обе ладони его руку, безвольно тяжелую теперь, тряхнула ее сердито, как щенка нашкодившего, – и не удержалась, прижала к своей пылающей щеке.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































