Текст книги "Новомир"
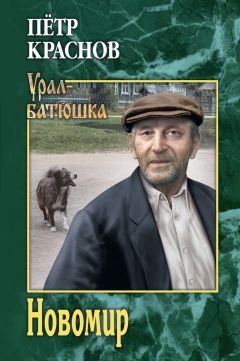
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 24 (всего у книги 28 страниц)
XVIII
Они лежали с Саньком на теплом сорном зерне, держась за глубоко воткнутые в него черенками лопаты, а машина, мягко и сильно заваливаясь то на один борт, то на другой, неслась по ровно накатанному за лето проселку, напряженно подрагивая, рвалась, все позади оставляя, и обтягивал лицо, слезу выгонял и кепку, назад козырьком надетую, стаскивал тугой упорный ветер движения, дурной средь покоя окрестного скорости… Солнце только что село за окоем – огромный, пыльный, кольцом необозримым охватывающий все без разбора, всю так и не остывшую пока еще от дневной жары и горячки степь; понизу все тени слились наконец в одну большую, распростертую, а небо вверху еще по-дневному голубело, не хотело меркнуть, и так же неохотно, хотя устало уже, сдавал и закат, мутнел, растворяя в себе, гася прощальные огни, сухою дымкой застилался и все больше западал, расплываясь, за туманно-дальний край земли.
Так выходило, что все на свете подчинено было ожиданию и держалось на нем, весь интерес жизни; всегда надо было жить и ждать, а так как ожидать все-таки было чего, то уже в этом одном являлся какой-то смысл – пусть временный, а все-таки смысл. Живешь себе как живется, а между тем то, чего ты ждешь, где-то уже началось, движется своим чередом, мало кому приметным, идет и неминуемо будет скоро здесь, умей вовремя и как надо его встретить.
Но это твое, чаще малое; а бывало такое, чего ожидали все, всем селом, а то, может, и народом – и не праздника какого-нибудь, праздник сам, налегке и между делом придет, о нем заботиться и думать не приходилось особо.
Ждали работы большой, дела, и не столько временем ждали, сколько приготовлением.
Мало-помалу предвестья его первые, накапливаясь, напоминая о себе уже и в мелочах, превращались в явную весть, всем уже от старого до малого известную; весть прояснялась, обрастала житейским, в дома входила, счет с недель переходил на дни – чтобы в один из обыкновенных вечеров становилось всем ясно: завтра с утра надо за это дело приниматься.
А ждали уборку. Лето вызревало быстро, на глазах: совсем вроде недавно сажали картошку, возились как жуки навозные с кизяком, отсенокосили и вовсе на днях – а июлю конец. Месяц август из всех такой хитрый, неожиданный, за летними днями и заботами его не вот увидишь. Вдруг замечаешь, что зелень, которая так дружно, наперегонки лезла было у каждого плетня, давно приостановилась и порядком-таки поогрубела, пожухла кое-где; и сама земля, что на поле взять, что в огороде, комоватее стала и жестче, будто устала малость все растить и пестать, примолкла, нигде уж ее зова не слышно, усердия не видно… День за днем стоят жары, душнее, беззвездней стали ночи, самой тощей росы не даст, разве когда непогода. Небо потускнело, в его мареве, в знойной пелене белесой облака еле различимы, высоки над миром. Где-то далеко в лугу скошенном, высохшем храпит, будто сморенный полуднем усталый человек, какая-то птица, так и не довелось ему узнать – какая, тянет в сон; молчит улица, наглухо закрывшись ставнями, бессильные обвисли сады, только пылью иногда повеет по дороге. Все кажется, что будто самый дух работы отлетел вдруг, покинул на время село, переместился в другие какие-то места, где нужнее он, и там теперь обретается, а если и навещает улицу, то лишь по вечерам, когда пригоняют скотину и возвращаются с полей усталые до молчаливости люди – туда ушла работа… Это надо проулком выбраться за огороды, перейти низкий земляной, с проглянувшими бревешками мосток, где всегда перехватывают Черноречку на кизяки; а там подняться на ковыльный, выбитый скотом взлобок и, обжигаясь босыми ногами, шагать столбом-дорогою средь заметно выжелтевших, уже шуршащих по-осеннему хлебов и полуобморочных посвистов суслиных, все что-то безысходно вопрошающих. Идти далеко, к горизонту, куда сваливаются редкие об эту пору дожди и где всю ночь потом полыхают сухие сумеречные зарницы.
Что он хорошо помнил, так это необыкновенное в то лето множество смирных божьих коровок. Словно какой знак свыше – к урожаю тому, что ли? – были везде они, всюду: в хлебах дозревающих и созревших уже, смертных, восково-прозрачных, ожидающих молчаливо, на огородах и улицах, в придорожных, махрами пыли отяжеленных бурьянах, везде им было место, дело и доброе к ним всегда удивление людей, перед ними и этой прорвавшейся откуда-то несчетной силой тоже. Но сколько их собиралось в обмолоте – этому дивился даже равнодушный ко всему такому Лексеич, шофер, с каким вот уж вторую теперь уборку отгружали они от комбайнов зерно, изо всей лихости гнавший сейчас на ток свой потрепанный «газон»: хотел поспеть, свалив зерно, еще раз на стан полевой, к ужину, заодно и лишний рейс сделать… Несметно гибло их, должно быть, в барабанах комбайнов, как на войне, а еще больше выживало; и вот вся пшеница потихоньку шевелилась от них и еще от плоских вонючих, серовато-зеленых цветом клопов-черепашек, тех тоже хватало. Шевелились, выпрастывали горбатенькие, красные с черным спинки и усердно потом куда-то ползли, долго и упорно переваливаясь, перебирая лапками зерна. Их, как всегда, куда повыше тянуло, взобраться чтоб и взлететь, с плоского им, довольно тяжеленьким, взлетать было несподручно; и потому лезли на борта, на двух парнишек, подвернувшихся тут кстати, в особенности на их воткнутые торчмя печные деревянные лопаты – вот уж откуда, казалось, воспарить можно, даже бескрылому. И десятками ползли, собирались на обугленных когда-то, а теперь стертых кромках лопат, приподымали красные надкрылья-чешуйки, пытались расправить слабенькие свои нежные крылышки прозрачные; и одним это удавалось, срывались и летели освобожденно куда-то назад и вкось, других опять сбивало, сбрасывало ветром движения на пшеницу – а они все лезли. Карабкались тоже инвалиды, жестоко потрепанные, помятые в той большой давилке, какую пришлось испытать, с торчащей кое-как, изломанной всей летательною снасткой своей, там уж ползти нечему было порой – а ползли, так хотелось жить, как раньше, как положено… война, да и только. В школе он уже слышал, что божьи коровки совсем не такие смирные и безобидные, как это кажется всегда, сверху глядя; самые настоящие они хищники, только полезные, вредителей будто заедают всяких. Но в это что-то не верилось, да вовсе и не за тем дело стало сейчас: просто жалко их было, таких вот хороших, в неторопливости своей и деловитости будто разумных, и еще доверчивых – с такой всякий раз доверчивостью, без боязни ползет божья коровка по руке, чтобы взобраться наконец наверх, найти, потоптавшись черненькими лапками, ветер и с натугою взлететь на него. Мало кто, может, знает, что они полезные – а вот любят их все, на то они и божьи.
И он снимал их, копошащихся, набирал в кулак и пускал за борт, на волю, пусть живут как хотят; а тело все его сладко так ныло, постанывало даже будто, это от нешуточной, только что кончившейся схватки с тугой тяжело-шершавой волной бесконечного зерна, хлеставшей из выгрузного шнека комбайна, грозящей всегда переполнить кузов и наземь плеснуться, вызвать злобноватый матерок Лексеича – который, как всегда, стоит на подножке кабины, покуривает, перекрикивается с комбайнером, свои накладные в потертом бумажнике перебирает и все видит.
Мужик неспокойный он, задорно-жестковатый весь какой-то, из одних будто углов, и не знаешь никогда, на какой наткнешься, – «порох, а не мужик»; таким редко угодишь когда, но уж и мало с кем так заработаешь, больше всех успевает рейсов сделать. И верный, никого, кроме как их с Саньком, не берет отгружать с собою. Бывало, по получасу на дороге стоял, ждал, если вдруг они запаздывали: изматерится весь, но других, кто просится, не возьмет – их ждет. Другим шоферам это, смотришь, все равно, а ему вот нет. Своих отгрузчиков, правда, не жалеет, нетерпеливый, сам иной раз заскакивает в кузов, лопату отымает, к их стыду: «Ну-кось, собачьи уши, – дай-ка!..» И машину гонять мастер, со стерни даже пыль подымал, это на колчах-то, что уж о дороге говорить; и его издалека еще узнавали: Лексеич давит, кто ж еще… Он ведь и веселый, когда в духе, животики надорвешь, если высмеивать кого возьмется, и потому все ребята им с Саньком завидовали, вся улица, даром что были шофера подобрей, покладистей.
Имя ему было Алексей, кажется, Никифорович, но все почему-то Лексеичем его звали, и был он нездешний, из райцентра, а сюда какой уж вот год подряд приезжал на уборку – сам, наверное, сюда напрашивался. Есть у него, говорили, большой дом хороший, жена там и две девки-отличницы; дочками он сам хвалился, ими и еще садом, одних яблонек, гордился, четыре сорта, есть такие, что с кулак почти вырастает на них, – зимние какие-то, поздние. Свои мужики слушали, кивали, головами качали: яблонь в селе почти что и не было, редко у кого ранетка-другая торчит в огороде, да и те повыродились, дикушки, считай, кислятина на кислятине, как ее только ребятня ест. Что-то пока не до яблок, кряхтели, себе да скотине чего бы на зиму. А так дело, конечно, хорошее, кто ж говорит… Никто ничего и не говорит.
Квартировался он всегда у Нюрки Самокатихи, на задах у нее машину ставил, зачем – это все знали. И они тоже, не маленькие уж. Они вообще много чего знали и видели: другое, может, дело, что понимали по-своему немножко, но видели-то многое. Жена его, большая такая и красивая, прошлым летом приезжала, шумела, полдня потом сторожила тетку Нюрку возле ее саманной хатенки, но та оказалась хитрей, отсиделась на огороде в кустах и все посылала оттуда соседских ребятишек, на разведку то есть. Было ей за что привечать Лексеича: зерно-то он ей возил-приворовывал, не кто-нибудь. И они с Саньком уже знали, в последнем на дню рейсе оставляли у переднего борта, в углу, с мешок так, а то и побольше зерна, Лексеич уже и не приказывал, только глянет разве. Хлеба немало надо, если скотина, это они давно знали. «Ты смети там, – небрежно говорил он тетке Нюрке, выглянувшей из сенец, а им вдогонку: – Завтра в семь чтобы как штык мне, собачьи уши!..» Квартиру для виду пришлось ему сменить, но машину по старой привычке все равно ставил у Нюрки на задах. Да и ночевал, понятно, там же, это уж само собой, так они считали.
Еще синий был якорек у него на руке, и на груди тоже что-то выколото непонятное, и когда спрашивали его – что, мол, плавал? – он усмехался, как-то легко глядя, и говорил: «Ну!.. То лесом, то тайгой, все мои шторма были…» Сидел, значит, решили; и оказались правы: сидел. Но как там и за что – этого так и не узнали, один только раз ответил он мужикам на прямой такой вопрос, темно ответил: «А за хорошее не сидят», – сказал, и никто дальше спрашивать не стал – что спрашивать?..
«Газон» тяжело вылетел, вымахнул на очередной косогор, захватив дух; скребнул тихий кругом сумеречный воздух передачей и снова напряженно, глухо завыл, набирая скорость, видны стали упорядоченные в линию огни тока за могилками, а правее, в низине, множество окошек села, тусклых и светлых, кто как живет, россыпью. Пронеслись мимо, пылью заволокли клуб с небогатой по случаю уборки толпой на паперти: была тут церковь, купол снесли, крышу перекрыли по-граждански, и вышел клуб с балконами внутри (хоры там, говорят, были), всем клубам клуб. Народец уже зашевелился, втягивался в притвор, но зависти нисколько не было: наоборот, даже как-то приятно было и гордо, что вот люди спокойно глядят кино, а в это время в поле и на току неуемно, день и ночь гудит и пылится работа, самая из всех важная, они с Саньком все в ней, а она их тоже наравне со всеми уважает, ничем не умаляя, наделяет их – никак не лишних, нужных ей – усталостью своей и счастливыми минутами роздыха, серьезностью и равностью своей, уж только за одно это душу отдать можно…
На минуту заскакивает машина под высокие, засиженные голубями стропила крытых автовесов, резко, с форсом тормозит; старая платформа ходуном ходит от тяжести, скрипит, а запыленное окошко весовой приветливо светится. Лексеич уже там, вроде как бы даже переругивается, сует свои накладные веселым двум весовщицам, это из кузова хорошо видно; и тут же, не меняя даже лица, хватает одну, другая взвизгивает ревниво за подружку, обе набрасываются, и Лексеич пятится, спиною вперед выбирается из будки, с хрипотцой неведомого какого-то волнения смеется и говорит: «Вы хоть накладную-то отдайте, девоньки…» – «Н-на, идол!..» Накладная смутным в сумерках голубком выпархивает из двери. Лексеич поднимает ее, оглядывается потом на своих отгрузчиков, подмигивает им и нехотя лезет, садится в кабину, шваркает дверцей.
Ровно прометенный вечерний, с неяркими еще лампочками на столбах ток пылил вовсю. Скрежетали, слитно шуршали зерном транспортеры, веялки сотрясались и шумели, около них орудовали лопатами девки-старшеклассницы, закутанные по глаза платками, толстопятые босиком, кричали что-то через шум и смеялись. Тут же пристроился к одному из ворохов запряженный в председательский легкий тарантас Егемон, мягкими губами забирал зерно, будто о чем шептался с ним, – где-то близко председатель, пошибче надо работать. Разгружали торопливо, через один всего открытый борт. Лексеич, неопределенно поглядев с минуту на их работу, ушел к вагончику завтока, где собралась кучка людей и был, наверное, и сам председатель; девки что-то им кричали от соседнего вороха и опять смеялись, ишь сколько в них смеху; а они с Саньком, зная, что Лексеич на них надеется, ничего уже не слышали – они работали. Куда-то подевалась предночная, уже обозначившаяся прохлада; гул и стуки транспортеров, голоса, огни ближние и дальние – все отдалилось, на время потерялось будто для них, а была лишь одна пшеница в бортах, вязкая, тяжело и с шорохом осыпавшаяся, в руках лопата, которая все норовит вывернуться, и долгое сквозь твои все усилия ожидание, что будет конец и этой пшенице, сколько уж ее сегодня было, надо продержаться только, вон уж и борт оголяется, недолго теперь… Осыпается, открывает пообтертые всяким грузом доски бортов, уже и ноги достают до твердого, скользят по жести, какою обито дно кузова, теперь уж не на пупок брать, а сталкивать можно, живее пойдет дело, сладили. Саньку хорошо, он умеет, когда надо, злиться, хоть бы и на ту же работу, – злому легче. А он вот не умеет, как не русский совсем. Сладили, только Лексеич уже опять на подножке, глядит, надо быстрее, ловчей. Они еще зачищают лопатами дно, а уже, вздрогнув, завелся с полуоборота мотор, машина дернулась и выехала, газуя, высвобождая из вороха борт, – дело сделано. Лексеич смотрит на них, потных, встопыренных спешной работой, с еще подрагивающими возбужденно руками, будто с неохотой какой говорит: «Ладно…» – и поднимает, с глухим бряком закрывает борт. Ладно так ладно, поехали.
Ровный меркнущий свет стоит на закате, покойный и высокий, переходящий над головою уже в ночь. Там везде если не сон, то молчание, до самых дальних пределов. Там тишина, последний свет – а здесь, внизу, изо всех сил противится машине встречный похолодавший воздух, полынно-сухой, дикий, а она дрожит, рвется вдоль дороги, с безрассудной смелостью кидается в балки, выносит стремительно и тяжело наверх опять, и шарит далеко впереди, рыщет по всей округе зарево ее фар, утягивает взгляд за собою – туда, вперед… Проскакивают замершие, спящие уже обочины, ветром обтянуты лица, неведомо куда несет и зачем, смысл пропал, одна скорость – зачем?! – а в ответ она одна и больше ничего…
Санек первый увидел их на дороге, поверх кабины углядел – мелькнуло что-то и пропало под колесами… А вот опять торчком, живое, лапки на груди, светом завороженные глаза большие слюдяные блестят – гляди, тушканчик! И тут же машину повело на ровном проселке, плавно и точно, завалило чуть, и моментальный без толчка хлопок внизу, глухой и непонятный, а машину, потерявшую на несколько мгновений колею, затрясло, мотнуло к обочине, потом назад к середине, в наезженное, и снова мотор загудел напористо, но и ровно, успокоенно будто. Было непонятно, они глядели друг на друга и на дорогу, потом Санек, пересиливая ветер, крикнул: «Он нарочно, да?!» – и замолчал, потому что «газон» опять мягко понесло, будто в соблазн какой, в сторону, надо было ухватиться покрепче. Тушканчик, видели они, скакнул бестолково, слепо, еще подпрыгнул высоко, будто играясь, не желая вовсе уступать дороги, и пропал под радиатором; а следом другой запрыгал, потешно вытянув длинный хвост, вперед и в стороны меж стен темноты, и не понять было, что хочет эта машина, миновать или наоборот… Что-то второй раз послышалось под ними, а может, показалось просто, они так и не разобрали, не успели; а летящая под колеса дорога, сколько теперь ни смотрели они, пуста была, по-ночному однообразна, будто их не было вовсе, тушканчиков, ничего не было, привиделось просто в дурацкой такой скорости.
– Он не нарочно! – говорил ему, присев за борт и переводя дух, Санек; убеждал, хоть с ним и не спорили. – Их попробуй объедь… они вон как шутоломные прыгают, ведь не объедешь же! Лезут на дорогу, дурачки. Они вот что… они зерно, наверно, подбирают, какое натерялось – ишь, хитрые какие! На готовое прямо, да?! Вот бы поймать, поглядеть. Ты ловил когда?
Нет, он не ловил. Сусликов – ладно, этих сколько хочешь, с Саньком же вместе зарабатывали, на курятник их сдавали, курам их там варят. А тушканчиков не приходилось. Ночные они, не попадаются, их вообще мало в степи. От них и вреда-то никакого, неужто он нарочно? Не надо бы так, почем зря-то.
– А ты возьми да спроси… он те спросит! Пусть не лезут, это ведь машина, не что-нибудь. Щасик поедим! Мед будет, вчера вон давали. А там свалим разок и по домам. – Санек зевнул, выглянул поверх борта. – Ты гляди-кось, ходют еще комбайны!
Они, конечно, так и не спросили Лексеича, не посмели. А комбайны ходили. Полого подымавшееся впереди за лощиной поле, темное, черное уже почти под остатками вечерней зари, полно было огней, медленно движущихся, чистых, пыльных, то гаснущих на разворотах, то призывно мигающих, это которые с полным бункером; а за ними и на другом поле тоже, далекие, совсем уж, кажется, недвижимые, застрявшие будто впотьмах, завязшие… Перемигиваются, бессонные, с окрестных полевых взгорий над спящим селом, всю почти ночь напролет, озаряют молчаливое небо, сигналят кому-то – может, звездам самим, – и сладко так, надежно спится под охраною их труда.
А вон полевой стан виден уже, темнеется над балкой, где родник: будка на полозьях с нарами внутри для комбайнеров, горбылевая рядом кухонька, все дымит еще, а поодаль на замасленном терпеливом ковыле какая ни есть бригадная техника – оставшиеся с весны сеялки, сцепка, конные грабли, всегдашний какой-нибудь полуразобранный комбайн раскрылился, как подбитый гусак, припал одним боком к земле. Сквозь груду борон, сошники сеялок и железяки всякие проросли за лето дягиль с полынью, разная самосевка, серый от безводья злаковый подгон – как только не играли, чего только не находили они себе на ржавой той от солярки и мазута земле…
По целику, миновав оставленный кем-то на дороге с прицепной тележкой трактор, влетел Лексеич на стан, сделал немыслимый какой-то разворот, метнув по всему светом, и стал, чуть не ткнувшись радиатором в горбыль кухни, напротив оконной рамы без стекол. Кто-то шарахнулся там запоздало, закричал:
– Сдурел, да?!
– Слезавай, приехали! – ухмыляется Лексеич, соскакивает на землю; и хоть не видно в темноте этой ухмылки, он себе ясно представляет, какая она. И говорит в окно: – Ничево, девка, у нас с гарантией. Лапшу давай, орлы мои вон соскучились по шамовке. Чтоб ложка по стойке «смирно»!..
– С гара-антией… Я ить чуть сердце не потеряла, дурак ты такой! – жалуется повариха тетя Клавдя, ему же и жалуется. – И как с тобой жена живет, с дуроломом… Скольки вас?
– Трое, девка, три орла. А ты попробуй – узнаешь. Ночь мала, собачьи уши!
– Ф-фу ты… И зимою?
– И зимой. Зимою, девонька, еще хуже: изба-то дыровата, зябко, вот и жмемся друг к дружке, греемся. Ты б это… испробовала, а?..
– Нет уж, напробовалась. Идите, счас принесу.
И они идут к рукомойнику с темным уже от машинной грязи сырым полотенцем, а потом к будке, где обочь на ковыльке расстелена клеенка, лампа стоит и громко хлебают лапшу, переговариваясь, несколько мужиков, с ними двое ребят знакомых с соседней улицы, такие же отгрузчики, – видно, последняя эта у тети Клавди партия. Остро, как-то радостно воняет кругом соляркой, мясная горячая лапша парит, непривычная средь лета, – но крепче всего сухой хлебный дух поля и черноземной, встревоженной колёсами стерни с горечью перебитого в молотилках подвядшего молочая пополам, он теперь, запах этот, везде.
– Хлеб-соль трудяшшимся!
– Садись давай, – откликается не торопясь один, оборачивается, это дядя Степан, шофер. – О-о, да вас вон сколько! Ну, беда это малая, щас освободим…
Совсем другой человек дядя Степан, нет еще такого, кто бы отличался так от Лексеича – будто их нарочно друг для друга сделали. Тяжелый весь, медлительный, как бык, позовешь – глаза не вот переведет. Ходит и ездит не то что неспешно, а как бы даже наперекор, в упрек всему на свете поспешному – ползет, а не едет; самые терпеливые не выдерживают и либо ругаться начинают, либо терпят до конца, давая зарок не связываться больше с ним никогда… ну, на крайний разве случай. Но все случаи, как на грех, крайние, а ему это на руку: могу подвезти, мол, а не хотите если – так не надо… Спокойный человек, так вот и живет. Всего хуже с ним жене его, вот уж кто мается всю жизнь, вековухой при живом, с такими-то плечами, мужике, за смертью только посылать такого. А у того и вправду на все один ответ: успеем, все там будем…
К нему и на отгрузку идут лишь потому, что шофера у дружков их все нарасхват, деваться некуда. Мужик он незлой, на вид даже умственный: все что-то ходит тихо, обдумывает, мозгует, хотя ничего умного, считай, не говорит, больше слушать любит, с видимым удовольствием слушает и хоть кого. Глядят на него снисходительно; и, главное дело, ведь не скажешь про него, что это он ленивый такой: нет, он все сделает что ни скажут – вот только не поторопится.
И он и вправду успел, всех опередил, даже и стариков многих, не говоря уж о сверстниках, – как знал. Лет через восемь дошла, уже в город, весть, что больше дяди Степана нет. Умер он в старой райбольнице от долгой какой-то и тягостной болезни, писали, будто рак; и скоро бы, как многие другие, забылся людьми, если бы не эта его медлительность, всем памятная, невозмутимость такая.
– Щас освободим, – говорит дядя Степан, отодвигаясь; потом переставляет чашку, ложку перекладывает тоже, гнездится, елозит заметным уже пузом по траве, устраивается и привыкает на новом месте. Еда настраивает его всегда на хорошее, хотя с Лексеичем они, конечно, никак не в ладах. – Это нам недолго. Что, уже сгрузили?
– А ты как думал!.. – Белесое, все выгоревшее какое-то лицо Лексеича, глаза его светлые, острые и всегда будто исподлобья, уже напряжены. – Это у вас детки по лавкам не кричат, жрать не просят, – а мы работаем! Ты вот мне лучше скажи, за каким тебя хреном в мастерские понесло?! Дядя Коля – ладно, у него кардан посыпался, ему хошь не хошь, а стой – а ты?.. У меня, собачьи уши, колеса чуть не оторвались, на три комбайна один, пацаны вон мои все руки оборвали… какого ты там рассиживал?!
– Да видишь, какое дело…
– Какое дело, что?!
– Грохот, понимаешь, у Петра Федорыча тово… барахлил, вал надо было доставить новый. Просил он – мол, заскочи. Я вроде как поскорей хотел, заехал, а кладовщика нету. Жду – нету, понимаешь. Я на дом к нему, про Николая и не знал. Не должно, думаю, чтоб там не застать, где ему больше быть…
– Ты мне это брось! – еще больше напрягается Лексеич и сам швыряет на клеенку ложку, которой помешивал только что принесенное теткой Клавдей варево. – Брось!.. Он со старым еще бы сутки проходил, твой Петр Федорыч, ни шута б ему не подеялось… Вот гад, а?! – говорит он всем, и все разумеют, кто тут «гад», разъяснять не надо. – Комбайны стоят, а он там… В другой бы раз заскочил, застал, в третий – не-ет, он ждет!.. Недоделок. Дерьмо тебе возить, да и то с погонялкой.
Теперь откладывает ложку дядя Степан; смотрит по-бычьи, как бы не совсем понимая, и потом говорит средь тишины:
– Ты это… обожди, чего ты тут? Я ить и вдарить могу, это… за такое. Я не погляжу. Ругаться всякий дурак сумеет. Я как лучше хотел.
– Хотел, да хотелку забыл, – презрительно кривится Лексеич и принимается за лапшу, перегорел уже. Никого он не боится, никогда, дядю Степана тем более. – Что с тобой говорить, с ушибленным?..
– Я ушибленный, а ты уроненный, вот и все дела. Чем ты это лучше меня? Я, по крайности, хоть на людей не кидаюсь как собака. Спокою даю. Человеку, если хошь, спокой – первое дело. Чтоб спокой, тогда все пойдет.
– Это у тебя-то пойдет?!
– А хоть у кого. Галопом жить чего легше. Нынче за это схватился, завтра за то, до дела не довел, сам дальше поскакал… Один вид, а не работа. Мудрости не надо, одни ноги. Ты вон скачешь, а колеса правда-ть что еле держутся, то и гляди соскочут. Гайки небось целый год не подтягивал. А мне говоришь.
– Ты их что, проверял, мои гайки?!
– Я и так знаю.
– Так он знает, торопыга… Да по мне лучше в тюрьме… лучше воли век не видать, чем как ты жить! Это ж курям на смех – за день шесть рейсов!.. Ведь на курево не заработал – ты, бугай!
– Семь, а счас восьмой будет. Семь, да мои, – дядя Степан уже опять спокоен, как будто ничего и не было; подымается, зачерпывает корцом из бочки родниковой водицы и пьет, мерно и не торопясь заглатывая, светлые меркнущие капли сбегают по широкому подбородку, по рубахе старой, темной. Утирается потом, глядит: – А хошь, я те докажу?
– Чего ты докажешь?
– А с гайками. Счас вот принесу ключ и докажу.
– Пош-шел ты!..
Припозднилось в степи, тихо, даже кузнечики перестали пилить, одни лишь огни в поле и рокот дальний, еле отделимый от тишины. Робко вызвездило наверху. Звякает в кухоньке посуда, это тетя Клавдя с напарницей прибирают наспех, завтра им чуть свет на ноги, опять кормить людей, без хорошей кормежки такое дело не потянешь. Им тоже пора бы домой, «спать без задних ног», как мать говорит, а Лексеичу к своей Нюрке, хватит бы на сегодня – но рейс надо сделать, это уж не меньше. А может, и еще один, как хозяин решит. Неужто нарочно он, тушканчиков?
Тяжело, будто нагруженный, переваливаясь на бороздах и ноя мотором, отбыл в поле Степанов ЗИС, и долго еще там виднелся, кочевал красноватый огонек габаритки его, не терялся все никак, не теряется… Засобирались, покончив с ужином, и они – мигали, звали полевые огни. Подъехали к тарахтящему всем своим железным нутром комбайну, в пыльный свет боковой фары его, в метель жаркую половы и грубых машинных запахов, стали под хобот; и тут же комбайн взрыкнул, тяжело, толчками зашуршала, зашумела в выгрузном шнеке пшеница, нетерпеливо, словно соскучившись в бункере, – и пошла, затопляя тяжелыми ласковыми волнами дно, борта кузова, босые ноги. «А мы вас уже и не ждали! – кричал им, показывая белые, яркие на земляном лице зубы, здоровенный парень Мишок, штурвальный Петра Федоровича. – Думали ночевать с зерном, а тут вы… Молодцы!» А молодцы разваливают, разгоняют пшеницу по кузову, не до разговоров. Сам воздух гудит, дрожит вокруг них от горячей дрожи, от торжества машины, пыль висит в слепящем свете – хлебная, густая, сам хлеб валит, и надо успеть, иной заботы пока нет…
И вот уж без прежней нагрузки, уже впустую молотит шнек, скребет, доскребывает, выкидывает остатки зерна – и вот стал, недоскрежетнув. Сразу слышны становятся рокот мотора комбайна, умиротворенный теперь, облегченный, без всяких галдящих на разные голоса шкивов и трансмиссий, смех здоровенного Мишка и злой басок Лексеича, опять что-то ругается, не в духе нынче. Звенит, тянет полевой сверчок бессонный, неизвестно как попавший сюда, и не определишь, где это он так старается: трель его то сбоку послышится, то сзади, а то вдруг сверху сойдет – отзовется во всем, все проникнет и отдалится, мирный, тоскующий, ищет что-то в темной округе.
– …сопляк какой! – Лексеич уже шел на Мишка, а тот, скалясь в усмешке и все ж струхнув, подавался, выставив перед собой черенок вил. – Я т-те пошучу, сволочь!
– Лексей Никифорыч… – предупреждал Мишок, отступая за подборщик. – Лексей Никифорыч! У меня ить вилы – гляди…
– А мне по…
– Э-э, братцы, это уже не дело!
Комбайнер Петр Федорович поспешил, встал между ними, умудрился при этом даже и степенности своей не потерять, на правах старшего легонько толкнул Лексеича в грудь, сказал:
– Ну-ну… ты что, всамделе? Ни к чему это, ребятки.
– Отойди! Я его, с-собачьи уши, отучу зубы скалить, щенка!
– Как это – «отойди»?! Я не отойду. Вы тут вилами пороться будете, а мне отвечай. На старости-то лет.
Он опять ласково и настойчиво толкнул его, остановил и так, поталкивая, приговаривая: «Кончай давай, нечего…» – отвел бранившегося Лексеича к машине, под свет фары, отвлек было.
– Он еще молодой, дурачок, – что ж тебе-то с ним равняться. Не надо, Лексей, он тебе не ровня. Не хватало еще подраться. Надо это как-то… разумней, вот. Без психов, этак лучше.
– А ты-то что ума тут мне даешь?! – как-то дико, исподлобья глянул вдруг Лексеич, вырвал руку; и резкий сделав шаг назад, сдернул фуражку, хлопнул ею под ноги себе, на стерню. – Т-ты!.. Тоже, что ль, хошь?!
– Лексей, ну обожди… Вот порох-то.
– Отойди, говорю… ума мне давать! Я гляжу, ты тоже хошь, умник, – лезешь! Я всегда пожалуйста, хоть щас!..
Нет, что-то совсем нынче не в духе Лексеич, думали они, глядя сверху; как не с той ноги встал, целый день вот так… Петр Федорович махнул рукой и полез к себе наверх. Мишок уже тоже был там, пристраивал вилы, хмурился, пытаясь сдержать глуповатую ухмылку, – а Лексеич еще стоял, глядел неукротимыми глазами, и в спутанных его волосах, припотевших под фуражкою, негустых, по-детски каких-то белесоватых, сидела, чуть краснелась божья коровка, кто-то нас, видно, прощал, всех.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































