Текст книги "Новомир"
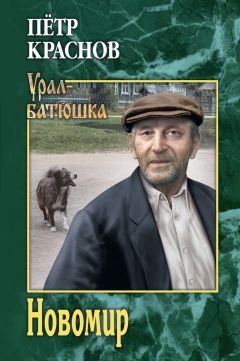
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 28 страниц)
X
– Иду это я, а свет неятный, смурной такой – как, скажи, какой туман стоит. Время позднее, солнышко село. Коров-то уж пригнали, поздно. И гляжу, вроде впереди кто-т ковыляет, это по проулку-то. Не разберу – кто, глаза уж какие теперь… уронишь – не подымешь, со здоровьем ить так. Туды пудами, а оттудова – золотниками. Вроде как старуха какая, вот как я, тольки тощей. И так это скоро, ногами-то, мне за ней не поспеть, куды-ы… Шла-шла – и вдруг нету. Куда ж, думаю, запропастился человек, ить на глазах был, только что вот… Да-а. Я это как-то и в голову не взяла, что Молоканиха это, Степанида. И вижу, значит, как по дороге катится что-то навроде сковороды: катится так, вихляется, прямо как по-степанидиному, походкой-то… и нырк в кусты! Прямо, значит, в калинник суседский. И как ничо не было! Я это, грешная, крешшусь большим крестом с перепугу-то, а сама все иду – иду, родимые, куды ж деваться, проулок – он один, не рекой же обходить. Далеко моим ногам, если рекою. Прохожу, значит, и крешшусь, грехов-то много, это одним святым можно ничо не бояться… А потом возьми да и перекрести калинник. Ка-ак там что-то порскнет, это в кустах-то!.. Бат-тюшки-светы мои, как завишшит, ка-ак по траве-то шуранет – я так и обмерла… А она ровно кошкой, значит, черной, сломя голову – да на зады, да по задам… как, скажи, пришпарена, так ударилась-то! И вроде как в баню к Тирениным. Ну, думаю, сволота, подойтить бы к бане, дверь подпереть да ишшо перекрестить… ты бы у меня в трубу вылетела, ведьма!.. А побоялась. Неятно кругом, туман ровно какой – ну ее, думаю, к шуту, еще удумает надо мной что, спортит, икай тады… много ль мне надо? Нет уж, лучше не связываться. Я и так зажилась, сама знаю. Уж не живу, а только грехов себе прибавляю… Ну да надо терпеть, ничо не поделаешь, до конца нам тут заповедано терпеть.
– Постой, бабк Матрен… так она сама ведь крестится, Степанида-то, – и ничего, не боится… Сколько раз видал, своими глазами.
– Хто, Степанида?!
– Ну!
– Не-е, ты, милок, на это не гляди-и… Это у них другой крест, бесовскай; для отводу глаз, вот она и не страшится. Ты вот приметь, как она крест кладет, – приметь-ка… То-то. Меня не омманешь, я век прожила, всего нагляделась.
– Так, а если перекрестить вот ее, на улице где-нибудь?
– Ничо не будет, и глазом не моргнеть. Это надо, когда в другом она каком обличье – вот тогда-то уж достанеть… Хуже кипятка для них крестное знамение, готовы тогда прямо из шкуры выпрыгнуть. Не любют.
Высокие стоят сумерки над селом, над темными, плотски тяжелыми, успевшими набрать уже листву кустами там, на светлом еще закате; и приходящая с полей тишь, и свет этот последний льются в широкий проем уличного проулка, и видны там огороды, сад их калинный, густой до черноты, и померкшие предночные плоскогорья с далекой маленькой лошадкою на них, одинокой, неизвестно отчего забравшейся туда с травяной низины Черноречки, от лугов богатых. Еще свежо, еще чуть тревожит майский остатний холодок, особенно стариков, собравшихся вот на бревнышках под окнами низкой длинной избы деда Трофима. Горько и молодо пахнет кленом из соседского, двумя всего слегами огороженного палисадника; утомленный, но ровно гудит паевой сепаратор сзади в прихожке, светится там, как в келье, красноватый тихий огонек и дневными новостями делятся бабы – только что надоенное молоко, вечерешник, пропускают. Если где есть по улице огоньки сейчас, то это в прихожих: ужинать в избах еще не садились, рановато, темны и молчаливы окна.
Примостились на бревешках старики, кто говорит, кто слушает, курят, в тонком воздухе пряный махорочный запах плывет, родной, каким всегда пахнет пиджачишко отцовский и сам он весь, еще молодой, до грубой красноты загорелый на первой полевой работе; вот он сидит на нижнем ряду, на равных со всеми, молодой и рассудительный, без фуражки и с сильной открытой шеей. Они, мальчишки, наверху и малость в сторонке, отсюда всех видно; и тоже слушают, старательней всех других слушают бабку Матрену, рыхлую всю от старости, с бледным и в сумерках будто светящимся отекшим лицом, всегда им чем-то неприятным и даже страшноватым, хотя бояться ее вроде нету причин – какие могут причины быть, если она всем большим и малым на улице пупки перевязывала, ему вот и дружкам его тоже. Он это давно знал, и все знали, а в последний раз от матери Санька слышал, которого люди приметили в Матренином огородике: лупила мать Санька чилижным веником и приговаривала, чтобы помнил… Не было никаких причин, а все равно побаивались.
– Ох, не любют… – повторила, качнула опять головой бабка. – Да-к и подумать: за что им любить ево, крест-то? От креста плохого не завешшано. Тока хорошее. А это они его перевернули по-своему, людей смущают. Без благочиния живут, грех.
Давние они с Молоканихой соперницы, с тех пор как перешла та в какую-то иную веру, тоже с крестом, но «без благочиния». Истово и угрюмо, точно шершни в дупле, гудели за прикрытыми ставнями Молоканихиной избушки и уж до того дошли, что завели отдельные, «поганые», кружки – на случай, если зайдет кто из чужой веры и напиться попросит: и отказать по вере нельзя, и оскверниться из одной посуды, дескать, не дай бог…
– Да кто вас знает, как вы там креститесь, – сказал Погребошник. – Бабы и есть бабы. Бога – и то не поделили.
– Он один, ево нечего делить…
– Вот я и говорю – бабы!..
Негромки стариковские посиделки, сидят, табачат. Первый из всех курильщик дед Куян, по какому-то делу забредший сюда с Выселок: густо садит, не жалеет махры, сидит, весь обвиваемый дымом, будто сам уже затлел. Только что затоптал окурок, а кисет уже опять в руках, привычно свертывает новую, а сам рассуждает, будто в извинение, но и с какой-то гордостью:
– Вот возьми ты: всю жизню прожил, а ни пить, ни курить не научился… Тормозов нету, што ль. Другой, глядишь, уже к сорока вошел в себя, в свои то исть берега, узнал свою меру – во всем, что почем… а тут вот хоть расшибись – нету! Не всем, видно, дано.
Никто ему почему-то не ответил, промолчали – может, о своих мерках вспомнили, прикинули; а он вздохнул и вдруг проговорил, серьезно и с тоской:
– Эх, знать бы свой срок, когда умереть, – все бы пропил…
– Што уж ты так-то…
– Да вот так, – жестко отчего-то подтвердил тот, прокуренно закашлял. – Один шут – подыхать…
– Нельзя человеку свой срок знать, – сказала бабка Матрена; как бы с сожалением сказала и тут же поправилась: – А и правильно, ни к чему. Иначе он такое насодеет, што… Нет, нельзя. Чуять можно, а чтоб знать – нет, незачем. Будет тебе, касатик, не думай. За нас есть кому думать.
– Может, он за тебя и козу твою доит?.. – не утерпел Погребошник и, глядя в проулочную даль и усмехаясь, стал ждать ответа. И дождался, за бабкой ни слово, ни дело не станет:
– Ну-ну, хватит… Беспортошный. Забыл, как без порток бегал, сметанник? А я помню.
Помолчали; посмотрели, как заблудшую телку чей-то парнишка гонит-подгоняет, с проулка запереживает, чтобы не порскнула часом в огороды – там тогда не угонишься.
– Ладная телушка, – зорко похвалил Куян и отца плечом толкнул, показал глазами. – Ну-ка, во скольки огадаешь?
Отец посмотрел, сплюнул, не отводя приценивающегося взгляда. Телушка миновала уже проулок, шла, по-бабьи раскачиваясь, в чужие дворы заглядывая, потягивая мордой, – не набегалась еще, все ее тянуло в чужое.
– Да центнера два небось уже есть.
– В два не уместишь, – сказал другой дед, Глухой. – Два с двумя – это куда ни шло. С пудами, – пояснил он. – Это у ней посадка низкая, вот и не глядится. А так нагулялась девка.
– А я четверть накину, не боле. Два с четвертью. Хошь на спор? – повернулся дед Куян к Глухому.
– Да-к, а што ты у меня отспоришь? У меня нечего отспоривать, ничего нету.
– Как – «нету»? Самогонку старуха твоя затирала?
– Затирала… Да-к, а ты разве не слыхал?
– Ась?
– Не слыхал, гутарю, што участковый у меня был, молодой энтот, Плешаков-то?.. Был. Тока не как люди, а… Я это во дворе вожусь, девка моя к шабрам подалась куда-т – а он как тут был. Ну-кось, гутарит, пошли в избу, дед, дело есть. Ну, я што – повел. А он прямо с порогу к запечью, занавеску на сторону, туфайку с фляги тоже – што ж это ты, спрашивает, дед? Я руками так – мол, виноват… Как он узрел-то все сразу, дивлюсь: без остановки прямо в запечек!
– Ну, это не дивно. Она ж тепло любит, чтоб как за пазухой – где ты поставишь еще? Дураку ясно, а какой же он дурак.
– Эт-то да… Так ить не для себя ж гонишь, нам она зачем? Для других. Руки-ноги не владают, а кто помогнет если, вот и поднесешь. Ну, открыл, значит, шибануло его маненько крышкой, больно уж дух сперся… опять зовет меня. Дай-кось, говорит, вон сольцы. Што, думаю, за притча, неужель он ее солью… это… занюхать хочет? Мне и невдомек, дураку, подаю солонку со стола, сам уж кружку сослепу приглядываю – а он ее, соль то исть, кувырь в сусло всю… тока зашипела. А она у нас больша, солоница-то, старинна. Чаплю из подпечка достал, рожном так побултыхал во фляге, помешал – ну вот, говорит, сделали нитрилизацию… Да зачем ты, говорю, так-то… Незачем нас обижать, стариков, мы и так, это… временем обижены. А вот так, гутарит, а сам вроде как веселый, интересно ему на меня поглядеть; нынче, мол, так. Ничего, корове в пользу, либо там свинье, споишь помаленьку. А гнать, мол, и не берись, одна будет ржавь – не выбродит, проверено. Учись, мол, дед. И пошел, туды ево…
– Подлюшный какой!
– Вот-вот… Хрен бы с ней, вылил посередь двора, как это водитца, – ну бы и шут с нею: он доглядел, а я нет, я вор, а ты доглядчик – впервой, што ль… А это как-то даже-ть обидно: мою же соль и в мою, то исть, брагу… И, главно дело, хоть бы даже поругал там, сказал што либо постыдил; нет, глядит с посмешкой, тока щуритца. Даже-ть ругаться им стало нынче неохота, не то что флягу вытаскивать. Молодой, а борзый. Свинье, говорит, пойдет… кто ж так делает?! И какая у меня, по моим-то годам, свинья? За собой не доглядаешь, не то что за скотиною.
– Слыхали мы… Так и что ж?
– Да-к што ж – зятю отдал, корове и споил. А ты говоришь.
– Где закон, там и обида, не нами сказано.
– А он, этот малый, ишшо в школе такой был… весь из себя. Я примечал. Сроду форсил, говорят. У них весь помет такой, у Плешаковых, – доброго слова не жди, одне подковырки. Я с ихним дедом, помню, пахал у Вязовок; это теперь там одни кочки, а раньше урема такая была, что страсть! Быков на ночь запустишь, а как Цабанья Ножка поднимется на небо, Стожары то исть, так ты в поиск… В кровь, бывало, издерешься весь в этих Вязовках: темь еще, а там сплошь один шиповник этот, симбярика с ежевикой, росы полна коробушка… Так чтобы он пошел когда быков искать – ни-ни! Мы-то, конешно, помоложе были, а все равно… Ты весь оттеда мокрый, ободранный, погонщик ево тоже – а он, значит, поглядывает да по-своему щуритца: как это, мол, вы неосторожно ходите, всю ежевику небось потоптали, ягодки ребятишкам не оставите… Ей-бо, так и говорил. А как упряжку первую отходим, до часов этак девяти, первым потом умоемся, он опять: эх, мол, вы, ежевишники – вы лучше дома поболе работайте, чем здесь упираться. Их ить, дураки, три, упряжки-то… Ну, мы не на ево – мы в гусударству работали, без хлебушка оно никуда не годится; так, сброд бы один вышел, ничего боле. А туды много-ть надо.
– Куда эт, не разберу?
– В гусударству.
– Ась?
– В гусударству, говорю.
– А-а… это да. Без хлеба никуды, сызвеку так.
– Ну да-к вот… так вот и работали. Ох, а как его Максим не любил! Бывалоча, аж запрядает весь: ты, мол, скрытый саботажник и никто боле… по статье, мол, пущу, прогуляешься мне до северного сияния. Он хоть и дурной был, Максим, зверь, а в работе завиднющий. А тому хоть бы что, щуритца. И скоро из нашего «Свободного пахаря» в совхоз подался, легкие заработки искать. Завхозом там шуровал-муровал. А как «Ударнику» разбежаться, назад воротился, избу внове отстроил, с тех пор на местях. Уклончивый был мужик, ехидный. Вот оне и пошли.
– Нынешние пошли.
– Пошли-поехали, это точно… Да и то сказать: разве нам, старикам, теперь угодишь? Все не так. Когда молодыми были, все за хорошее сходило, как будто бы так и надо. То, што сами дуроломом жили, уж не помним, не-ет. А этих вот, нынешних, корим… а что корить-то?! Оне по-своему живут, пусть, авось выживут. Мы ить выжили.
– Не дай бог, как мы.
– Не дай и не приведи.
Майская заря догорела давно, небо пеплом взялось, стемнело, умолкли в прихожке сепаратор и бабьи разговоры, разошлись уже бабы. Внутренним избяным светом керосиновых ламп засветились кое-где окна; кликнули ужинать одного, другого, остальные сами подымались кряхтя, придерживая поясницы, – «ну, покедова» – и расползались по своим углам. Позвала отца мать, спросила: «Нашего там не видать?» – «Здеся, – отозвался отец. – Сейчас будем». Встала и бабка Матрена, подпираясь бадиком, пожаловалась на сны: один хуже другого пошли и все, как на грех, в руку. О прошлую ночь вот приснилось, будто сын ее, Николай Михалыч то есть, пришел с помочи «вдрыбодан» и все какую-то справку требовал, грозился. Справка эта – бог с нею, чего только не привидится; а с первым оно так и вышло, пьяней вина к обеду заявился, с помолу – видно, с мужиками схлестнулся, в мастерских. Дозелена пьют. С тем и ушла. Видно, даже и там не покидают их заботы дневные, здешние – даже и там, во снах…
И не часто, и не редко вовсе приходили к его матери полузнакомые и совсем ему незнакомые, с других улиц, женщины за калиной – для поминальных пирогов, пельменчиков, ржаной похлебки-кулаги, которую так любили на поминках ребятишки. Калинный сад у них был, наверное, самый большой в округе, да и редко у кого она водилась тогда, калина, все больше случаем брали по окрестным лесочкам, когда под руку подвернется. Мать, как водится, участливо расспрашивала о покойнике, вздыхали они с пришедшей вместе, а его она посылала наверх, на чердачок, где на березовых жердях была навешена связанная в парные пучки калина. Он лез туда, под толстую соломенную, от времени ставшую земляной, крышу, снимал и укладывал пучки в ведро. Калина (прошлогоднего урожая, а может, и более давнего, никто ее не делил) потемнела, сморщилась и высохла до жесткости, до самых косточек; но невзрачные косточки и зернышки эти не могли его обмануть. Он-то знал, что стоит их обобрать, помыть да залить водой, как через некое время начнут они разбухать, округляться, наливаясь темно-вишневым кисленьким соком, – и вот уж плавают в порозовевшей воде налитые ягоды, немного только, самую малость потемнели от всех передряг…
Он сшелушивал их немного в горсть, между ладошек тер и отправлял в рот. Калина отдавала печной золой, которой был засыпан потолок на чердаке, пылью и не кислила, а только немного была горьковатой от косточек – чуть-чуть горькой, ровно настолько, чтобы признать в ней калину.
Мать отдавала благодарной женщине калину, напрочь отказываясь от денег: «Что еще удумала – давать… грех за такое брать. А вы вот помянете, оно и хорошо будет», – и себе оставляла в ведре пучков с пяток: давно за хлопотами калину не пробовали, не вот за ней туда полезешь, на чердак… Приходил вечером с поля отец, еще во дворе ловил ноздрями густой, пряно-кисловатый и сытный дух распаренной в подтопке кулаги, спрашивал: «Никак, Илью Степаныча поминаем?» – «Поминаем, – говорила мать с досадой. – Уж не упомню, когда для себя в последний раз парила, – а калины, считай, на-мали осталось…» – «Это ты такая дарёна, – усмехался отец. – Все раздарила, всех оделила». – «Да как-жеть откажешь-то, коль просят! – сердилась мать на себя, на отца, что подковыривал всегда, и на просителей этих всех. – Ить не на свадьбу даешь. С осени весь подлавок увешала, куда с запасом, а теперь вот… Лучше б татарину отдали надысь, продали!» Они садились, хлебали истомившуюся в чугунке запашистую кулагу, поминали усопшего; а в другой раз, в другие годы все это повторялось, и горечь пробованной на чердаке калины повторялась – с тою лишь разницей для него, что он взрослел…
Дед Куян с Глухим еще пожили, а бабка Матрена года через два споткнулась – на самом деле споткнулась, в прямом смысле. Не миновать, все говорила, могилку, непроезжий это сугроб… Шла с огорода через двор, зацепилась ногой за проволоку с шишечками (она тогда везде валялась, эта проволока, по всем полям и задам – кукурузу было велено сеять, и непременно квадратно-гнездовым способом) и упала прямо на каменное, с прошлых веков, корыто. Нашли ее там же, с черной кровцой, стекшей подбородком из уголка старческих морщеных губ за пазуху.
XI
Тяжелая и блестящая, шумящая торопливо листва раскачивает, мотает под ветром свои видавшие виды старые стволы – клонит, и распрямляет, и опять заваливает их, но нету, не слышно нигде почему-то недужного скрипа древесного, жалобы, какая тревожит осенью, зимою тем более; они, стволы, тоже полны соками и силою, тоже в работе и все вытерпят, вынесут ради потомства своего. А небо с утра глубокое, синее, ни единого облачка. Гулко бьют средь бела дня соловьи, сладкий их посвист и чоканье несется по затерянным в долине садам, теперь всюду вдруг объявившимся белым, розовым цветом своим, – отражается, скачет, теряется в зеленой тесноте мая и опять возвращается, вдвое торжественней и раскатистее, полней и отзывчивей во всем. Весенний чистый ветер шумит, синяя рябит река, блещет, распирает мертвые сухие плетни и штакетник оград рвущейся вширь молодой сильной зеленью, разламывает. Грачи, которые все скроготали, суетились в верхушках ветел по Черноречке, подымая заполошное вздорное карканье и ссоры, обстроились наконец на своих гнездовьях старинных, тоже семьями, как и люди, примолкли и тяжело, озабоченно летают низом теперь, выглядывают добычу, для них уже будни настали. И все кругом занято делом, ни одной травинки праздной нет, ни одного существа – кроме разве что соловья. Да и у того если не дело, то заделье: говорят, слаще всего он заливается, когда соловьиха гнездышко вьет, семейное свивает; и долго ему петь, когда-то еще ячмень заколосится…
И везде, всюду слышат эту его весть, знают. Люди подымают от работы головы, переглядываются с ухмылкой – ишь как выделывает, студент! Небось рад – да кто ж тому не рад, дело-то жизненное… Неутомимые, передают ее дальше в степь жаворонки; суслики земляные – и те что-то высвистывать пытаются, сладко жить сейчас в мире, даже заботы не в помеху. Вон как сады развалились, разнежились в затишках меж долинных суетных рощиц, всякого подгона, сброда лиственного и поднявшихся уже трав – как во сне, в бреду цветения все. Малинник тихо и напряженно гудит от пчел, приносит иногда тяжкий плотский запах цветущей тоже калины, сурепка по всем пустошам и межам, все захватила, заполонила желтым своим. Редко, издалека зато, увидишь млечную березку, мелкую блестящую листву ее клейкую, перебираемую ветром, яркую из всех, будто светящуюся, – вот так же ярко будет светить она средь всего в первом октябрьском покое, в погасшем воздухе его: вспыхнет и сгорит в два дня… Но это потом, осенью – когда-то она еще будет, осень. А пока будто на цыпочки все привстает, тянется, и везде земля – черная, парная, разморенная щедростью своей земля, которая всех кормит, не жалея себя, едоков не разбирая, и потому всем владеет.
– А народ-то, народ… в семь ворот и все на огород! – дивились друг другу и, наспех прибравшись по дому, по двору, сами бежали туда, земля ждать не любит. Скучали по ней зиму; нет, что ни говори, а соскучились. И вот возились, не разгибая спин, на огурешниках, каждый росток пестали; капустники на берегу вскопали, высадили тонкошеюю рассаду, и мать сама, никому не доверяя, все бегала, каждое утро и вечер бегала отливать зори степлившейся речной водой, чтобы принялась, покрепче была, шутка ли – на зиму без капусты остаться. Вспахали огороды, за картошку взялись, сажали под ярким, уже припекавшим вовсю солнышком, а за ними поодаль важные ходили грачи, скворцы перелетали вослед, склевывали, кому что попадется, будни захватили всех.
И опять кряхтит на перекосах и колдобинах телега, скрип ее, надоедный посередь мудрой тишины приречной низовой степи, лезет в уши, но к нему всяк давно привычен, все это свое. Он едет с отцом на Культурку, стан полевой, отец теперь учетчик, складная сажень тут же приткнута, чтоб мерить засеянное за день и делянки отбивать, и два мотка мерной, для кукурузы, проволоки; катаются еще сзади по кузову сваренные и прихваченные по пути из кузни железки, от них остро воняет углем и окалиной, это для трактористов. Доставят железки, отец там останется со своей саженью, а он должен вернуться с Карим домой – новую землю, назём, на огурешник возить. Карий сильный, когда надо – скорый в ходу и, главное дело, послушный, везде вывезет. Он вроде как отцов теперь, никто без спроса не запряжет, хотя зарятся все. И его уже знает, подпускает без всякого.
Когда выезжали с базы, выбирались из ее круто замешенной, развороченной тракторами и теперь в колчи засохшей под солнышком грязи, махнул им рукой дядя Студеникин, тракторист. Отец придержал Карего.
– Куда направились-то?
Отец в настроении:
– В крым-пески, туманны горы…
– А все ж?
– Да на Культурку, куда ж еще. С печи да на полати.
– А и хорошо, все мне не пёхом. Ить три версты, их пройти надо… ноги-то не казенные.
Студеникин сутуловатый и большой, даже громоздкий – покатые, силой отяжеленные плечи и внимательные всегда и тоже оттого немного тяжеловатые спокойные глаза. Одним неторопливым движением подсел, перекосив телегу, на грядушку – поехали. И тут же увидел железки: черными, настолько въелась в них машинная грязь, негнущимися пальцами покатал, как бы этим перебрал их и, потеряв интерес, оглянулся вокруг, вздохнул глубоко.
Давно уж опросталась от снега степь, повеселела вся, зазеленела, хотя заметно свежее здесь, чем в селе, простору для ветра и остуды больше. Лишь в низовьях глубоких балок остался еще кое-где под черноземными крупчатыми наносами, схоронился последний снег; трава там еще только просыпается, оживает, вся в грязной паутине и ошметках паводка, в засохших илистых бородах, не очистилась, не вылезла пока из родовых грязей – но скоро все-таки пробьется, подымется, заблестит после первых летних, шумных и чистых, дождей, и ничего ее чище не будет…
– Дождались… – сказал вдруг Студеникин и снова вздохнул облегченно; сидел он спиной к ним, лица его не видно было, и все смотрел окрест. – В печенках уже эта зима, не люблю. – И еще сказал, помолчав: – Войны бы, стервы, не было… Ты ж воевал, – обернулся он к отцу, – что, много побило?
– Хватает, – нехотя отозвался отец, он не любил о ней говорить. – Сами небось не знаем.
– И что, так прямо и посылали?
– Так и посылали.
– И не жалели?
– Да почему ж… всяко бывало. А что это ты?
– Да так… Люди ить, знаешь, – сказал с какой-то неловкостью, как бы оправдываясь даже, Студеникин. – Люди все, что ни говори.
– Люди… А дело? За нас, брат, его никто не делал… не на кого было оглядываться. Хошь не хошь, а делай.
– Дело-то делом; так что ж тогда, пропадай весь свет?
– Н-ну, загнул… Как умели, так и делали. – Отец пошевелил вожжами Карего, поглядел вокруг тоже, подумал. – Да и то сказать, в огонь дров не набросаешься… Ладно, не нашего ума это дело. А ты что не в борозде?
– Да дома надо было…
Что дома ему надо было, он так и не сказал. Упираясь в своей сбруе, вывез их Карий из-под косогора наверх. Второго яруса черноземная ширь, вся, считай, вспаханная, рыхло возделанная, открылась перед ними до самого дальнего своего, тонувшего в синих прядях и туманах испарений, горизонта. Видны были где-то там, на самом краю, почти грезились какие-то другие, незнаемые и, казалось, вовек недостижимые воздушно-пологие взгорья, теряющаяся череда всхолмлений неких, больше небу принадлежащих, чем земле, даль непостижимая; и лишь одна из них, гора не гора, не самая еще дальняя в туманно-солнечной пелене, – одна лишь взметывалась, подобно человеку, бессильно там и одновременно же опадала, не нарушая тем великой покорности равнинной, равнинности жизни. Переливались над головою, не кончаясь, жаворонки, телегу шатко влекло через перепаханную с осени и еще не наезженную как следует полевую дорогу; а вон уж, на краю суходола, и Культурка показалась, будка-вагончик с успевшим выгореть флажком и низкое горбылевое строение кухни. Торчал там еще тракторишко с тележкой на прицепе, полевой инвентарь был разбросан, и приткнулась к будке запряженная в тарантас лошадь.
– Кажись, сам прибыл, – проговорил, беспокойно вглядываясь, отец, – черт его принес. Время обед, а я в сводке еще концы с концами не свел. Занудит теперь.
– Да он мужик ничего, – примирительно сказал Студеникин. – С ним хоть жить можно. Хоть на трудодни дает, не то что предбывший. А ругаться мы все мастера… нас тока руганью и возьмешь. Ничего, не слиняем.
Под навесом обедали. Председатель сидел в конце длинного, на козлах, дощатого стола; боком к торцу сидел, хмуровато посматривал на трактористов и сеяльщиков и о чем-то все, видно, думал.
– А-а, ты… – сказал он, увидев отца, и перевел взгляд на Студеникина, дольше обыкновенного посмотрел. – Что, привез? – Отец кивнул. – Надо быстрей, ребятки, уже все сроки нам прошли. За поздние яровые надо браться, не медлить.
– Да мы что… мы готовы, – сказал кто-то, угнувшись, старательно дохлебывая из алюминиевой чашки. – Мы бы еще дня три тому взялись – а семена? Кукурузы-то нету.
– Ну. Царицы-то полей. Сами велели, а семенов нету. И проволоки тоже. Бардак, прости Господи.
– Все-все, есть семена. Вчера завезли. И проволока вон прибыла, на первый случай хватит, а там еще подкинем. Добываем, стараемся. А в такой большой стране не может все быть хорошо, вы ж не маленькие, сами должны понимать.
– Да понимаем.
– Ну вот… Ну а ты что, Василь Дементич? – повернулся он к Студеникину. – Все баталии у вас там… пятый угол всё ищете, никак не найдете? Опять, слышу, заваруха?
– Это дело мое.
– Твое-то твое, а вот к трактору заполден явился.
– Он же не стоит. В борозде же.
– Еще бы стоял, хозяина дожидался… И не стоит, а порядка нету. Да и хрен с ним, с трактором… я о тебе. Хватит бы уж, а? И от людей нехорошо, и вообще… И дети уж большие у вас.
– А что – люди? – Студеникин и не думал никого стесняться, таиться, серые глаза его смотрели все так же спокойно, тяжеловато и все понимали. – Пусть каждый свою коросту чешет – а мне своя… Нашли тоже заботу. Пусть за своим каждый доглядает.
– Ну, гляди сам…
Председатель кивнул всем и пошел, играя черным хромовым солнцем на голенищах, к тарантасу. Распутал замотанную на коновязь будки вожжу, прикрикнул на затанцевавшего было жеребца с непонятным, мужиками даденным ему прозвищем Егемон и со вздохом каким-то залез, уселся в подрессоренную плетенку. Жеребец резко, с форсом взял с места и легко понес, тарантас шибко покатился, запрыгал мягко и валко; через минуту был он уже на другой стороне лощины, потом у молоденькой, сквозной еще лесопосадки, а там косогором взял, через целик, и все уменьшался, мельчал, все медленней перемещался там, и вот уж и движенья не стало видно, одна точка, длящаяся там, угадываемая – и вот не стало и ее…
– Уехал… А насчет покосов надоть бы на него поднажать – а, мужики?! Он сходливый: поругается, а даст.
– Нет, в самом деле. А то не по-людски получается: трава пропадает, а скотина наша на соломе. Надоело уж хорониться, сколько можно: накосишь навилен, а страху натерпишься… Как чужой всем, ей-богу.
– Да надо бы…
– А что это он так озаботился, – спросил Студеникина, уже принявшегося за чашку сытных колхозных щей, дед Трофим, горючевоз, – аль донес куда кто?
– Делать ему нечего, вот и лезет.
– Твоя-то дюже вчера шумела?
Студеникин глянул и не ответил, склонился опять над чашкой.
– А то не дюже!.. – Погребошник и тут был, он ходил теперь в сеяльщиках. – Все окошки Вальке поколола, с косяками дверь чуток не вынесла… вот это, я понимаю, баба. Достанься мне такая – ни на кого бы не сменял.
– А и правда, за сто рублей не укупишь… Ты вот что, Василь Дементич: ты давай, это, при жене, а я к Валюшке твоей схожу. Зайду, а что? Не тебе ж одному. Может, она меня еще лучше встренет.
Тот посмотрел на шутника, посмотрел спокойно:
– Иди.
– А ежели вправду пойду? Вечерочек потише выберу ежли?
– Иди. Утоплю.
– Н-ну, ты казак… – не сразу нашелся, как-то мелко посмеялся спросивший, из первой бригады какой-то, с другой улицы.
– Да не бойсь, не пойду я…
– А я и не боюсь.
Людей он не боялся – все давно и про все знали. Лет никак уж десять, рассказывали бабы, похаживает к Вальке – в открытую, считай, ходит, народ уж языки устал чесать. Главное, ведь не сказать, чтоб из себя видная была бабенка; жена-то, чай, подородней, красивее будет, – а вот возьми ты, нашел что-то в ней… Должно быть, характером взяла, гадали, обхождением: характером ладная. Выездила жизнь. Мужики загадочно посмеивались: да уж у вдовы обычай не девичий… А бабы все за свое: иль уж бросил бы, что ли, жену-то. Один бы раз охнула, на том и делу конец. А то ведь каждый день. Так нет, он и там и тут хочет поспеть, все выгадывает какого-то, черт огроменный, сутулый! Да какоё выгадывает, спорили другие: дети держат. Их ведь двое, они отцу тоже не рукавички, с руки не сбросишь. А дом тот же, а хозяйство, а родня?! Не-ет, тут десять раз подумаешь… Знали все, знала и ребятня, при всяких разговорах крутившаяся подле, – одна только тетя Валя будто ничего не знала, веселая такая и ласковая всегда, безмятежная…
– Дурь ей надо выбить, такой жене, – угрюмо сказал кто-то, – штоб место знала. А то распоясались.
– Ну, у ней тоже свой интерес, – не согласились с ним.
– Не, я бабу не бью, – весело сообщил Погребошник. – Раз как-то вдарил всего, как раз после свадьбы нашей, спьяну… а у ней рука так и повисла. Как плеть. Неделю чугуны из печи таскал, кизяки носил, скотину ублаатворял, а потом думаю: ну их к такой-то матери, бить…
– Да у нас они еще ничего, с понятием.
– Это на какую напорешься…
Студеникин как не слышал всего этого: доел, кружку родниковой водицы зачерпнул из бочки и сидел, попивал, поглядывал окрест. Никакого чая тут не признавали, кружку холодной воды наверх – и пошел.
– А вот молодяку нашему, Мишку вот, своих не надо, с Николаевки хочет брать, – сказал дед Трофим, кивая на соседа. На парня оглянулись: что, правда?
– А что ж! – независимо сказал Мишок.
– Чем же свои-то не угодили? Иль не так устроены?
– Вот-вот… чай, тот же назем, тока издалека везен…
– Да-а… – махнул тот рукой с беспечностью напускной. – Пришлось так.
– Ну, раз пришлось, то носи на здоровье…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































