Текст книги "Новомир"
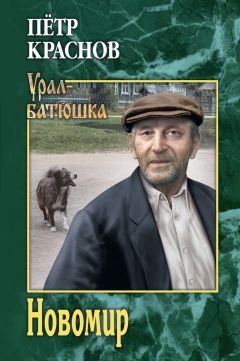
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 28 страниц)
Высокие жаворонки
Геннадию Хомутову посвящаю
Допахивали по окрестным полям зябку. Над опустевшей вконец степью все медленнее и неохотней разгорались студеные зори, уступая место затем невнятным и гулким осенним дням, ожиданию большому, долгому. Высились молчаливо по дорогам стога, устилая далеко вокруг себя землю светлой, еще не потерявшей блеска соломой, и от нее исходил, приманивая стаи перелетных птиц, сытный запах жнивья, хлеба с пылью. Тонко, к близкой уже непогоде, стлался низом по пашне синий дымок от подожженных трактористами копешек, пластался недвижимо, и эта его тонкость, мглистость сама прозрачною была, и далеко виделось в ней, трезво в этой простоте последних дней, где ометы, голые берега речушки неподалеку, проселок, а за ним отчетливая зазубрина осинового колка на неярком вечереющем небе.
Сгорел, оставил сизую окалину из тучек широкий холодный закат, лишь в смутной щели между землею и быстро темнеющим небом тлела, теплилась еще багряная полоска, будто остывающая поковка в огромной сумеречной кузне степи. Неслышно промахали крыльями последние грачи, за увалами рокотнул одиноко трактор. Изредка покажется оттуда пыльное зарево его фар, скользнет далеко, свернется, и опять порастет тишиною степь, до весны. В предночной, прозрачной еще мгле все брезжили, все бродили, казалось, полевые какие-то тени, свои, привычные и не опасные вовсе; будто кто ходил, отрешенный, окрест, искал растерянное великолепие юности и силы, тепло прошедших давно июльских ночей, бледный предрассветный туман их в затравевших балках, павшую с неба росу – и не находил. Ничего не осталось, один тонкий пронзительный запах отваленного лемехом пласта, тленный и бодрящий одновременно, с пожнивным дымком пополам, сухой один прах травы, безвестность и во тьме, уходящей ввысь, тяжелые, скорее угадываемые, нежели зримые, валы ночных облаков с глубокими загадочными проемами чем-то едва подсвеченного неба.
За полночь его расчистило, тучи отошли куда-то, проглянули звезды. Ощутимо креп, наваливался холод, ни минуты не давая соснуть у недолговечного костерка, заставляя носить от омета, то и дело подкладывать солому; а ближе к рассвету незаметно как взошла та звезда.
Низкая, поздняя, она встала на проступавшем понемногу востоке, над степью, опустелой без трав и тепла, пологой и молчащей. Может, была это не звезда, а планета, он не знал. Она ясно видна была в раннем, сухом от ночного заморозка воздухе и не мерцала, а далеко и чисто светилась, оставаясь сама в себе, далекая. Не мигали другие звезды, редкие, крупные, по сторонам и над головой – обступили и словно смотрели, ждали чего. Все дальше становились видны, долго серели, серебрились крупчатым хрустким инеем склоны пригорков и пустых лощин, кроткая, скормленная скоту до корней трава, забытые в поле стога. Костерок его едва шевелился, веял иногда легким светлым пеплом соломы и будто засыпал, опадал в себя, скоро отдавая свой легкий жар пространству, седел. Река в плоских берегах угадывалась по темному камышу и смутно белеющему стылому туманцу там, внизу; ни звука, ни плеска единого не слышалось оттуда.
Не было кругом ничего, одно молчанье, ожидание высоких звезд, начавших уже редеть и растворяться в блеклой вышине, в прибывающем как вода свете. Лишь поднявшаяся поздняя эта не меркла, а наоборот, будто все наливалась, крупнела, далекая, сосредоточивала в себе весь скудный дольний свет и такое же скудное, случайное и на миг лишь вот обратившееся к небу внимание человеческое – и слыла, длилась там и не кончалась.
Видимая изо всех темных углов мира, она, казалось, не могла не нести чего-то всем единственно необходимого, спасительного, того откровения долгожданного, снимающего тягостные покровы людского недалекого сомнения, всяческого неверия, скудельных страстей. Она сулила, ободряла, крепила все надежды всех прошедших во тьме, она провидела все наперед и с улыбкой мудрости оглядывалась на такое окончательное, казалось бы, тягостное прошлое, теперь непременно подлежащее всеобщему и радостному исправлению, оправданию последнему и прощенью, – и чья душа и когда не отозвалась, не откликнулась бы с тоской на этот призыв, не поверила бы ее высокому обещанью?! Не было такой, не могло быть.
Он видел ее сейчас один, смотрел, все остальное беспамятно спало; а она сияла все холоднее, ярче, все распускалась и, казалось, уже вот-вот готова была означить наконец, раскрыть тайну рождения своего и появления на небосклоне, ту весть, которую должна она при своей несравненной яркости нести миру о мире и ему, человеку, о нем самом – но вот в какой уж раз обманывала, молчала…
Ей нечего было сказать кроме того, что она утренняя звезда, планета, и некого больше было спрашивать. Ничего не переменилось, ожиданье не сбылось, все осталось как есть, само в себе и при своем – полнясь только собою, своим. Ожидая, он знал, что ничего, никакой вести не будет. Сияла в который раз, слезясь, алмазно переливаясь, обманная звезда, не ведая даже и о себе; молчала степь, обобранная дочиста холодами, еще крепче заснувшая на рассвете, молчали увалы ее и мерзлая трава, лишь томительно долго, зыбко прибывало свету с востока – казалось, не нужного никому света.
Так зачем же, чего же он ждал?
Никто ему этого не скажет. День все ближе, звезда бледнее, скоро одна бледная искорка останется – и та растворится, истает, как и не было. Взойдет, будет день, трезвый от осеннего холода, за ним другие, так оно и будет все идти. Прожито уже много, время идет быстро, пора уже чему-то сбываться – чему? Замыслу жизни его, скатанной пока в неизъяснимый клубок, предназначенью, которого нет? Его нет, он это знает. От излишка жизни или от страха, но в это назначенье он верил когда-то, иначе смысла не было, не виделось; вот и теперь он остатком той веры будто еще ждал чего, больше, может, от себя, чем оттуда, с высоты, – что переменилось с тех давних пор, что он понял? Он верил, ждал, потом усомнился, жизнь, оказывается, мала для такого ожидания… и что он такое, кто?..
Никто ничего не скажет. Ты не первый и не последний, ты, кажется, хочешь сознавать все, вот и сознавай. Ни времени теперь, ни судьбы другой у тебя нет, не будет. Будет только то, что есть. Вот этот рассвет, в полный накал равнодушия звезда над ним и твой костерок на берегу, сдавленный вселенским холодом, больше ничего.
I
Незадолго перед тем, как ему появиться на свет, прошла война, самая большая из всех, какие были. На разоренной ею земле, где исковырянной с безумным старанием, а где обобранной до последнего, до нитки, оскудевшей людьми и хлебом земле жилось неладно, смутно. С трудом, будто даже с неохотой какой втягивались в другую, мирную теперь, но без перемен особых и вовсе не схожую с предвоенной жизнь, тянули и ее тоже, и все в гору, ломали день за днем работу, ничего пока не ожидая. Рассохлась вся, скрипела жизнь. Ее бы, как телегу, в тихую воду, на покой до времени, и чтоб стрижи стригли вечернюю небесно-пустынную гладь – а она все тащилась, скрипела.
Был дом, саманная в три глубоких оконца избенка с плетневыми сенями, темными и щелястыми, все это белой глиной, перемешанной с навозом, обмазано, все не хуже и не лучше соседского. Двор, унавоженный с лучших еще времен, зеленел и курчавился теперь муравой, никем не выбитой: приходила на него по вечерам их единственная корова и, загнанная в сараишко, дышала оттуда теплым, парным, и все вздыхала, неторопливо пережевывая, – степная была, неказистая коровенка, но старательная. Еще огород был с огуречником и запущенным садом калиновым, крапивой сумрачной, чернобыльником с полынью заросшим, молчаливым, что-то там водилось такое, что – никто не мог толком сказать. Рядом всегда, только подбежать, мать была, молодая и сильная, и отец, который победил на войне и все мог. Жили поблизости соседи и родня, каждый своей семьей и хозяйством, своими заботами. В конце длинной, с одною всего тележной колеей улицы текла в черноземных, понизу глинистых берегах речка средь лопухов, бунтовавшая каждую весну против своей кроткой участи; за нею через луга, через камышовые тинистые озерца старицы вставали степные продутые плоскогорья – взметывались и стелились, уходили куда-то на восход солнца, вольные, уходили далеко. От больших земель кругом и глуши сельцо самовольно разбрелось среди кустов и ериков речной долины, по протокам, по всей бывшей здесь когда-то уреме, а кое-какие улицы-порядки даже наверх выкарабкались, в большую степь, на ветродуй, терпеливо и одиноко снося там всякую, какую ни пошлет, погоду. Редкозубые порядки, где косогором, где ямою, вековая посередь них мурава, на задах кособокие кизячные скирды и навозные кучи, амбарушки, чересполосица огородов и голые, под высоким небом пустые пажити, поля кругом, еще одно людское гнездовье, угол земной, нет им числа…
Он жил тогда непреднамеренно, как трава. Пусть кому-то там другие места достались и жизнь получше – а ему вот это; сам он уже был, и оставалось теперь только жить и ждать, что будет дальше, в этом и состоял весь интерес.
По-нынешнему, они тогда сплошь нищетою были, только что угол имели свой и как-то еще умудрялись коровенку продержать, кое-кто даже пару-другую овец – да и то сказать, нищетою белый свет не удивишь. Жили, понемногу вылезали, выплачивали, сами плохо понимая, кому-то какие-то бесконечные долги, урывая от них что могли детям своим, и все было, худо-бедно ли, почти как надо, как везде, другого не было и пока не предвиделось. Что там ни говори, а в огне не сгорели, в воде не потонули – живы остались, интерес остался, мир вокруг простирался большой, надо было жить, ждать.
Но это все узнавалось уже потом, позднее, когда понемногу, словно из покойного, ничем не колеблемого туманца стали проступать, помалу проявляться первые разрозненные черты всего вокруг сущего – ничуть не странные, разве только любопытные ему, будто он уже готов был к ним бессознательно, знал их раньше и вот теперь вернулся, надо было лишь припомнить все получше, привыкнуть опять. А в самом начале перед тем существовало одно только живое безвременье, ощущение только того, что ты был и есть, безраздельно один пока. Еще мир не создан, ничего, кроме тебя, нет, лишь смутное светлое, теплое пространство твое малое, полное живым, это и есть живое ты. Начала этому безвременью нет и не может быть, ты есть и был всегда. Что-то там такое за пределами твоего делалось, крушилось и вновь отстраивалось, готовилось к тебе, ждало и опять с громами великими и суетой перестраивалось, будто недовольное сделанным для тебя, недостаточным, – а ты невозмутимо жил всегда, безраздельно один-единственный, замкнутый в свое теплое живое, и никакие там катастрофы и бедствия жестокого мира извне не могли разрушить, вдруг прекратить твое такое слабенькое на первый взгляд существование, были бессильны против тебя и твоего появления в нем.
Но, может, мир, в котором предстоит тебе жить, вовсе не где-то вне тебя, в другом каком-то измерении, а в тебе самом – еще не развернутый, в исчезающе малую точку, почечку собранный либо равномерно разлитый в небольшом твоем единственном существовании, и ему надо лишь стронуться, прорасти тьмою корешков, во что-то никем не предвидимое развиться, совсем, может быть, и не наше нынешнее, нездешнее, кому что на твоем месте на долю выпадет?.. Может, и так, разницы нет. Всё, все времена там, даже еще только грядущие, с разъятыми ликами; вся небывальщина, какая будет, все чреватые мирами сны, купола тьмы, тьма, где нерожденное и где былое и где то, чему не сбыться никогда…
Как бы то ни было, ты есть. Можешь сколь угодно долго ждать, это ровно ничего не значит. Ты единственный, один такой, и в мире тебя, пусть мелькнешь ненадолго, не заменит ничто. Не он тебе, а ты ему нужен, необходим, вот пусть и ждет, в этом первая твоя и, может, последняя власть над ним, право. Все остальное не от тебя, от него. Впрочем, и сам он не волен в своем законе, сам царствует в цепях, плодоносит плача и со смехом хоронит, днем будущим, безвестным живет, не жалея нынешнего, у себя крадет, себя умаляет… Истина же одна – ты должен сбыться и сбудешься.
В какой-то момент безвременья свернутая в точку эта спираль начнет медленно, неуловимо как раскручиваться, стронув самое время, раздвигая пространство собою, расширяясь… Что-то, навек уже потеряв покой, станет расти в тебе и расти, обновляя самое себя и накапливаясь, безудержно, подчиняясь только себе, силе неостановимой, необратимой своей и больше ничему; и проступит по сторонам, забрезжит свет, какого еще не было, – посторонний, чужой, такой отличный от внутреннего твоего, что первым твоим чувством будет желание укрыться от него, холодного как вода и неспокойного, не существовать так – а как?! – даже запротестуешь, и с этого протестующего крика начнется твоя другая жизнь.
Самый трезвый на земле и близкий с жизнью человек, бабка-повитуха, повидавшая смертей на своем веку и сама рожавшая не раз, перекрестится, что обошлось, слава богу, все хорошо, опять вот мальчик, не к войне бы только, что-то в последнее время урожай на парнишек… Порадуются на тебя все, кто рад будет; другой, смотришь, вздохнет: еще, мол, горюн один народился – в скорби начиная, скорбью кончит. Такие всегда найдутся, не без них, и есть на свете печаль. Но что бы ни думал, как бы ни рассуждал кто, ничего в самой твоей жизни от этого не убавится и не прибудет. Ты, как прежде, есть, живешь, что-то новое проступает со всех сторон, смутное пока, какие-то светлые движущиеся тени; само движение это, до сих пор незнакомое тебе, непривычное, привлекает, еще не пугая и не радуя. Движенье теней, время от времени голод, невнятные грубые и гулкие звуки где-то высоко над тобой – и среди этого большое и свое, теплый запах его знакомый, тоже гулкие, но успокаивающие толчки материнского сердца, которые ты знал всегда.
II
Бесконечным было уходящее самое в себя небо, кипенно-белые высокие, праздничные по какому-то случаю облака в нем, а чуть выше всегда солнце – то маленьким слепящим ободком, налитым ярью, плавилось, мнилось глазам, а то напрочь исчезало там в нестерпимом своем свете, и однажды он, желая что-то в нем понять, так насмотрелся на него, что даже плакал от рези, от боли тупой в глазах, и мать настрого запретила делать это, отшлепала всего. Солнышко глядело теперь на него сверху и припекало, донимало, вниманье на себя хотело обратить, а ему было нельзя. Не пристало, видно, человеку на такое смотреть, не человеческое это было дело, и он, как все, не глядел теперь, оберегался, разве лишь покосится когда. Потом оказалось, что вовсе не обязательно на него смотреть, обходилось так.
Зато можно было глядеть на все другое, многое взамен, которое, казалось, с лихвою возмещало первый убыток этот – уже и не помнилось, и не было вроде никакого убытка. И он глядел и помнил, каким все новым было и молодым, даже и старое. Широкая и ровная, в отличие от других сельских, улица досталась ему, с поля огражденная где взгорками ковыльными, где пойменной высокой зарослью с тяжелыми горластыми грачами, с огородными полянами тихими, открытая к реке. Ветлы, с ними тополя вставали на задах, и высоко тоже возносились меж них проемы, столбы сквозные воздуха, к самым вершинам, вечно лепетавшим, и дальше, пронизанные то светом косым, то дождями, осенью просторные, пустые. Вроде близкая, только не достанешь, соломенная крыша избы, другие крыши, скворечник одинокий на жердине у соседей, колодезный журавель с деревянной серой, обглоданной непогодами шеей, живущий в высоте своей, но доступный людям, до костяной твердости захватанный их руками там, наверху, – все вверх лезло, хотело вровень с облаками, плыть с ними, но тут же и выдыхалось, совсем недалеко от земли выдыхалось, останавливалось, бессильное, крышами закруглялось. Какой-то предел там был; вроде б нигде и не видно было его, а туда не пускал. Птицы – и те с видимым трудом превозмогали его, да и то невысоко; лишь коршуны из них одни, зловеще отдаленные, отрешенные от всего, были там свои, стерегли высоту и безвозмездно за это парили, иногда вовсе пропадали в ней, совсем отдаляясь, ничто другое так не могло.
И тогда, видно, желание, обессиленное этим запретом, начинало, как слабое растение, другую свободу искать, посильную, куда бы можно простереться без помех и напрасных надежд, снов от веку пустых, и находило наконец ее – стелилось вдаль.
Он помнит эту даль прежде себя. Так ему кажется, верно, потому что он знал ее в себе всегда, во все свои времена. И она не была всего лишь пространством, где жило, размещалось все, а значила гораздо больше, что именно – он до сих пор толком не знает. Она была больше самого пространства, вот в чем дело, и воздух ее синее, запредельнее окоем, а свое ближе, человек сам себе понятней, ближе. Что-то неназванное жило всегда в ней, вовсе не Бог, не гений какой-нибудь мест, нет – он сам. Он был там, хотел быть там везде, это и называлось далью.
В любой она стороне сквозила, напоминала о себе, равно в какой. Рукой было подать от глинистой завалинки избы хоть до берега речки, всего каких-то пять-шесть дворов, можно бегом, босиком по кроткой прохладной мураве; а там, оставя понизу речную пеструю в бегущей мелкой воде гальку, перешагивал сразу взгляд на ту, другую сторону, где простор травяной до самых гор, зацепиться не за что, одни кулижки камыша на озерах, не видных отсюда, и татарник раскустился вовсю. Большой получался шаг, летящий – и вот, как стеной взгляду, сами горы, подножия их зеленые, только трава все бедней с высотою и заметней белый крап камешника в промоинах, в потеках глины и бог весть какими переменами занесенного туда гравия, обкатанной гальки. Идут вверх, заманчиво скругляются на лбах, там широкие ковыльные вершины скрыты высотой, вольные, – а уже в проемы распадков другие отгорки видны, увалы пологие, синеются от глубины воздуха, невесомой толщи его. Идут, подымаются, и вот синяя совсем, последняя, маревом поразмытая гряда, за которой одно только пустое, безмерно далекое небо встает – и больше ничего. Одна только даль, светлая тоска простора, такая, что сердце просится туда – заполнить собою и навек остаться там, везде, чтоб не было так пусто и вольно там без тебя и не звало, не щемило бы напрасно свободою своей и светом…
Как нигде, проста и высока там жизнь – дыши, смотри и думай, память с тобою и никто не помешает. Высокое небо еще выше оттого, что мелкое, скученное внизу осталось; двадцативерстный размах, даже ветер теряется в нем, свет распыляется, бессильный все охватить и проникнуть, дымом висит, частями – то над клочками паров, то над хлебами серебристыми, растущими терпеливо, позабытыми на время людьми, над колками, затерянными по склонам и логам, темными их полосками. Огромными от облаков тенями движется свет, оголяет, озаряет как в напоминанье одно, наползает на другое; бегут тени, играет, вспыхивает неярко свет разрозненный на чем ни попало, и все меняется беспрестанно, плывет вместе с небом, в движении, конца-краю ему нет. Гонит и гонит ближним ветром теплый дикий ковыль на взлобках, это рядом; а другие, дальние, осинники волнуют и хлеба, торопят, тянут за собою медлительные облака, загромоздившие горизонт, треплют, понуждают к степному, мимолетному хотя бы дождю светлому – так нужен всегда он здесь, кстати всегда.
Высокая, будто воля, неопределенность была во всем, неприкаянность жизни – иди куда хочешь, живи как знаешь, гулкое поле перед тобою, заоблачный свет далекий, полупасмурный, беглый на всем, время как воздух течет, и ты среди этого, один-единственный, как прежде. Но нет уже покоя, нигде. Не взглянуть на солнце и не найти покоя, и так жить, маясь свободою своею, не зная, куда ее деть – когда вроде бы воля вольная каждому, а по-своему нельзя, не выходит. Но жизнь милосердна, и скоро забудешь про все это, про обещания высокие, какими дарила она тебя поначалу, сулила; одна, может, невнятная тоска временами найдет, накатит волною над неизвестно какой глубиной, смятение какое-то и сожаленье себе, непоправимому, – накатит и вроде пройдет, отпустит, а все так и останется. Редкая она гостья, неохотная, слава богу, и чаще всего навещает отчего-то здесь, наверху. Вдруг увидишь, где ты был, жил во всем и душа твоя где селилась наравне с травкой, с ковылем, сухим от единственной страсти выжить, с облаками, вечно плывущими, и купами дерев дальних степных, тенистых теперь уж для других, – знай, это она. Если бы частая – привык; в том-то все и дело, что так и не успеваешь к ней привыкнуть.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































