Текст книги "Новомир"
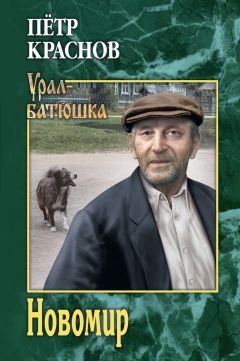
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 28 страниц)
11
Она не знает, откуда эта печаль – такого тонкого, серебрящегося на всем, как от молодого месяца, налета. На всем, будто прощается она с прошлой всею жизнью своей – ставшей наконец былой. До сих пор ни разу еще она не чувствовала такого ощутимого и много, слишком для нее много значащего то ли разрыва, то ли, наоборот, узла этой своей жизни, самого времени ее, веревочки той крученой, спряденной из несчетных ниточек разных, пестрых, памятных и забытых напрочь, важных иль вовсе пустяковых… ну, отъезд из дома, да, учеба, работа потом, но это не меняло одиночества ее, пусть одинокой, но центральности на белом на свете этом, она и слов-то не найдет, как это выразить. И вот не то что прервалась, нет, но словно не в плетенье, а в узел все, перехлестнувшись, спуталось и связалось, сошлось и стянулось враз, и уж не скажешь, будет ли виться дальше или так и пойдет узлами… И все прожитое ее, все такое долгое, непростое, как казалось, и так ее волновавшее еще вчера – все на самом-то деле лишь приготовлением обернулось к тому действительно нелегкому и как никогда серьезному, что ждало ее не сегодня-завтра.
Она и хочет этой серьезности и окончательности выбора – не понять, то ли ею самою, то ли бог весть кем и как за нее сделанного, – и боится, себя боится, что не справится… не она первая, конечно, не последняя тоже, но отчего печальна радость ее, неполно счастье? Одно дело – эти нелепые, страшащие неизвестностью времена, готовые – она чувствует это – вломиться и в ее малую, самую что ни на есть личную жизнь и ничего не пощадить в ней, раздавить и надругаться над всем, как только что нелюди те хотели – ни из-за чего, беспричинно, просто злу себя девать уже некуда… Но есть, видно, и что-то другое в счастье людском, какой-то покор, изъян изначальный и, похоже, неисправимый, та самая неполнота, да, какую человек начинает понимать лишь тогда, когда счастье непутевое его, неверное сбыться пытается, утвердиться на слишком шатком для него человеческом основании…
Она пробует думать обо всем этом, механически сверяя по журналу результаты анализов зерна по последним наконец-то в этой поставке вагонам, принятым уже в выходные дни… опять все то же! Партия зерна формально одна, а разнос данных по качеству такой, будто там, в Новом Орлеане том, элеваторные силосы зачищали, всякую заваль, поскребышки из разных партий в общую кучу смели и России, дурехе, толкнули, сбагрили… Почему – «будто»? Так оно и есть почти, не понимать этого, не видеть – это если только очень захотеть. Уже и хлеб нам пытаются подменить, свой растить не давая, на фураж, как скотину, хотят перевести. Двое из хлебной инспекции еще месяц назад были, в самый разгар поставок: контрольные анализы заставили сделать, повозмущались, акт составили – и с тех пор молчок, как будто ничего и не было… В комитет безопасности бы данные эти, или как там их сейчас, – но, по всему, никакой этой самой безопасности уже нет, все продались, уже и шпионов-то повыпускали…
Девицы гонят анализ образцов, верещит то и дело лабораторная мельница, через открытую дверь в кабинетик ее слышно, как тарахтит опять о чем-то сипловатым своим голоском Нинок, рот не закрывается, и вторят ей короткие смешки подружек… Или в газету бы, тому самому Ивану. Она забыла его фамилию, зато не надо, не приходится вспоминать другую… Бог ты мой, неужто свою?! Поселянина, Любовь Ивановна, любить прошу и жаловать. Не требую, не вымаливаю – прошу, больше ничего и не надо бы.
Этим американским, она знает, еще зимой кормили несколько промышленных в области городков, соседний мелькомбинат расстарался, а теперь вот и мы – опыт переняли, передовей некуда? Похоже. На американцев злись не злись – смысла нет, попались им дураки – они и сплавили. Если бы дураки, Леша говорит… Те, кто контракты с нашей стороны подписывал, – те либо за взятку, подонки, либо на пересортице и цене по всей этой цепочке получают. А скорее всего и то и другое, без договоренности американцы на такое бы не рискнули, по суду если – карманы им вывернуть можно… Свои, тут и к бабушке ходить не надо, это-то давно ясно; только почему она думала, что начальство их заводское к этому отношения не имеет, не в доле? По инерции старой – что, мол, приказ есть приказ, а тут еще и политика, дипломатия? Какая такая дипломатия, если у главбуха и «волжанка» откуда-то новая, и квартира, по слухам, наново отделана тоже, а на сынка кооперативная прикуплена – с какой зарплаты такой? Это не с малосемейкой у нее: и нужен бы ордер, на птичьих же правах, как студентка, и брать нельзя, зазорно…
Разворовано все, продано кругом, а если еще остается что неприватизированным, нерастащенным, то, может, лишь потому, что невыгодно им это пока или по какой-то еще причине невозможно… глаз, может, положил кто из матерых и лишь дожидается, чтоб совсем уж по немыслимой дешевке хапнуть, та же пересортица, только финансовая, такая ж гнусная. И у них к акционированию завода готовятся, все впотаях, в неясностях и неразберихе нарочитой, а златые горы уже сулят, только проголосуй. Кваснев и ей квартиру пообещал таровато, для начала однокомнатную, мол – жди, получишь… И все молчат: и кто навар с этого дурной имеет, дармовой, и кто руки не марал… нет, все мы в этой грязи вывалялись, успели, хоть с одного боку, да замараны – по всей стране, слышно, такое, всем куски пообещаны. Вот и их, заводских, тоже сманивают, уже тем даже, что зарплату с премиальными вовремя выдают, как мало кому в промзоне, в городе всем, а там, дескать, и дивиденды будут, индексация. Один из главных тут элеваторных, хлебных узлов державы вчерашней, и большие, то и дело угадываемые махинации здесь творятся, властями губернскими покрываются, и для хозяев фонд зарплаты их, работяг, в деревянных – сущий пустяк…
Главное, ведь не боятся же никого, думает она, выйдя в лабораторный зал и дверцу стеллажей открывая, где хранятся до сдачи в архив все отчеты, переписка, те же лабораторные журналы по качеству: приходи сюда вот да в бухгалтерию еще и бери все данные – если знаешь, где и что брать. По всем партиям зерна, муки, круп, по каждому вагону даже; и кому, каким качеством и по какой реальной цене отпускались они после фиктивной подработки-очистки, подмола, после всяких усушек-утрусок… А кого им бояться, себя? Нас, безгласных?
Надо бы посмотреть, сколько всего с весны приняли местного, своего зерна, – но что-то не находит нужной папки. На среднюю полку заглядывает, где всякие рабочие, нынешнего дня, бумаги – тоже нет…
– Ты что там, невинность потеряла? – слышит она квохчущий от наслажденья голос Нинки и следом недружный, в пол-охоты смех своих дев; и шуточка эта, какая давно уж у них в ходу и поднадоела порядком, вдруг нежданностью своею и откровением беспощадным сражает ее, до болезненности, плечи заставляет вздернуть… ну, потаскуха! Не оборачиваясь и не отвечая, снимает первую попавшуюся папку, листает для виду – акты списания какие-то – и возвращает на место; и только потом оборачивается, сосредоточенно и сквозь них глядя, вспоминает: у нее на столе скорее всего, брала же недавно. Завалили эти бумаги, разгрести бы. Ищет затем глазами и находит в углу, у лабораторных весов, Катю, кивает ей на дверь кабинетика: зайди…
Шутку эту, как и многие прочие приколы, пустила в оборот Натали – Наташа Хвастова, смазливая стройная девка, на каких оглядываются на улице и подчас не шутя приглашают в рестораны, все как один дорогущие теперь, не про нас; по типу, впрочем, она скорее девушка для бара. Из семьи образованной – из губернского полубомонда, как презрительно отозвалась она о предках своих, – остроумная, циничная и частенько беспричинно злая, она больше всего дорожила, похоже, свободой личного своенравия. Окончила в прошлом году физмат, но в школу или еще куда по специальности не пошла, сразу: «Еще я этих поганцев не учила… разумное, доброе, вечное им? Самой не хватает». Придя чуть ли не через бюро трудоустройства сюда, от блатных всяких мест отказавшись, зарплату свою невеликую подняла до символа независимости, хотя от папы-мамы на карманные расходы имела, по словам ее, раза в три больше – «но кто-то ж должен не воровать, а зарабатывать…» Работу свою, правда, без погонялок исполняла, из самолюбия, может; иногда увлекалась даже, подстегивала других – чтобы потом с полным правом вытянуться наконец в единственном затасканном, какими-то инвентарными судьбами заброшенном сюда кресле, закурить ментоловую:
– Шабаш, девы, опускай подол!..
Одна теперь Катя осталась, если на то пошло, девой у них, умница, но очень уж смирная, с родителями переехавшая недавно из Казахстана… да что переехавшие – бежавшие, считай, от дичи тамошней и безнадеги, от «суверенов», какие во вшах уже, туберкулезе и сифилисе сплошь, но злобы непонятной и гордыни – через край. Тут еще жить можно, а там развал полный, все кому-то распродано, с работы не спрашивая выгоняют, русских первыми, и никаких тебе компенсаций, никаких законов; и однажды добавила даже, голоском дрогнувшим: «Нурсултан поганый…»
Остальные же, кроме нее да еще замужней Людмилы Викторовны, старшей лаборантки, к мужчинам приставать не стеснялись, хоть впустую, а пофлиртовать, интерес был чуть не спортивный. И, конечно же, настроение своей – дурацкое слово – шефини углядели вчера, на это они скорые; зубоскалили, будто вправду чего знать могли, хором – при дирижерстве Натали – нестройно пели, неумехи, допотопное:
Сирень цветет,
Не плачь – придет…
Но хватанули дружно:
Согнет дугой —
Уйдет к другой!..
А потом переключились, опять же по наводке весь день отчего-то озлобленно-радостной Хвастовой, на Катю – с советами, как совращать мужчин, пусть и женатиков, неприступных вроде на вид, даже дурачков, сухарей нецелованных: «Главное – провоцировать их, этой самой… телой. Они ж сволочи все, наши мужички некондиционные, рано или поздно – клюнет… А если на целку еще!..» Нинок сказала это, впрочем, с оглядкой на шефиню, ласково, даже елейно, предпочитала не зарываться и без нужды не конфликтовать.
Натали же с неразборчивостью дворняжки, все-таки удивительной в ней, таскалась по барам и явным притонам, вязалась со всеми и со снисходительной о том усмешкой рассказывала по утрам, всякий раз в холодное недоуменье приводя ее этой спокойной своей и бесстыдной откровенностью, даже сочувствие Нинки вызывая, знающее: «Ох, нарвешься!..» – и единственное, к чему неравнодушна была, так это к детям. Их она ненавидела искренне, не скрывая тоже, всех и всякого возраста. И, может, причиной тому были два аборта, один недавно совсем… да и бессмысленно было искать их уже, причины.
Зимой пришлось взять под защиту только что принятую Катю, с румянцем прозрачным и еще детской, пунцово-ломкой пленочкой на губах, хотя уж за девятнадцатый пошло. Со всеми договорившись, конечно, Хвастова – это из кабинета слышно было – начала первой: «Залезет мужчина и… не миновать». «Не миновать», – подтверждали другие, а какая-то хохотнула, прибавила в рифму… «Из лесу донесся девичий крик, тут же переходящий в женский…» – это опять Хвастова. И раз так, и другой-третий, не обращая внимания на мягкую, урезонить их пытавшуюся Людмилу Викторовну, – кто проникновенно, кто с угрозой, но все с обещаньем: «не миновать!..» Работы по горло, отчет надо сдавать, а тут дурь эта, примитивщина… Вышла к ним, увидела то красневшую, то прямо на глазах бледнеющую Катю и Хвастову рядом с ней, всю эту свору сучью с блестевшими глазами, разохотились, бросила с досадой: «Перестаньте же!..» И не выдержала, проговорила той в наглые, усмехающиеся своей забаве глаза: «Прекрати, ты!..» «Пож-жалуйста, – покривила своевольные губки Натали. – Но называйте меня на „вы“ – всегда, везде». Взяла ведерко для образцов, щуп, куртку прихватила и демонстративно вышла.
И что вот им скажешь, распустехам, пролетаркам этим, что с них возьмешь? А сказать надо. «Были наташи ростовы, теперь – хвастóвы… – Она выговорила это им, молчавшим, и ее передернуло, невольно, со злости даже ударенье в фамилии переменила той, свихнутой. – Совсем уж, да? Развели тут, как в борделе… хоть бы ее постеснялись, что ли, – посмотрела на Катю она, и та румянцем опять залилась, уткнулась в свои весы, к которым определена была. – Не гляди на них, Катюш, не слушай, они и сами не разумеют – ничего…»
Хвастовой, конечно, тут же передали все – и та, как это ни странно было, оскорбилась смертельно… А на что ж ты, дура набитая, рассчитывала? – хотелось спросить или сказать ей; но все это не имело, не могло уже иметь никакого смысла. Тут все было за его, смысла, пределами – в том числе, оказывается, и желанье Натали выскочить замуж, как поведала по секрету всему свету Нинок. И она даже улыбнулась, уточнила: «За бизнесмена, конечно?» «А кто другой прокормит, пропоит такую? – по-пролетарски рассудила Нинок. – Ясно дело. Только, говорит, мелкота идет какая-то… без размаху». – «Ах, ей еще и размах нужен?» – «Само собой. Или иностранца, долбака какого-нибудь. Но те, говорят, жмоты. Да и нету их тут, считай, не подловишь…» Было разочарованье даже: с таким набором – и оскорбляться?
Но нет, тут, похоже, все глубже было, запутанней: и оскорбленность, перешедшая в Хвастовой в бледнеющую иногда, но внешне бесстрастностью прикрытую вражду – какую шефиня, впрочем, разделять не торопилась, глупую; и совсем уж не гигиенический набор этот, под которым чем-то вроде основы положен был, оказывается, еще не остывший труп страсти к неведомому девам-девкам однокашнику, проговорилось в Натали пьяное на недавней, по весне, вечеринке, юбилей сорокалетний справляли Людмиле Викторовне… трупный яд, да. Осудить легче всего, особенно при невозможности понять. Весна, да, щепка на щепку лезет – и каждой щепке, как себе ж присовокупила Нинок, хочется счастья…
А ей нужно ли, Наташке, это счастье, хоть какое-никакое? Да ничего уже не знает она о нем, сдается, даже и знание изначальное утеряла, всякое представленье о том, что такое это и для чего оно человеку. Счастье удовольствием заменила, вот-вот, на удовольствия разменяла, на мелочовку. Для счастья душа нужна, а не тело же одно только, и еще то, может, что люди называют идеалом, что-то на самом деле хорошее, к чему лежит она, душа. А утрата идеала, вдруг понимает она, означает потерю самой возможности счастья, не получается оно без него. Потому и маются так часто люди – не там ищут… хотя и телу свое надо, тут не поспоришь тоже. И уж помнит его всего, Лешу, руками помнит, губами впадинку ту у ключицы, запах его родной; и все в ней, кажется, сродниться успело с ним, и утром опять удивилась, что – свой, весь свой, как будто год уж прожили или сколько там надо для этого…
Ну вот, философию развела, а сама о чем? Бабы – мы бабы и есть, почти покорно думает она, и слово это еще задевает ее, но уж меньше… так ведь и привыкнешь. Объясняет Кате, как сделать выборку количества зерна, поступившего за лето от хозяйств, от американских паскудников за все полтора месяца тоже, суммируя отдельно, и как прикинуть по ним средние показатели качества… И смотрит в прозрачные преданные глаза девчонки и решает: нет, сама в бухгалтерию пойдет, как бы между прочим возьмет готовые сводные данные, тем более что с качеством-то Кате вряд ли справиться; а заодно о турецкой партии узнает, может быть, чего там по контракту ждать и сколько.
12
В общагу возвращаясь, еще в троллейбусе заметила двух женщин пожилых в платочках, под подбородок завязанных, непривычно, да еще и по жаре такой… ведь хотела же, думала, что ж ты?! Минутой не медля, вбежала к себе на третий, косынку рабочую нашла – единственную, малость пеструю, может, для церкви; темную надо купить, постоянную. И подвязала под стрижку и уж к зеркалу хотела сунуться, но остановила себя: не в театр, не о том думай.
На подходе к большому и еще не оштукатуренному, сумрачному оттого храму она все же перевязала косынку под подбородок. И от этого тревожней стало, неуверенней на душе; легкий вроде, шершавый чуть узел все время напоминал о себе и, казалось, обо всем, за эти полторы, две ли недели случившемся, мало того что грешном, но и непонятном, не понятом ею, она знала, как надо, как должно бы… что-то оставалось в осадке, как покойный Соломатин говаривал, и она не могла уразуметь – что.
Вечерня началась уже, во дворе и на паперти видны были нищие, местных алкашек больше, наглых, будто все права имеющих не просить даже – требовать, то и дело переругиваются меж собой, скандалят, никого не стесняясь… и бог с ними, им и рассказать-то некому, поди, кроме Него, что с ними сделала жизнь, дар этот, мучительный же… И перекрестилась, что не то, кажется, не так подумала; одной подала мелочь, другой и быстрей прошла в притвор.
Не много молящихся, по буднему дню, было в храме, в высоком сумраке его, десятка полтора если, два людей, небогато и в выходные, новый совсем приход. Она здесь в третий всего раз, да и всегда-то по случаю лишь в них заходила, в церкви, редко очень; но верить, как ей кажется, никогда не переставала, с тех пор еще, как выучила ее крестная, старшая сестра матери тетя Настя, рождественскому тропарю и «Отче наш» наизусть читать, когда на Рождество или Пасху славить еще ходили по дворам, класса до восьмого.
Но что к ее вере детской прибавилось теперь – неуверенности в себе? И за этим, за уверенностью в вышней помощи пришла сюда? Не только, нет. Ей нужна помощь, да, без нее сомнет ее чрезмерная эта и слепая сила жизни окружающей, окрестной, куда чаще злом исполненная, чем добром, больше случаем правящая, иногда сдается, нежели законом, и спасенья и убежища нет в ней, этой жизни, только бы перетерпеть ее, пережить.
Но она и вину чувствует какую-то, и не только за грехи свои, ведь и невольные же часто, прости Господи, от жизни этой непонятной и жестокой, то ли испытующей, то ли насмехающейся, если не сказать хуже, нищенки Твои тому уроком… вина за самою жизнь, что ли, за то, что живешь? Вина эта впрядена, вплетена во все ее существование, на всю глубину инстинкта и памяти родовой; но какая вина, за что мучает ее и к какому раскаянью нудит, что значит вообще она – этого вовек не понять…
За все вина. И без этой вины, подозревает или прозревает она, нет веры. Невозможна здесь без нее вера, не то что не нужна, но будто и необязательна, без того простят и спасут – либо погубят не спрося…
А как хочется, чтоб на одной лишь любви основывалась бы вера – но почему-то и на вине основана она, и на страхе…
И она молится измученно глядящей на них на всех Заступнице, свечки поставив, единственной молитвой, какую знает, хрескиной; неумело молится, крестясь и кланяясь тогда, когда все крестятся, чтобы простил Бог эту вину невольную, впотьмах о какую спотыкаешься, простительную вольную тоже, за себя с Алексеем и за всех, кого знает и помнит сейчас… и за дядю Степана, да, царство небесное ему, добрый и безответный был, никого не обидел. И за тех дураков бы помолиться, ослепших во зле, без поводыря и смысла бредущих по кромке воды живой бегущей, что-то большее даже, чем жизнь, сжигающих в себе; и хотя рука не подымается, но молится за них тоже, чтоб хоть на малость опомнились, оглянулись на себя… Видит, как цветут, сгущая сумрак вокруг, и трепещут от неведомого, откуда-то из-под купола, сквозняка свечи, слышит старого, еще более согбенного под епитрахилью батюшку, высокий с хрипотцою голос его: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром. Ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов…» – и еще с сомнением малым, но верит в это спасенье, иначе все теряет смысл. А смысл в любви, только в ней, все остальное лишь прибавляет что-то к ней – либо отымает…
И жила, ждала, не на дни – на часы считала, боясь, грешная, как бы не придрался к чему Кваснев, не передумал с отгулами. Сделала что могла впрок, все бумаги передав Людмиле и разъяснив, что к чему, чтоб не вышло без нее никакой запинки; и вечером четверга сбежала, как студенткой с лекций, на вокзал.
Дома только мать застала, и то на задах нашла, в огороде: «Вот уж не ждали, доча!..» Помогла ей с поливкой, во дворе корму свиньям, уткам-курам задать, скоро уж коров с пастьбы пригонят, а отца все нет.
– Так уборка же, – сказала мать. – Третий день уж как закрутилось. Он теперь часов в десять, не ране, так и ужинаем. За ним Вековищев как с обеда заехал, так и…
И нетерпенье углядела в ней и подумала, должно быть, что от возни этой во дворе, надоело, может, либо устала:
– Иди, от братка письмо почитай… на столе там.
– Прочитаю, успею… Как там он, Павлик?
– Дак армия… Пишет, что ничего пока. Паек не дают.
– Офицерские не дают?! Ну, охамели совсем… А на что детей кормить? Они ж ракетчики, огородов не разведешь в лесу.
– Да вот так… Кабыть зима – а то ни посылку послать, ни… К зиме думать надоть.
– Я это… к хреске загляну, дойду.
– Сходи, как же, она спрашивала.
Бесполезно все, думает она, разве застанешь его сейчас?.. Уборка еще эта – из-за суши ранняя такая, наверное, мигом вызрело. Но не представляет даже себе, как бы она ночь эту перетерпела, с ним рядом совсем – и одна, без него, не свидевшись даже, а он и знать не знает… А после ужина как уйдешь, чем оговоришь? Да хоть чем… не девочка, вот именно! Хоть к подруге, к Надьке той же, хоть в клуб, мало ль… Только замужем подруги все, считай, или в чужени где-то, да и призабыли друг дружку, а клуб сегодня открыт ли, нет ли… не с сопливками же на танцы. И не обманешь тем отца-мать, что-то да знают они.
Но все это думает она уже по дороге, к школе подходя, за которой дом его; а немного подальше крестной двор, и в сумочке конфеты для нее, любит почаевничать крестная. И ведь знала же, конфеты покупая эти, когда их понесет и как… Но нет, уж кого-кого, а крестную любит она, без гостинцев редко обходилась, и с кем если и секретничает, с девчонок еще, то с нею одной, матери куда больше стеснялась, чем ее… а что, если о нем спросить – с кем он и как тут?
И забывает об этом, за угол школы повернув: к старым воротам дома Осташковых приткнувшись, стоит «уазик» его… И дом тоже его теперь – малознакомый, очень смутно помнит она, что в нем и как, случайно и давным-давно в нем бывала и, конечно, подумать даже не могла, что может он стать когда-нибудь и ее домом тоже, на этой-то улочке зеленой и с крестной рядом… пусть будет, Господи, раз так! Спешит, на безлюдье улицы оглядываясь, на пустые окна: лишь бы один был… один? Ну, всякий зайти же может, не закажешь. Спросить бы крестную, да, а как?
Открыла калитку – скрипу в ней! – и вошла на широкий, где-то у соседских задов кончающийся двор со старыми тоже, из камня-плитняка, сараями. Из-под крылечка дворового, невысокого без лая выкатился песик, щенок еще совсем, и не успел испугать, закрутился у ног – как хозяйке обрадовался… А вдоль стены дома сложены свежие широкие доски штабелем высоким, под самые окна, и в стороне на кругляках лежали, отливали синим железом и, кажется, сварочной окалиной еще пахли новые ворота. Несколько грядок за ними с огурцами-помидорами, с зеленью всякой, водопроводный летник с краном, а дальше длинный, выкошенный уже и пожелтевший пустырь, рукам работа.
Песик тявкнул неумело, и она оглянулась и увидела его, выходящего из сенцев с термосом в руке… Отставил его и не по ступенькам, а напрямую перемахнул через перильца, подбежал, посмеиваясь обрадованно, обнял всю. Куда попало, в ухо поцеловал, дыша в него порывисто, сказал, лицом отстраняясь:
– Люба моя!.. Ты как сумела-то?!
– Сумела… к тебе ж.
– До понедельника?! – все удивлялся он и целовал, жадно почти, в губы, в шею жарко, так что не успевала отвечать она губами своими, задыхалась:
– Ага… Ох, мой… Лешенька!
И глядел на них снизу, удивленный тоже, щенок, то подымал ушки, то падали они у него, еще не держались, что ли.
– Пошли, пошли… Сторожи, Овчар! – грозно приказал он псине – так грозно, что оробела малость даже и она, безотчетно. – Гляди мне!..
– Почему, – перевела она дыхание, – Овчар?
– Ну, овчарка же, кобелек. Вот пусть и будет – Овчар. Овец только нема. Конуру ему сбить – и на цепь скоро, а то избалуется… Пошли!
Обнявшись, поднимаются неловко они на крыльцо, темными сенями проходят, старым деревянным духом их, в дом входят, в просторный пятистенок. И печь русская, и голландка в горнице убраны, полы и потолки заделаны после них, все наново покрашены – и потому широко, даже пустынно в нем… для жизни приготовленный, для завтрашней, да, а пока ждет. Мебели немного, подержанная и кое-какая, на первый случай, а чуть не половину глухой стены полки самодельные занимают, книжные, откуда книг столько?
– Вот она, житуха моя…
– А светлый дом, я даже не думала…
Осматривается, он ведет ее, в кухоньку отгороженную заглядывают вместе: двухконфорочная плитка, столик с раковиной, газовый котел – скудно, но терпимо. И говорят, торопятся – как вырывалась она, как в замотку уборочную вошел он тут, с места и в карьер, и временем как распорядиться теперь – их временем… И спохватывается она:
– Ты собрался куда-то?
– Да так, до комбайнов доскочить… успею. – Он в глаза глядит, рад ей, а она и своей, и его радостью тоже, руки на спине его сцепила, не хочется отпускать. – Вина б тебе – а нету, не успел запастись. Водка одна. И чай, в термосе только – хочешь? С конфетами?
– Ничего не надо, нет-нет. И так я, Леш, пьяна… тобою.
Она правду говорит, надышаться им, запахом его не может – и зарывается в нем, не то что хмельное, но темное что-то в ней, захватывает ее всю, это желание, да, и она не удивляется уже ему ничуть, не боится. И так целуются, мучают, ласкают грубо друг друга, что невозможно же – без этого…
– Дверь!.. – хрипло выговаривает она. – Дверь…
И время для нее совершенно непонятно тоже: то не течет почти, застаивается, нудной подергивается ряской, а то ускользает стремительно и неуследимо или вовсе провалами темными, не скажешь сразу – было ль, не было… Уже и закат сквозь простенькие занавески пятнает тускло-красным голые стены, одинокую на них репродукцию с шишкинской «Ржи», обои старые; она собирает себя торопливо, не забыть бы чего… себя не забыть тут, в доме этом нежданном, чужом еще для нее. Ничего, она сходливая, как бабы наши говорят, быстро с ним сойдется, с домом, руку свою хозяйкину окажет. И как-то легко, поверху об этом, обо всем другом думается – нет, представляется ей, думать совсем не хочется сейчас, да и сколько можно, и ей легко, а главное – не болит почти, слава-то богу. К зеркалу небольшому в простенке суется – и застает ее, слабую улыбку бездумности этой…
– На часок я, Люб, не больше. С Вековищевым повидаться еще надо, – говорит он из кухоньки, умывается там, фыркает. Председателя колхозного давно она не видела – такой же все хамоватый, самоуправный? А какой еще. И спешит к нему, у него ж дело. – Поужинаю заодно, на стане… шар-ром у меня покати.
– Не надо там ужинать, – говорит она, сомнение малое откинув. – К нам приходи.
– Да?
– Да. Мы подождем.
– Приду, – почти не раздумывает он, вытирает лицо, усы, полотенце не глядя вешает – на нее глядя серьезно. С лица у него сошло на удивление скоро все, а вот на сгибах пальцев короста, потрескалась и, наверное, болит; но не спрашивает она, напоминать не хочет – ни ему, ни себе. У матери бальзам какой-то лечебный есть, найти надо, чтоб на ночь привернул, не забыть… А он за плечи берет ее, привлекает: – Приду. Обязательно.
– Дай причешу тебя…
На минут пять всего заскочила к крестной, в щечку ее сухую морщинистую чмокнула, черствой землей, показалось, пахнущую, – Господи, неужто и сама такою станет когда?! – пакет с конфетами на стол: «Я завтра зайду, ладно? Наговоримся, успеем…» – «Уж ладно, красавица моя. На картошке, в случае, жуков этих собираю, басурман…»
Закат уже сник, когда и успел, пеплом нежно-сиреневым взялся, небо темней и словно глубже стало – и вечерница в нем, звезда ее… Не мерцает, как другие, нет – переливается алмазно сама в себе, в избытке света купается своего, ясности и силы, и нет, кажется, ничего ярче и пронзительней ее, даже светило дневное не сравнится с нею… ослепит, да, но не пронзит. Еще, может, лет в семь спрашивала она мать, молодую совсем тогда, это хорошо помнится, крепкую, хоть с вилами под стог, навильни тяжеленные наверх подавать, хоть саманные кирпичи делать-таскать, что за звездочка эта такая, яркая из всех; и та, глянув, отвечала: «Это, доча, либо вечерница… ага, она, завсегда такая. Как вечер, так она тут». И потом лишь, куда позже, Андрей Сергеевич, учитель-географ тот самый, легкий, стремительный на ногу, на отзыв, с чем к нему ни подойди, с каким однажды всем классом в поход отправились с ночевой, сказал, что – Венера… Что богиня, и не звезда вовсе, а планета, но какая разница. Лишь бы светила, звала, что-то обещая высокое, радостное и необходимое всем, всему.
Темнеющей улицей шла средь палисадников уснувших, уже светились кое-где окна за ними и пело где-то в переулке радио, что ли, что-то неразборчивое, протяжное… дома наконец она. Какой он ни есть, дом, не бог весть как устроенный, а свой, не в чужих хоромах по одной половице ходить, оглядываться. И город жалко будет оставить, не без этого, конечно; но вот что-то не сделали в нем, не удалось, чтоб по-людски. Вроде б каждый по отдельности человек – из тех, кого знаешь, видишь-встречаешься, – не так и плох, и не глуп, умных-то куда больше, чем на селе, не сравнить; а все вместе – стадо, и недоброе… Неразумное, и если бы только в часы пик.
С отцом, так получилось, несколько рассеянно поздоровалась, улыбнулась в довесок уже, хотя всяких нежностей показных в семье и так-то не водилось никогда; как сказать? И решилась, потому что мать разогревать ставила ужин, оттягивать некуда:
– Алексей придет сейчас… ничего? Поужинаем вместе.
– Дак, а… – Мать растерялась, даже руки опустились. – А что ж сразу-то? Не сказать-то?
– Да сама не знала, он же поздно… От крестной только застала, – и на мать не может смотреть, неловко – так помнит еще все, что в доме было, до мельчайшего, ей кажется теперь… – Подождем немного – ну, полчаса?
– Раз так… – пожимает вислыми плечами отец, он невозмутим. – Да-а, достается ему сейчас – за коренного… Себя забудешь. Што-нито собери, мать.
– Соберу, недолго… Это вы што ж, всурьез?
– Ладно болтать-то, – не то что рассердился, но прикрикнул отец. – Делай что велят.
– Да куды ж денешься…
– А мы яишню со сливками, мам, как ты делаешь… дай, я сама!
Пришел он даже раньше, чем ждала она, в свежей рубашке, с бутылкой водки и коробкой конфет – с неполным джентльменским набором, как сам сказал, посетовал, что нет вина в магазине; впрочем, и водку-то с полок убрали на время уборочной – а за каким? Это отец спросил и сам ответил же: все равно на нее денег у народа нету, а самогонка – она в каждом дворе, почитай… ну, через двор.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































