Текст книги "Новомир"
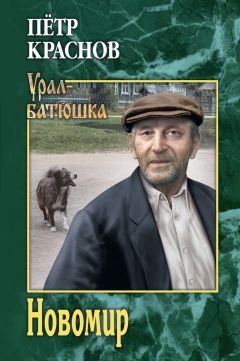
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
9
Он хотел ответить; и, видно, передумал, стал осторожно целовать ее в шею, в узкий, застежкой перетянутый вырез платья сухими и теплыми губами – осторожными, да, но ему и так, наверное, больно, а потому должна она… Она должна, да; и до виска его дотягивается, до уха, а руки его все требовательней, сильнее и уж не гладят – мнут истомно плечи ее, бедра, все в ней смещая к желанью, уж близкому очень, опасному, из которого возврата нет, не будет… И как будто ее не хватает им, рукам, и везде они, сторукие, всю ее забирают без остатка, клонят. Клонят, и она, голову его держа в ладонях и в волосы, чем-то еще речным пахнущие, целуя, подчиняется им, согласна с ними – так надо… и вдруг извертывается вся, вырывается, садится резко, с колотящимся где-то высоко в груди сердцем, невидящими глазами оглядывается в полутемной комнате, ища и не находя…
– Мне надо…
Но сама не знает, что надо, и он не помощник ей тут, это она еще понимает, растерянная совсем, встрепанная вся, наверное… Он на коленях у дивана, рядом, и по рукам, ее обнимающим снова, она чувствует, что нет, он не обижен, но что-то ждет от нее, в лицо ей заглянуть пытаясь… и что ему сказать, как?
И отвернувшись совсем, лицо скрывая, она чужим, подрагивающим и, вышло, строгим почти голосом говорит, что она не знает – чего она не знает?.. И что никогда… Еще ни с кем. Больше ей сказать нечего; и боже, сколько же пустоты за словами этими, стыда жизни, если даже и он, ощущает всею собою она, вдруг замирает на какой-то миг… замирает – верить или не верить ей, поднятым плечам ее, спине деревянной и этой, она не сразу сознает, все одергивающей платье измятое руке ее, перебирающей и одергивающей…
И верит, Господи, с такою нежностью он проводит по щеке ее ладонью, отводит волосы ей за ухо, так мягко лицо ее поворачивает к себе, ей веря, а не жизни, по задворкам наших снов шастающей, подстерегающей… Поворачивает, глядит снизу в лицо ей, и под глазами этими, добрыми, но и серьезными, она нерешительно еще съерзывает с дивана, на корточки тоже, к нему… Нет, на диван опять; она прячет лицо на груди у него, потирается, поводит им и слышит:
– Не бойся меня, – говорит он, – ладно? Верь.
Он говорит тихо это, одними почти губами, но она слышит и, прижавшись лицом, кивает ему в плечо куда-то, а непрошеные, ей самой непонятные слезы подступают, проступают из закрытых век, и она поспешно отворачивается, одной только щекой прижимаясь, чтоб, не дай бог, не заметил… плакса какая-то сегодня, весь-то день, что за день такой. Но что-то он все-таки почувствовал – может, резко слишком отвернулась, – губами нашел глаза ее, и слезы еще горше покатились, не удержать, но и освобожденно как-то, освобождающе, и как разрешенье, может, принял он это и расстегивать стал ее платье. Уже рука его, вздрагивать заставляя, на груди у нее, под лифчиком, шершавая и бережная, – сдвигает его, и под губами его жадными и боли уж, наверное, не чувствующими выгибается она к нему, обхватывает и прижимает к себе, и мучительное в ней и что-то сладостное стоном готово прорваться, еле сдерживает себя… Со вздохом огорчения, вот его-то не в силах она скрыть, опускается в его руках, откидывается; само будто собой гаснет бра в изголовье, а он над ней, губы в губы, дыханье ей перехватывая, и опять вздрагивает она, ежится под его рукою, ноги поджимает, коленки – и, опомнившись, вытянуться заставляет себя, всю себя отдавая, все. Верить, другого ей нет – ему, никому больше, его рукам бережным, знающим и для нее одной созданным словно, родным уже… Раздевающим, и она покорна им и только ловит губами, приподнявшись, лицо его, плечи, шею, тычется – лихорадочно как-то, не успевая за ним и в рукавчике путаясь, это от дрожи, не унять которой, вся ею дрожит она до кончиков пальцев, до отрешенности какой-то, будто не с нею это происходит… Не с ней – с ними, не разделить, ее ли губы солоноваты, липки чуть отчего-то или его, и где чьи руки, чья отрада подчиненья этого, согласия во всем и последней, ей кажется, свободы обнять и отдать.
И последним же – «Лешенька!.. Леша…» – усильем, инстинктом почти, трусики успевает нашарить в ногах, подсунуть – и все, и только руки его, губы, тяжесть его, покрывшая ее всю, с головой накрывшая, облегающая и родная, а то мускулисто-резкая… и руки, Господи, что они делают с нею, Лешенька, зачем?! Неутоленность свою, любовь свою к этим рукам куда деть, к родной тяжести благой и силе – обнять все, не отпускать, навек оставить с собою, себе… И боль – нежданная почти, стыдная, этой тяжести боль и любовь, это он, милый, и она не успевает губами, зубами схватить его гладкое плечо ускользающее, чтоб стыдное свое, стон свой удержать – врасплох боль…
М-мамочки!..
Боль-любовь распластывает ее, Боже, нескончаемая, как жизнь сама, и нет укрытья от нее, уголка даже под родимой этой тяжестью, под ним, собой укрывающим от всего, кроме боли, – и стон, чей стон этот глухой, его ли, ее? – и боль точками, песок словно втирают, вталкивают в нее… кто б помог, мамочки!
Время будто проваливается, а с ним и другое все; не сразу, не вот она спохватывается в нем, неуследимом, и паническое в ней… губы, где губы его, он сам?! Вот он, и то ль дыханье его, то ли стон хватает она, перехватывает ртом; и сознанье теряет почти от рывка его к ней, в нее – последнего…
Первое, что слышит она, начинает слышать – детский где-то на улице плач, достигающий через открытое окно; но, странное дело, равнодушной остается к нему сейчас – жалобному, с кряхтеньем каким-то беспомощным, – хотя всегда, с девчонок еще дергал он ее, где б ни услышала, впору бежать на него, к смеху нынешних подруг ее, дев-растопырок: «Твой кричит, беги!..» – не рада, что и сказала им об этом как-то. Они лежат, тесно – тесней некуда – прижавшись, лицом друг к другу. Он тихо, он просительно как-то целует в уголки губ, в подглазья и глаза ее закрытые, он прощенья словно просит, глупенький, – за себя, что ли, за родного такого? – но и боль не прошла, нет, а даже как будто, кажется, угнездилась надолго в ней, тупым чем-то… а может, мнительность это все, бабья. Господи, бабья… Все в ней от этого слова, перед словом этим немеет на мгновение какое-то долгое – радостное, нет? Женщина она, его женщина, насмерть все теперь, и не дай бог ей другого, не его – не дай и не приведи!..
А рука его по плечам, по бедру скользит ее, едва касаясь порой, гладит всю, везде, и уж ни дрожи в ней этой нету, куда-то ушла, отошла неизвестно когда, ни зажатости той, лишь желанье руки его и чтоб не болело, перестало.
– Какая ты…
– Хорошая? – говорит она шепотом тоже и удивляется слабости голоса, шепота даже своего.
Вместо ответа он не обнимает – обхватывает ее, и нет, ей кажется, частички в ней, клеточки, которая не защищена была бы его руками. Ей так тесно и хорошо с ним; но все равно хочется уже, чтобы опять он лег на нее – просто лег, прикрыл бы собой от всего, но еще стесняется сказать о том ему… не стесняется, нет, боль эта еще мешает. А он уже готов снова, ей и боязно, и почему-то смешно это, и радостно, он любит и хочет – хощет, вспоминает она слышанное где-то, читанное ли. И гладит тоже по лицу, целует и шепчет, не дождавшись ответа, – зная где-то про себя, что мужчине, может, и не надо этого бы говорить:
– Я тебя ждала, только тебя… всегда. Я как тебя увидела… Ты веришь?
Ей хочется это сказать, наперекор женским всяким хитростям и всему такому, а он поймет все как надо, она в это верит. И говорит, и в сумерках сгустившихся, уже ночных, скорее чувствует, чем видит что-то на лице его, на пальцах своих, что-то липнущее…
– Господи, кровь?!
Чуть не ужасается, чуть не клянет себя – как же забылось, что губы у него…
– Болит, миленький? А я-то дура… Глянуть надо!
– Наплевать, – говорит он блаженным голосом; а она, приподнявшись на локте было, вспоминает о своем, сама боль напоминает… подплыла неужто?
– Нет-нет, Лешенька… надо нам.
И в кухоньке темной своей нагая стоя, обессиленно привалившись к холодильнику и к грудям прижимая сдернутое с дивана покрывало, слушая, как он плещется там под душем, – она уж, кажется, ни о чем не может думать, не в состоянии охватить всего, что произошло сегодня… какой длинный, странный, к развязке всего забредший день – или к завязке? К ней, все только-только завязывается еще по-настоящему и все главное впереди, твои двадцать четыре тут лишь приуготовленьем были малым, посильным, ты так старалась вроде…
Нет сил уже, чтобы радоваться, исчерпаны они страхом, болью, радостью самой. Она думает, какой глупой была еще утром сегодняшним – давним, как, скажи, неделю назад. Каким все далеким стало: мальчик квартирный, мамаши-папаши, ордера. А важно лишь одно: любит ли? Ее не разуверить уже, как девочку, что этого нет ничего, мол, сексуха одна, увлеченья, которых чем больше, тем лучше; ладно, жены и мужья, любовники там, – а мать-отец, а дети, это не любовь разве? И у нее сейчас – что, увлеченье? Наверное; но не одно ж оно, и если она не знает еще доподлинно, то потому лишь, что и вопрос-то этот к себе и к нему преждевременный, может, не прояснено еще все это в том чуть не насильном, волокущем, как речное течение, влекущем потоке пяти-шести дней, встреч этих – всего-то!.. Сказали б ей, предсказали это недели две назад – не поверила, опечалилась бы даже, пожалуй, что такое невозможно… Нет, все возможно здесь, в этом спятившем взрослом, то и дело смысл теряющем мире, даже Бог сам возможен с чудесами, по морю яко посуху ходящий – с чудом какого-то смысла, который мы все никак не поймем. Он говорит: «любовь» – а мы?.. Ведь невозможно, тошно же, не любя, ведь сами знаем это – а делаем что?
Риторические фигуры, вспоминает она Славино, ироничное, каким осаживал иногда начинающую распространяться о нравственности мамашу. Фигуры – для прикрытья самооправданья нашего, лишь бы совесть заговорить, заморочить, стыд свой. И – вспоминать не надо – как заталкивал грубо Леша ее за себя там, на берегу, как глянул яростно, когда со страху не сразу, не вмиг она поняла, что за него надо… Но обрадоваться тому не успела, как полоса света с шумом водяным легла из двери; и она, какую-то еще минуту назад думавшая из кухни проскользнуть незаметно после него и запереться в ванной со своим, – она поспешила сама, встретила. Слишком поспешила, качнуло мгновенной слабостью, схватилась за плечи его, и он поддержал, нагнулся к лицу ее:
– Что, плохо?
– Хоро-шо…
Вся их она, эта ночь, ничья больше. Вместо ночника телевизор бормочет в углу, как колдун бессильный, в суму переметную витязем засунутый, пусть. Провыл за окном троллейбус – мимо, не наш, мимо. Закашлялась от коньяка и рада сунуться ему в грудь, а он пошлепал ее по спине, халатик после душа так и не дал надеть, и непривычно это так и не то что стыдно совсем уж, но… Пошлепал и, не выдержав больше, потянул на себя, и нетерпенье его передалось, хоть боязливое, ей тоже.
Но теперь он сдерживает себя, сколько можно, не торопит ее; и она смелеет, появляется свобода в руках, благодарная, и все внове еще, весь он сейчас новый в доступности своей для нее, как, верно, и она для него, и только желание в ней темней и осознанней, нетерпеливей, и он осторожней. Она б не поверила, не подумала никогда, что он может быть так нежен и уступчив на любое движение ее; хозяйка она – покорная, но хозяйка наконец любить и миловать всего, везде… но руку взял ее, положил тихонько – и страх, счастливый, сжал ей живот, дрогнула вся: мамочки, я ж не выдержу, умру!.. И спохватывается, что сжимает судорожно как-то, неумело, и что больно, может, ему – спохватывается в желанье, которому он дал время пересилить боязнь и уже истомить…
И тяжесть опять его, желанная, совсем-то не тяжкая, сладостно груди размявшая и всю ее; просительно-требующее это, с жестокой нежностью разнимающее на части какие-то несвязные, бредовые тело ее, душу, руки-ноги разъявшее, все-все; а следом страх и – опять – боль, перехватывающая все внутри, стыдно-сладкая, до сих пор чего-то всем нам не простившая, не оставляющая до конца… Жаркая, бесстыжая – животная ли, человеческая – истовость, вот-вот сорваться готовая в неистовство в нем, в ней самой тоже, когда б не боль… Но не от боли заповеданной, а от чего-то другого, от нехватки этого другого метаться начинает вся она, то прижимая что есть силы, обморочно тиская шею, плечи его, то откидываясь изнеможенно вся… что ж это такое, Господи, что за мука бездонная, безвыходная! И срывается в них наконец что-то, крушит все – и словно ввысь, стеная, взвивается, в черное, распахнутое для страсти и боли небо, и огненным в нем осыпается, рушится сором, не долетев, не дострадав…
Они сцеловывают пот друг с друга, даже тюлем не шевельнет на подсвеченном снизу фонарем, шторами полузадернутом окне – и не надо, потому что бережность какая-то в них и во тьме над ними, тонкая, оберег из молчания и слов, на человеческом языке непроизносимых, невозможных, и любой, кажется, шепот спугнуть его может, любой сквознячок вытянет, вынесет в ту беззвездно мутную над городом, страждущую в бессмысленности высь, и не сыскать тогда… Все, вся жизнь ее сейчас в нем и имеет смысл только с ним… какой? Знать бы, ведать. Ведуньей быть при нем, чтоб мужское в нем, мужественное зря не тратилось, на пустяки не исходило, не уходило бы в песок, во зло иль равнодушие, каким позахвачены все сейчас… мужчинчики эти, суетливые, как собаки на помойке, женщины с холодными глазами, сколько их тут… С ледяными, все замечающими, но не внимающими ничему, для которых что ты, что столб фонарный – все едино, и лишь иногда завистью обожгут, тяжелой, сумрачной, как подземный огонь, передернуться заставят, все на бабьей зависти здесь замешено, на прокисшей, тошной. А она завидовать не хочет, нечему завидовать в человеке. Ей свое бы найти и прожить – добром прожить, как на селе говорят, пережить, перетерпеть все свое, человеческое, справить перед людьми и Богом, дает который и спасает… у Леши спросить, он так ли думает, не зря же крест носит, не напоказ же. А можно и не спрашивать, она и без того почему-то знает, что – так.
10
Она провожала его с вечерним. Они вышли к посадочным площадкам, в бензиновую гарь, где бродили и перетаптывались сомлевшие от жары и ожиданья, немногие по воскресному дню люди. Автобуса еще не было; работал, как ни странно, газетный киоск, и он пошел глянуть толстые – так и назвал их – журналы, давно уж нигде их не видно. Она в сумочке копалась, в сторонке став, чтоб своим, сельским, лишний раз на глаза не попадаться; легкий, в зеркальце, марафет навела, глянула – он, к окошку нагнувшись, расплачивался, потом выпрямился, в нагрудный карман отстиранной и выглаженной ею рубашки бумажник засовывая, оглядывая с прищуром небогатую, из ближних сел, копошившуюся на скамьях под навесами публику пригородного вокзала, – и жаром охватило, радостью ее: мой!..
Шел к ней, свернутыми в трубку газетами похлопывал по ноге, прямой и в то же время в движеньях свободный какой-то, до пренебреженья ко всему, и ей верилось и не верилось еще в это… И на подходе вывернулась откуда-то, чуть не под ноги сама подвернулась цыганка, невнятное что-то спросила. «Бог подаст… цыганский ваш, – ответил он, не останавливаясь. – Пошла вон». Глянул – и та будто наткнулась на взгляд его, отпрянула, молоденькая, отвильнула к навесам.
У дальней площадки заканчивалась посадка в «пазик», скамейки освободились, и она показала туда глазами: сядем? Он вопросительно посмотрел на нее.
– Болит, – сказала она, улыбаясь ему и чувствуя улыбку свою беспомощной. Он, спиною загородив от всех, взял ее руку, не очень умело поцеловал, потом с внутренней стороны запястья тоже, подольше, и она задержала ладонь на щеке, на скуле его, твердой опять, опухоль совсем сошла. Повел туда, к скамьям, но из-за угла вокзала уже вывернул к площадке непалимовский автобус.
– Поселянин?!
Алексей недовольно обернулся. К ним поспешал, почему-то похохатывая и протягивая заранее руку, невысокий плотный мужчина в рубашке навыпуск, где-то ей уже встречавшийся… не в том же автобусе? В Лоховке, кажется, сходит всегда, где и студент.
– Едем? – Он кивнул и ей, как знакомой. – Е-едем!.. О, где это тебя?!
– У гдекалки, где еще… адрес дать? Ты что ж, друг ситный: ел, пил – говорил, а ушел – забыл… Комбикорм наш схарчили уже небось, а где пило, эти самые, материалы? Обещанные? В колхозе у нас ни щепки, в зубах ковырнуть нечем… где?
– Да понимаешь, ревизия тут, начальство… я уж вашему Вековищеву звонил. Будет! – Лоховский и не думал смущаться, все похохатывал, чуть не пропел: – Все-е будет!..
– Не завтра, нет – послезавтра посылаю «КамАЗ», с ним ребят пару. Покрепче каких. Скажу, чтобы на постой лично к тебе стали… они встанут, не сомневайся. У двора, в воротах, чтоб ни въехать, ни войти. И будут стоять, пока не загрузишь!
– Кхе-хе… Ты это, Алексей Петрович…
– Что, не веришь?!
– Ну уж нет… верю. Загружу. Готового немножко есть.
– И два рейса, как договорились, пилорама у вас новая. Одно дело – колхозное… но мне к зиме ремонт закончить надо, дома, кровь из носу. Мне.
– Понял, Алексей Петрович. Х-хе…
– Ладно, по дороге договорим…
Вот так, Поселянин. Какая неожиданная для нее, новая фамилия, она такой не встречала, не слышала даже никогда. Не спросила сразу, а потом уж и неудобно было, и невозможно… поселянка, вот так. Судьба.
– Кто это? – спросила, глядя вслед тому, поспешающему к автобусу теперь; всю жизнь такие поспешают, а вот успевают ли?..
– Да лесник с Лоховки… колобок. Ну, сам к нему поеду, не укатиться… Что, Любушка, идти мне надо.
– Иди, Леша.
– Нет, иди ты, не жди. Стоять тебе ни к чему. Я теперь буду ждать.
– Жди, Леш.
Он кивнул, посмотрел.
– Прическа тебе к лицу, – сказал негромко, улыбнулся. – Смотри не крась.
И повернулся, пошел, оставив ее почти счастливой.
Какие долгие шли, какие тяжелые на подъем дни давно перевалившего за свою середину лета – с серым от жары небом, с непрестанными, какими-то дурными ветрами восточными, басмачами. Рваными полотнищами полоскались над городом, над окрестной выгоревшей до полынной седины степью; на площадях хозяйничали, куражились, с угрюмым подвывом носились вдоль улиц, а то в смерчи срывались – и тогда взвихривали в воздух, вздымали тучи пыли, бумажной всякой и целлофановой рыночной дряни и мусора, сорили на головы безответных разбродных толп на базаришках и в комочных рядах, и некуда деться было ото всего этого, спрятаться.
Никогда он еще так запущен не был и замусорен, этот город, – с ветшающими, а то разваливающимися прямо на глазах постройками и хозяйством всем, с раздолбанным (и это, как Леша сказал, в нефтяной-то великой державе?!) асфальтом, свалками сплошными в каждом закоулке или даже на обочинах проспектов новых, толком так и не достроенных, не обжитых… Казалось иногда, что будто толпы эти уже решили дожить здесь еще какой-то, им самим пока неясный, неведомый срок, изжить тут все до окончательного запустенья и гнусности, доломать и прожрать доставшееся им по недоразуменью наследство и, спасаясь от самих себя, попрошайничая и грызясь, покинуть его под чью-то дудку навсегда…
Казалось, конечно; еще и потому, может, казалось, что себя и своей жизни здесь она уже не видела – с какими-то еще сомнениями пока, даже суеверьем невнятным, загад не бывает богат, но не видела. Здесь – это значило без него, единственного, а представить это было, стало уже выше ее сил, выше терпения своего, которым она так глупо похвалилась, пусть и перед собой только… не хвались – ничем, никогда. И если раньше все ей тут хоть и чужеватым было и немилым, но, как говорится, притерпемшись, даже и устроившись, кто ей мешал в ту же благополучную Славину родню войти со своим правом, какое уступать она вовсе не собиралась, – то теперь, после всего, остаться одной опять, без него, стало страшновато.
Страх не только в том даже был, наверное, что – без него, а с чем-то пустым внутри остаться, вовек невосполнимым, как если б узнала она вдруг – ох, не сглазить! – что зачать, рожать не может… Что «впусте ходит», по слову баб непалимовских, впусте живет. Вот позор, хуже какого нету.
В понедельник, сразу после планерки, подала директору заявление с просьбой отпустить в счет отгулов на пятницу с субботой, благо работа лаборатории настроена, чего-чего, а дело ее девки знают, клейковину отмывать их учить не надо. Да и что там мыть, в американском фураже?
– Так-так… – выслушав, пробежал Кваснев глазами еще раз заявление. – И что за причина? Где? Не вижу.
– Как вам сказать… домашнее. Семейное. Очень мне важно.
– Ну, если для вас дела домашние важней… – брюзгливо проговорил он, подписывая. Она не стала отвечать, только извинительно пожала плечами… и почему, собственно, мы извиняемся все время, за все? А тебе нет, не важней? Дачу отгрохал, а теперь особняк втихомолку возводишь, у обкомовских дач где-то, говорят, – шапка валится; если больше с прорабом каким-то вертким, черножопым дело имеешь, чем с нами, кто тебе все блага кует, по делу не всегда зайдешь, новую секретаршу, стервозу очкастую, при дверях посадил, уж поцапалась с ней… пош-шел ты!
– Н-но! – сказал он и толстый палец указательный поднял, не отрывая кулака от полировки стола. – Но это если партия мягкой пшеницы вагонами не подойдет. Из Турции. Тогда уж никаких отгулов.
– Как, еще турецкая?! Своей, что ли, нету? Предлагают же нам…
– Бизнес!.. – бодро говорит, широко разводит он руками и внезапно раздражается: – Рынок – вы это слово слышали?! И вообще, не нашего это ума дело, не вашего… Договоренности, одно слово – дипломатия. И мы обязаны ей подчиняться, а не… Тоже мне, поперечница нашлась! Иди, иди.
Значит, опять качество никудышное скорее всего, опять мараковать, наше хорошее зерно в подмол к этой дряни добавлять, иначе не мука будет – осевки; а на что и куда подмол списывать? На все один у него ответ: ищите! И попробуй не найди. А у своих, у родненьких хозяйств добрую пшеничку даже за бесценок не берут: нету, мол, средств… А почему на американскую, на турецкую есть, если она куда дороже обходится?
Шумен, порой сварлив старый хозяйственник Кваснев, есть в нем это по-бабьи вздорное – без особой нужды или причины упрекнуть, накричать даже; ладно хоть отходчив еще оставался по-мужичьи, а в чем-то и добродушен был, не злой вроде. Куда хуже, если в начальницах женщина. И с некоторых, уже давних-таки пор, еще с института стала замечать это, женское, во многих, чересчур многих мужчинах – вздорность с неуверенностью вместе, мелочность вообще, неуменье или, может, уже нежелание великодушными быть и твердыми. Непонятным было только, когда и как успели они так обабиться, пивососы, даже и военные, зарплату потребовать не умеют, трусят же. И женщины пошли – куда деловитей и циничней, даже злее, смелей, и это тоже было не совсем понятно: неужели им лучше, легче оттого? Она не поверит, что лучше: надежней, может быть, обеспеченней, раз уж мужики такие недоделанные, но не лучше, нет. И уж тем более бесстрашию их глупому не верит, потому что никакое это не бесстрашие, а равнодушие просто, да-да, разве можно за родное не бояться, если оно есть? Нельзя, и пусть не врут они, девки-женщины эти крутые, оторвы.
Неужто в доле Кваснев? И как в доле не быть, если все концы этих поставок в его руках и риск тоже на нем, на нас? Не такой он дурак, чтоб стрелочником просто быть – без навара. Как отец говорит: на мельнице будучи, да не запылиться… Ну, Турция покажет.
А томление какое в теле – глухое, невразумительное, и хоть не болит уже, но потерянность какая-то в нем, в душе самой, даже девы что-то учуяли, переглядываются. Нинок рассказывает о похожденьях своих воскресных, пьяных, а следом о хлебушке неважнецком, вторую неделю в городе только об этом и толкуют, жалуются, и где – в житнице страны! Мало того, и цены подняли… ну, шутка ли, из Нового Орлеана везти. А свой хлеб на складах колхозных да совхозных лежит, и слышно уже, что спекулянты заезжие-залетные шастают по селам, скупают ни за что, и деваться некуда колхозничкам, продают куда ниже государственных расценок, задаром отдают: новая уборка на носу, а ни солярки, ни запчастей… Все это сама она растолковывала девам; и вот слушает свое, малость Нинкой перевранное уже, и думает опять: это ж хлеб, важное самое. И если с ним так, то что ж с остальным тогда творится сейчас?! Не жизнь – бред какой-то… чем мы провинились, перед кем?
Перед собой, мы ж и творим.
Домой разбитая вернулась, припозднились с анализами; чайник только успела на плиту поставить – звонок в дверь. Даже ругнулась: да будет ли ей покой сегодня?! Может, не Слава все-таки – соседи?.. Нет, он, не мог не прийти, она этого ждала; но о чем и как говорить с ним – не знала, так и не решила про себя.
– Позволишь?
– Д-да, конечно…
– А если мы вина, Люб… во благовремени? – Он спокоен был опять, даже весел вроде, глядел прямо – собою всем показывая, что не придает случившемуся какого-то уж особого, драматического значения. – Для смягчения нравов дикого нашего времечка. Для умягчения жары хотя бы, воздухов, – пожаловался он. – Весь день сегодня мотался по граду этому, достославному пылью. Клиент неразумен и жаден пошел, люди злы… Не против?
– Немного если.
– Немного. Штопор, есть еще в этом доме штопор?! Сувенирный тот? Ах, вот он. Но цветов у тебя!..
– От родни, – опять солгала она, что-то надо было сказать… вот зачем? Промолчать бы. У тетки, какую изредка навещала, и правда были во дворике всякие цветы, пионы тоже – приносила, бывало. – От тетушки. От праздника, излишек…
– Что в таком случае было не излишком?! – весело удивился он. – Могу представить!..
– Много чего было, – резковато сказала она, не на него – на себя разозлившись.
– Люба, – проговорил он, без перехода и не замечая грубости ее, но и без улыбки уже, – я знаю, ты же простишь меня… Не вел этого дела, да, понадеялся на других, мало что знал, да-да, ну и вот… В конце недели, лучше в пятницу, сходи в этот клятый ЖЭК и получи ордер – нормальный. И будем считать, что этого ничего не было. Не было, понимаешь? И никаких обязательств тоже… никаких! И к этому мы больше не возвращаемся, прости. Кагор, церковненькое, ты же любишь… пей, за тебя, я так ждал, тебя увидеть хотел. И прости.
– Я тоже… – Она никак не ожидала такого и, главное, столь скорого поворота дела – ей чужого уже будто и неинтересного сейчас, не важного; отставила фужер, собираясь с мыслями немногими, опустив глаза. – Тоже не хочу возвращаться к этому… ко всему. И ордер не собираюсь брать. Пусть будет как есть. Так лучше.
– Лучше?
– Да, лучше. Нам вообще не надо встречаться. Может, время – оно, может…
Он не то что побледнел, но как будто подтянулся, строже стал. Отпил, давая себе время, глазами опять комнату обежал, на цветах остановил их – куда внимательней теперь… И с заметным трудом оторвался от них, долго посмотрел в окно:
– Понимаю, что не оценил, может, нашего… кризиса этого. Недооценил. Теперь понимаю. – Помолчал, отпил еще. – Но, пожалуйста, не путай меня с ними. С родственниками. Наши отношения – это только наши… я не позволю никому лезть, не дам. И сделал, отбил им желание – всякое… Разобраться надо только нам. Это проще и человечней. – И посмотрел наконец ей в лицо, не в глаза. – Или я тебе совсем… как это сказать… противен стал?
Она не отвечала, нечем, и он сделал усилие над собой, усмехнулся:
– Тогда вправду ничего не попишешь… не поделаешь. Только горькую пить. Или, того хуже, уйти в коммерцию… Н-не понимаю, чего ты хочешь от меня: что я должен, обязан сделать, чтоб…
– Нет, Слав. Ничего. Ты… хороший, ты не думай так.
– Со скрипом, но соглашусь, перед тобой я… А дальше?
– Мы не можем встречаться, не должны… нет, не так. Но я не могу и… Не хочу. И ничего не обещаю. Ты прости меня тоже.
Он не сразу и медленно откинулся в кресле, было слышно, как оно скрипнуло. Тишина обнаружила себя вдруг – будто сама сказала о себе из всех углов этого пристанища; и тупой отдаленный, освобожденный потолочными перекрытиями от музыки и потому бессмысленный ударниковый ритм бесновавшейся где-то на этажах звукотехники не то что ее усугублял, тишину, но какой-то безнадежной делал. И жилище само, показалось, совсем утеряло уже для нее суть какого-никакого дома, о нем и речь не стоило вести, не то что ссориться, обижаться и обижать; и подумала, что зря не пожалела этого человека до конца, именно так, и не сказала сразу хотя бы ту часть правды, которую он имел право знать… Но какую, что ему скажешь и как? Даже и сказанного поправить было уже нельзя, необратимо все здесь, даже и слова, мысли назад не затолкаешь, не вернешь, и только на одно оставалось надеяться – что сам что-то поймет… а навряд ли. Так легко мы с надеждами не расстаемся, хоть с какими.
Заговорил он как-то неожиданно для нее – негромко и так, как она вовсе не ждала, даже в интонации:
– А я сразу увидел: ты какая-то другая совсем, непривычная… тихая. Как монашка. Как горе пережила, отмаливаешь… – Она дрогнула внутренне, подняла глаза. – Вот-вот, и глаза… – Он сам отвел взгляд, встал. – Про время ты сказала… все фикция. Время тут наоборот… – Помолчал, все глядя в сторону; но ей так и не находилось что сказать ему. – Я буду звонить тебе? Иногда, изредка? – Она кивнула. – Спасибо, позвоню.
В дверях он обернулся:
– Люб, возьми ордер… независимо ни от чего. Я прошу, очень. И потом, это такое десятое дело, что… Возьми, а?..
Она коротко качнула головой.
– До свиданья, Люба.
– До свиданья.
Вот теперь все.
Но что это было опять – то, что сам он называл иногда не вполне понятным словом «сюр»? На мгновение какое-то мелькнуло, показалось: он знает все… Не мог не знать, показалось, так все в комнате-квартирке этой, в цветах, в ней самой полно было случившимся. И глупость, ложь эта про цветы очевидная, как и ее – вот именно, что ее – причина разлада с ним, почти надуманная, накрученная ею, потому что главное – какой человек, ну и все другое, отчего забоялась даже она, как бы не проговориться… Ей нехорошо, нелегко дались эта ложь и это молчанье, еще хуже было ему, но теперь все. И радоваться ли этому, печалиться – она опять не знает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































