Текст книги "Новомир"
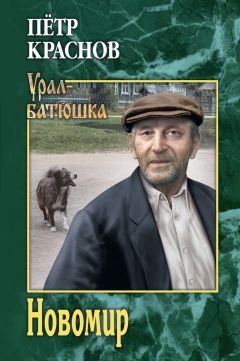
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 28 страниц)
15
Нагляделась, как у многих начинается, это чем-то вроде моды стало, что ли: голубки голубкáми, при людях не то что не стесняются, нет, – выказать спешат, выставить, как у них все гладко, сюсюкают… Чтоб через полгода-год из-за пустяков каких-нибудь нелепых вздорить вот так же при всех, ничем себя не стесняя, независимость выставляя свою, друг другу в лицо тыча ею, – от чего, от своего? Тогда уж лучше его не заводить, своего.
Это она от подружки вернулась, от Надьки, раздумалась так, на дворовом сидя крылечке, яблочки-ранетки на варенье нарезая в тазик, – второй Спас пришел, мать сказала, яблочный. Ладно бы, в городе, там такое сплошь и рядом, давно инфантильностью назвали это и удивляться уж устали, привыкли, – а здесь-то что делить, куда после вздора этого, раздора идти? На речку разве – на какой и утопиться-то негде. Но и сюда добралось уже, и тут в гордынку играют… А как начинали хорошо. Она от себя не скрывала – и на свадьбе тогда, и после, – что завидует подруге, ничего такого уж плохого в этой зависти и не было, больше сожаленья себе; и вот куда что делось, не чужие даже – враги, промашки малой, словца нечаянного не простят друг другу, она уж их урезонить пыталась, полушутя: «Тешитесь, да?..» А когда муженек, папироску жуя от раздраженья, вышел покурить во двор, спросила: что, мол, серьезное что у вас?.. «Да ну его… надоел просто!» – это с пузом-то на седьмом месяце. Поглупела больше, чем подурнела, и если две иголки в доме, а нитки ни одной – чем шить-то, в самом деле, сшивать?
На чужое счастье нагляделась – чтоб своему не торопиться верить?
Верить, не верить – это все пустое, не то что понимает вдруг, а давно уже знает она. Делать. Как ни трудно, а делай, хоть даже и молчком, оно само за себя все скажет потом, дело. Как мать, та много не говорит, отцу лишь «пожалится» иной раз – как вечером позавчера. Она из баньки как раз пришла, наскоро ею же протопленной, полотенце и кое-какую мелочь простиранную свою развешивала на бельевой веревке у крыльца, волосы потом расчесывать, сушить принялась, слыша, как разговаривают отец с матерью в летней кухне о том о сем; и уж хотела сказать отцу, с работы недавно вернувшемуся, чтобы шел тоже, дровишек она подбросила для жару, как мать сказала там, с сомнением все: «Как они дюже скоро-то, Вань… Как на дежурству ходит к нему». – «Ну, ей тоже не семнадцать, – с некоторой досадой проговорил отец. – Дудишь об одном… Небось, подумала. Она у нас не зряшная». – «Она-то да…» – «И он – поискать. Хозяин, говорю ж. Ни с кем лук чистить не будет, сказал – и все. С ним и Вековищев не очень-то». – «Вот ить какие вы, отцы… ни пожалиться, ни чево. Все вам ладно да хорошо. Не-е, правду люди гутарют: мать – овца, да лучше отца…»
Вот и она пожаловалась, как приехала, – ему, своему; как можно разумней все неразумное, подлое это рассказала: что делать-то, Леш? Не в открытую ж идти, писать, в администрацию губернскую или хоть в эти самые… в органы, да и толку-то. Или вовсе не связываться, от греха подальше? Нарвутся же, рано или поздно…
– В открытую? Ну, еще чего… не бабье дело это. Иван, говоришь, до понедельника?
– Навряд ли раньше, сказали.
– Ладно. Выберу время, может, доскочим до него. Н-ну, придурки русские… сдают народ свой, за гроши. Кидают. Данные какие с собой?
– Господи, да наизусть…
– Ладно, – повторил он. – Что, о переезде думать будем, Любушка?
– Обо всем, родной…
И о зиме думает уже, долгой, варенье вот какое-никакое заготовить надо, помидоров и всякого разного насолить – сразу взялась за это, как приехала, и мать уж, верно, догадывается, к чему дело идет, не дивится такой охоте дочери, помогает как может. Привыкли к тому, что обедает и ужинает она у Алексея; а на этот раз сама решила дать отоспаться ему, хоть часиков пять-шесть – замотался же, еще подсох, кажется, глаз не видно в прищуре, а в руки въелась цепкая машинная грязь. В самый разгар вошла уборка, и что только не приходится делать ему, за слесаря иной раз, сам же рассказывает, заскакивая на часок к обеду, весь мыслями там, а тут еще и с нею… И уговорила, угладила. Губы шершавы, заветрели, не вот размягчишь, усмехается ими: «Я уж и то… Машину загоню в лесопосадку, приткну, минут десять, ну пятнадцать на баранке покемарю – и дальше…»
Он тут пластается за этот хлебушек, а какие-то ловкачи наглые насмарку все труды хотят пустить, на хоромы свои… вот уж вправду нахлебники! Неужто не поможет Базанов?
Она устала тоже, набегалась, у плиты настоялась за день и пораньше легла сегодня, на девичью свою с панцирной сеткой кровать за дощатой перегородкой. С самого начала, девчонкой-пятиклассницей выбрала себе она место это с окном, когда дом еще только строился, отспорила у Павлика; и отца упросила, чтоб сделал ее окошко створчатым. «Чтоб женишки лазили, да?» – сказал отец, чем очень смутил, но уступил все-таки просьбам, доканючила.
Вечер на исходе давно, душный, последние жары томят степь, увалы ее и поля с незадавшимся житом, село с привядшими, яблочной запашистой прелью исходящими садами, забившуюся под ракитники и коряги речушку. Духота и в доме тоже, зря не закрывали нынче ставни на день; спать не хочется пока, она переворачивается на грудь, лицом в окно, занавеску отводит, толкает створки наружу.
Край неба за черными крышами еще слабо мглится ушедшим светом, дымкой словно подернут, и в ней тонут, превозмочь не в силах, проблески мутных звезд, вязнет даль сама, бескрылая, бессильная. Темны покинутые соловьями тополя, темна под ними и нема осевшая на угол избенка деда Василия, как заброшенная скворечня с трухою памяти вместо гнезда, вместо выветренного временем тепла его, а выводок бог весть где, безответна жизнь. Лишь дальний перебрех собак, вялый, в молчании этом от земли до смутного, безвестного в своих предопределеньях неба; лишь охолоделая и будто пыльноватая духота, какая охватывает, безотчетно тревожа, помалу захватывает все, пылью своей проникая всюду, не давая полной грудью вдохнуть.
И давно ли смотрит так, недолго ли – не знает, не помнит, само представление о времени, о соразмерности его как-то потеряв, завязнув неосторожно в длительности этой топкой, никуда не ведущей; и страх ее мгновенный, что – завязла, как промельк пониманья, что времени-то и нет…
Нету, не стало. И в какой момент страха, успевшего еще сердце сжать ей, произошло это и почему – нет смысла спрашивать даже, нет возможности, потому что обессмыслилось и потеряло суть свою все: страх, самое какое-либо понятие времени, сама надобность человеческого вопрошания вообще, и без того бессильного и безответного. Все мертво и незачем стало; на все эта нежилая, выморочная пыль забвения последнего легла, запустенья и беспамятства – на бесцельный ход вещей и дел, на страсти скудельные человеческие и дрязги, равно на старые и новые гнезда, заводи их не заводи, все зазря…
Сколько длилось это, немыслимое, и длилось ли вообще – она не могла бы сказать, как и помыслить ранее о таком, невозможном же… Возможном, иначе бы не билось так, не трепыхалось испуганно сердце бессильное и оскорбленное… да, этой пылью холодного небреженья оскорбленное, готовой все ее заветное самое покрыть и упразднить, этой немигающей, мертво глядящей со всех сторон тьмою, ни во что не ставящей не то что желанья-хотения, надежды, но даже и душу ее, единожды проглянувшую на свет и в том не виноватую… Господи, помоги! Призреньем не оставь своим и утешеньем, а я все сделаю, постараюсь, не лишенка же!..
И крестится еще подрагивающей рукою, шепча молитву хрескину, унимает себя, отвадить пытаясь наважденье это вместе с жалкими своими вопросами, бесполезными, все равно не понять, что было это… Замечает невольно, что яблоками еще пахнут руки, и рада отвлеченью этому, любому рада, лишь бы сердце унять; и вспоминает, подальше старается выглянуть в окно, ищет вечерницу свою.
Проснулась она от плеска и шума, от перебивчатого топотка дождя по жестяному отливу завалинки – как пробуждалась много-много раз и, когда можно было, засыпала снова, по затылок в одеялко закутавшись, свернувшись сладко, радуясь, что не надо сейчас вот вставать, в отсырелую обувку в сенцах лезть ногами и идти куда-то в слякоть, холодным туманом медлительно колышущуюся водяную взвесь… Проснулась и не вмиг, не сразу, но вспомнила то, вечернее, замерла. Забыть, не думать, не для нее это. Не бабье, да.
Окладной с утра, чуть не в ливень было разошелся дождь, но к обеду выдохся, перестал совсем. Загроможденное тучами, слитно движущееся небо выше стало, просторнее, от края и до края видное теперь в свежем ветряном, очистившемся от пыли воздухе, и она засобиралась к нему: не на полчаса будет, подольше, какая теперь уборка… Но уже и машина его у ворот, сам он под дворовыми окнами проходит, оглядываясь с прищуркой на них, – и она, с утра еще заскучавшая без него, в сенцы выбежала, встретила.
– Бедному Микишке все шишки… отработались. – Хмуроват был, недоволен – но, видела она, в сторону все это отвел, улыбался уже: – Отдохнула малость от меня?
– Ох, какой мне… сон был – мерзкий, я не знаю!.. – не удержалась пожаловаться, в руках его прячась, передернуло всю; но даже и ему не могла, не смела сказать, что не сон… и как скажешь, что? Явственней, безысходней – и не проснуться от такого, не развеивался скоро, как это с любым, даже самым жутким сном бывает…
– Да?.. – сказал он равнодушно, как о незначащем; но глянул пристально, как-то и странно, пожалуй. – Ну… бывает. Ничего. Как это говорят – страшен сон, да милостив Бог? Со мной же ты… – и глазами смягчился, плечи тиснул ей ладонями – какими же сильными – и притянул ближе к себе, на дверь оглянувшуюся: там шаркала уже на крыльце калошами мать… Поцеловал, боднул скулою в шею, как любил, в ухо куда-то ей, отстранил с улыбкой: – Стой так… Или нет, собирайся.
С вошедшей матерью так же улыбчиво поздоровался, сказал:
– Да вот, забираю… отдаете? Заберу ведь!
– Дак что ж… – Мать как будто все терялась перед ним, все побаивалась. Оглядела его – в брюках выходных, оказалось, и в куртке из тонкого вельвета, тоже не для поля. – И далеко наладились?
– В город, Леш? К Базанову?
– К Ваньке-то? – посмеивался он. – Не-ет, важней. Нужней. В райсельхоз. Ну и к моим заглянем…
Вернулись к ужину, в дом свой заскочили на минутку лишь – и то она заставила, вспомнила, что Овчар не кормлен, и так обеспокоилась этим, что даже рассмешила его: «Вот еще… да утром давал! Полну чашку. Ничего, злей будет!..» – «Утром… А сейчас что?! Он же маленький, наш же…»
Откладывать решенное и уже начатое ими у его родных они не стали, само собой все ускорилось у них – будто подгоняло. Едва присели в горнице, о поездке перемолвились и встрече тамошней, как он поднялся – и она, с заколотившимся сердцем, тоже, рядом с ним… И сказал – просто, как о чем-то само собой разумеющемся; лишь немного было в голосе его от просьбы, когда добавил: благословите, с Божьей помощью. И она повторила за ним, попросила уже: благословите…
Мать встала тяжело, молча, дрожа губами, перекрестила их; и к переднему углу направилась, но она опередила ее, на стул вскочила, торопливей, чем надо, высвободила из полотенца и сняла Спаса, ей передала – и к нему опять, как девочка… Осенила их мать, теперь уже иконою, дала по очереди – ему сначала, потом ей – приложиться к ней, слезу прижмурила:
– Живите согласно, деточки, дай-то вам Бог…
– Да, – сказал и отец, будто першило ему, кашлянул в кулак. – Чтоб, это… не зазорно. Не на год сходитесь.
Перецеловались, с отцом по-мужски он обнялся, наперекрест, – и взволновавшись, и уж с облегчением, разрешилось многое; и опять присели, самое необходимое, может, обговорить: нашим-то? – сказали, а как же, добро получили. Заявление завтра в сельсовет, пока суд да дело… да, пока контора пишет. А венчаться у отца Евгения будем – там, у моих… Церква там хорошая уже, сказала мать; а отец кашлянул опять: так надоть бы и это… познакомиться, со сватьями-то. Поглядеть друг на друга. Поглядите, уверил Алексей, дайте срок – привезу сюда; уборка держит. Еще много дел у нас – с переездом, с работой Любе, с тем-сем. Дел-то? – переспросил отец. А когда их не было, дел; ну, не сироты, поможем. Мать – а, мать? Мы ужинать-то будем нынче?..
Уже спал он, долгой ли близостью утомленный, долгим ли днем, и благодатно тяжела была в забытье рука его на ней; а она, в шею уткнувшись ему, слушая дыханье тихое его, будто совсем пропадающее порой, все переживала день этот… нигде не подвела? Вроде нет. Господи, а как волновалась, входя с ним во дворик низкого и широкого дома их, поднимаясь на терраску, – когда с радостным девчоночьим визгом вылетела младшенькая, Валюшка, и уж кинуться хотела к брату, но ее увидела и будто споткнулась, застыла, глядя зачарованно… И как в низких, сумеречных от зелени под окнами комнатах, в гостиной, кажется, поднялся им навстречу сухонький, со строгим лицом отец его, Петр Федорович, поздоровался сдержанно и потом нет-нет да и взглядывал коротко на нее, оценивающе через похожий, но не такой все-таки, как у Леши, прищур. Пришла со двора откуда-то мать, по фотографии еще понравилась ей, с открытым лицом и глазами, всегда грустноватыми чуть; и уж через часок, что ли, дворик ей показывая с закоулками всякими, остановилась, простосердечно как-то погладила ее по щеке и в нее ж поцеловала, сказала: «Кареглазая ты наша… Лексею верю, плохую не приведет».
Стеснял ее немного отец, конечно; и сами отношенья сына с отцом заметно суховаты были, совершенно взрослые. «Он у меня коммунист, железный… свое не сдаст, – серьезно, без тени иронии всякой говорил ей на обратном пути Леша. – Правдолюб. И думать думает, не упертый, ты не гляди. Аргументов – их с обеих сторон хватает, с красной ли, белой. Это с третьей, от власти, одна лжа воровская, кагальная… на гвалт взять хотят, на глотку. И возьмут – на время…»
«Ну что, скажем? – минуту улучив, спросил Леша. – И твоим тоже, как вернемся… что тянуть-то?» И она согласилась, не было уже смысла тянуть. «Не получилось раньше вас познакомить – ну, ничего, – сказал он им. – Вот вам дочь, а мне жена будет. Давно искали мы друг дружку…» – и на нее посмотрел, спрашивая: так ли? И она лишь улыбнулась ему, им тоже, стесняясь при них поддакивать, притенила глаза. «Нашли – ну и хорошо, – твердо сказал отец. – Мы тоже тебя, дочка, долгонько ждали… А он ничего, с руками. С головой. – И быстрая наконец, какая-то неожиданная улыбка тронула его сухие губы, глаза, и не без язвительности: – Только зарываться не давай…» – «Как зароюсь, так и откопаюсь, – усмехнулся Алексей; а мать еще с первых слов отца залилась слезами, уткнулась в передник свой – такого же, как в Непалимовке, бабьего фасона, и он только сказал ей: – Ну, мам… ну-ну». И тогда она решилась, присела на корточки к ней, руку ее, грубо загорелую, стала гладить: «Ничего, все хорошо будет… по-людски, мы ж не какие-нибудь. Ничего…»
Счастья пожелали, конечно, а благословить чтоб – такого у хозяина и в заводе не было, в доме ни иконки.
Стол вместе с Анной Ильиничной собирали, готовили – и с Валюшкой, та не отходила от новой сестрички, влюбленно уже глядя, и помогала на удивление сноровко, так же неожиданно неговорливая – с ее-то подвижностью в лице, в глазах серых, матерински больших, и характере… Не скажешь ведь, чтоб стеснялась, за руку ее даже однажды взяла, сама, так потрогать ей не терпелось, видно, – и она не удержалась тоже, поцеловала ее в свежие щечки, шепнула: «Будем дружить?» – «Ага!..» – жарко выдохнула шепотом тоже Валюшка, глазами сияя; и с великой неохотой, чуть не в слезах отправилась по материнскому приказу искать старшую, где-то в соседях, у подруг…
Нет, как хорошо догадалась она все-таки, еще в городе, подарки им взять, хоть и невесть что, по деньгам: младшей панамку голубенькую из бархатистой какой-то ткани, с цветком искусственным фигуристым, а Татьяне модной модели темные очки. И когда вприпрыжку прибежала Валя, а за ней старшая появилась, высокая, русокосая и с тонкими чертами, по-девичьи важничая уже, невестясь, – потихоньку, оглянувшись на курящих мужиков, отдала им даренки. Младшая, повизгивая, побежала к матери, а Татьяна сказала чинное «мерси», с наивным любопытством, даже и с ревностью некоей к брату разглядывая ее… ох, наревнуешься еще, девочка, и не к брату, что брат!
А сойдутся они, интересно, родители их, разные такие? Да почему нет, найдется им о чем потолковать, рассудить… о чем? Да все о жизни о той же, неверной, столько в себе всякого таящей – неизвестного, рокового, нам назначенного кем-то, да, во сто лет не рассудишь ее, жизнь, не поймешь.
Плечо затекло, она поворачивается немного, ложится поудобней. А он посапывать начинает кротко, по-детски, и что-то появляется в ней щемяще жалостное к нему, усталому, все ведь на нем на одном… материнское? Губами касается подбородка его, щетинки усов в уголке губ, скулы, будто отмягчевшей, – все сильней, несдержанней прижимаясь ими, губами, всю плоть живую, теплую тела его чувствуя, такую податливую теперь, ей подвластную сейчас, послушную, дымком пота ли, полынка отдающую… теперь можно, теперь он весь ее. Он глубоко вздыхает во сне, обнимает крепче, и она успокаивается; и хорошо, что решила не уходить от него сегодня, остаться, наждалась она его.
16
Вырваться в город только через неделю удалось, да и то по делам его рабочим. Уазик на агропромовской стоянке оставили, Леша в «большую контору» пошел, а она по магазинам ближним, в списке у нее всякого накопилось. Ходила, глядела на суету всю эту уличную, не то чтобы постороннюю ей теперь, нет – просто замечать ее стала больше, хоть немного, да отвыкла, как всегда в отпуске. Накануне и мать спросила: «А город, город-то – не жалко?» – «А што он, город? – это отец пренебрежительно сказал, ответил за нее. – Везде люди живут. Она ж не в доярки. А свою што… свою завсегда подоить можно, был бы корм». Но если б все так просто было…
Базанов ждал; коробку конфет из шкафа достал, бутылку вина и фужеры, клацнул внутренней защелкой двери: «От доноса; это дело, знаете, у нас освящено обычаем, самой историей внутригазетного сыска… У нас-то? О-о, тут такие до сих пор интриги, многоходовки – пальчики оближешь!..» Записывал за нею, черкал в блокноте, потом сказал, ясные глаза поднял:
– Не-ет, соратнички, тут не на одной фальсификации качества бакшиш гребут… ну, категория зерна другая, на этом зело много не поимеешь. Я ж агроном все-таки – в запасе. Тут еще какой-то механизм в довесок, финансовый или… Да вы пейте, Люба. Глядя на вас, и я не пью – а хочу!
– Старый прием – для старых дев… Выпей, конечно, – сказал Леша ей, мигнул, – виноград же гольный. А я кофейком пополощусь. И хватит вам выкать, не в казарме.
– Я согласен, – возразил Лаврецкий!.. Пей, Люб, недурное ж… Или – возвращаюсь – в том, что административным ресурсом нарекли, совсем недавно… этакий эвфемизм шкурничества чиновного, номенклатурного. А вернее, во всех трех этих секторах шукаты трэба. Опять, значит, лезть Ване во все дерьмо это, отворачивать болотники… – И встал неожиданно, по стойке: – Золотарь Ваня Базанов, честь имею!
– Неохота?
– Нету такого слова, Лешк, в лексиконе нашем… Надо. Такова драная романтика дела – в гробу, в мавзолее бы ее видал, навытяжку!
– Может, еще какие данные нужны? – сказала она. – Я позвоню сейчас нашим – что-то, может, нового…
– А какие?! Остальные – вне вашей… тыща извинений – твоей компетенции. Не тут все варится – там где-то… И на том великое спасибо, на факте. Я их размотаю, сук. Или хоть покусаю… Ну, звони.
Пока она звонила, пока радовалась там, колокольчиком звенела Катя, побежала искать потом Людмилу Викторовну, а та, поспешив к телефону и запыхавшись, жаловалась, у тех свой шел разговор:
– …партия пофигистов, самая у нас массовая. Сверхмассовая. Чтоб сейчас до русского в нашем человеке добраться, достучаться – это великая кровь нужна, великие беды… не разбудишь иначе, знаем мы себя. Лопухнулись исторически, а теперь выправи, попробуй…
– Начинать-то с чего-то надо, – говорил Алексей, глянул отсутствующе на нее – даже на нее… – Национально-освободительную без национализма вести – это ж додуматься!.. В кабинетах, с кондиционерами. Я б теоретиков этих к чеченцам, рабсилой на годок-другой. На выучку, чтоб поняли. Национальное в себе поднять, разбудить, как ты говоришь, – другого у нас нету. И это даже национализмом-то не будет – в европейском его дикарском понятии. У нас – культура, православная, а не цивилизация этой… зелени, баксов этих вонючих.
– А классовая что, не нужна?
– Еще как нужна. И классовая тоже, только с разбором… Они ее, компрадоры, начали – ну, ее они и получат. С национальной войной вместе. Только начинается драка – большая, на десятилетья. Раньше не управимся.
– Резоны есть, хотя… Это ж война, не шуточки. Война.
– Оборонительная. А ты бы как хотел, милок?!
– Да не милок я, не телок… – И к ней обернулся – с улыбкой уже слабой, бессознательной сейчас, всякий раз у него возникающей, когда он на нее смотрел, это она уже заметила. Огорченье ли, досаду увидел ее, озаботился: – Что-то еще?
– Еще… Партия такого ж, оттуда же. Из Турции. Три с половиной тысячи тонн… И поступает уже.
– Однако! Разыгрался аппетит!..
– А с качеством то самое, как я и говорила. Заставили Людмилу.
– Нагнули, по-нынешнему… – запустил он руку в волосы, простовато почесал. – Ах, твари, ну до чего настырные! Во вкус вошли, жратеньки захотели. Лады. Ладушки, исходные есть… А вы что, уже?!
– Уже, Вань. Зерновые закончили, а тут кукуруза, сам знаешь, картошка-моркошка всякая. Подсолнечник, на масле будем наличку делать, иначе труба… – За плечи приобнял ее, вставшую тоже, улыбнулся ей вопросительно: ага?.. И она поняла мгновенно, кивнула: ага! – потому что о чем еще мог он так спросить и так улыбнуться, как не о главном. – Ладно, скажем… Поздравить нас можешь – в предварительном, как Вековищев говорит, порядке: заявление мы подали… заявочку.
– Та-ак!.. Вот это – порадовали! – И с энтузиазмом набухал остатками вина фужеры. – За вас! Многая лета! А если осень, то – золотая! Пью!.. И свадьба когда?
– Без нее решили, – сказала она, веря его радости, неподдельной совсем, пусть с балагурством даже. – Посидим со своими, в гости пригласим… Уволиться еще надо, переехать.
– И на венчанье. Это вас касается с Ларисой – в приказном. О сроках поздней.
– Лады-ладушки! А глядитесь вы – если вот этого еще почистить, приодеть… Теперь скажу, теперь уж и можно: а и красива ты, Люб… прямо сердце вынимаешь. И на место, прошу заметить, не возвращаешь.
Она засмеялась, смущенно взглядывая то на него, то на Алексея:
– Так нечестно же, Иван, с женщинами…
– Но, но! – сказал и Алексей, с угрозой. – Базановы эти, казановы… Вот и езди к ним, вози на погляд. Я вот настучу жене, она тебя образумит.
Никак она не предполагала, что так скоро вернется сюда, в базановский кабинетик этот, – в разгар скандала.
Приехала в последний день отпуска, в общагу только вещи завезла – и на работу сразу, с заявлением готовым в сумочке. В лаборатории застала только двоих, остальные, по всему судя, на утреннем отборе проб-образцов были; да и Людмила Викторовна, поздоровавшись, торопливо куда-то вышла тотчас, исчезла, не успелось как-то остановить – а с ней-то и надо было прежде всего переговорить, узнать, что и как тут теперь… Одна Нинок осталась, серьезная какая-то и потому скучная лицом; и на расспросы ее первые вяло и неопределенно как-то ответив, словно решилась вдруг, пачку сигаретную достала, предложила с чего-то: посигаретничаем?.. Это у них, дев табачных, посекретничать значило, и они вышли в уголок свой, под березки. Нинок все поглядывала на нее, а когда на скамейку сели – сказала: «А ты что, правда, что ль, не знаешь?» – «А что я знать должна?» – «Да тут такое заварилось… ты статью-то читала, в областной?» – «Статью? – искренне, считай, удивилась она. – Нет… Я от своих сейчас, из села». – «Скандалез до небес тут! Базанков какой-то написал, дня уж три назад, четыре – ну все как есть… Теперь и нас, и инспекцию раком хотят поставить, областные животы вмешались – кошмар!.. – Говорила, а сама глядела, пытливо и сочувственно вроде; пососала сигарету, дым вверх выпустила и решилась: – Милка тебя сдала… она может».
Она сначала и не поняла будто: какая еще Милка? И уж знала – Костыркина, слабачка… «Как – сдала?» – «А так… видишь, выскочила как?! – Нинок кивнула назад, сторожко оглянулась. – Слышала, что ль, как ты в газету звонила, с писакой с этим балакала… не знаю толком. Кваснев, глядим, вломился к нам, с сикухой этой, Антониной, – как сатана злой, ну и Милка сзади… И на нас: говорила еще завлаб с корреспондентом, звонила?.. Слышали что? Он тут, случаем, не был?.. А мы что знаем… Ну, он орать: что, паршивки, забыли?! А Наташка ему: ты че, дядя, такой невоспитанный? Не похмелился, что ль?.. И дверью хлоп! А он, всамделе, с бодуна такого… – Нинок даже за голову себя схватила, тут же изобразила: – В глаза хоть спички вставляй, рожа… – Она поискала глазами, с чем бы сравнить, босоножкой по бочке постучала, тоже здесь для окурков полувкопанной, суриком крашенной. – Рожа как вот эта… эх, что было-о!.. В тот же день прямо – приказ на Наташку, по несоответствию. А она, уж на другой день, трудовую получила книжку, глянула в нее и ржет: а я ж и правда – не соответствую! Как он угадал, дядя гребаный?! Ну и… отметили. Напились».
Надо было чем-то ответить ей, сказать ли; хорошо хоть, что предупредила… «А что там, в статье?» – «Да все, считай, правда… молоток! Про политику там еще – ну, нам она до фени. Да, не сказала: выпечка уж пошла, с хлебзавода! Полгорода плюется, буханку разрежешь – затхлым прет, как от носков… Не, так их и надо, гнид! Орать на нас… мы-то тут при чем?! Набивают животы себе, все им мало. А тебе тут не жить…» – «Не жить», – согласилась она, встала. «Увольняться будешь?» – «А что еще?» – «Да, а Славик-то – звонит! Вы чево это, как в море корабли, что ль?.. Что ему говорить-то?» – «Скажи, что уехала, – не удивилась она. – Насовсем». – «Правда?!» – «Правда. Ну, потом об этом…»
В лабораторию вернулись, все пустую еще, и она тут же номер Ивана набрала – некуда было идти, кроме него… только бы застать. И, слава богу, на месте оказался, бодрым был, обрадовался: да, конечно и всенепременно, жду!.. На выходе встретила Катю с ведерком и щупом в руках, в тревожные, о чем-то умоляющие глаза заглянула и, поцеловав в лоб, сказала: «Не бойся, девочка моя…» – и ей, и себе это сказала.
Впору было Натали позавидовать, у той-то трудовая уже на руках… И что ей приготовили, из крысятника? Впервые по-настоящему страшновато стало: вот теперь-то в открытую… Это ж банда, стопчут. По любой же статье, самой худшей, выкинут, и куда она с этим потом – в суд? А главное, наизгаляются, вся она теперь в их руках…
Базанов как-то лихорадочно весел был, хотя заметно осунулся – или ей показалось? Встретил, усадил, кофе навел и перед нею поставил, разом все бумаги сдвинув на столе, место освободив:
– С работы? В курсе теперь? Ну, разворошили мы кодлу эту!.. Рассказывай, что там…
Слушал, глазами блестя, кивал – весь нацеленный на что-то, нетерпеливый, даже и глядел-то мимо словно… и хорошо, все ж была у нее опаска, что балагурить опять начнет, смущать, взглядами этими связывать…
– …и Людмила эта, – повторила она, – вот уж не думала, что продаст. Говорю же, проблема мне теперь – увольняться…
– Нашла, Люб, чему удивляться, – с усмешкой, пожалуй что и с сожаленьем ей сказал Базанов. – Русские сейчас, как… зайцы, своей же продажностью окружены, морем разливанным. Самопредательством – каждый, считай, божий день я с этим нос к носу… В мелком, крупном – во всем! И деда Мазая на нас нету, или хоть дядюшки Джо… одно слово – совки. Что, тоже словцу удивляешься? О-о, тут и оскорбляются, в бутылку лезут – вражеский термин, мол… Да не в термине дело – в диагнозе! А он точен, врагам надо должное отдать: совок – это русский человек времен советской расслабухи, не умеющий и даже не желающий ни думать по-настоящему, ни действовать, иждивенец, только и всего… А раз не хочешь думать сам – значит, верь во все, что тебе мошенники из телеящика скажут… приставкой к телевизору будь. Не хочешь политикой заниматься – она сама тогда займется тобой вплотную! Тут рви рубаху, не рви – правда ж! И совки эти на всех уровнях, у демократов-колбасников, кстати, тоже… Меня вот, представь, из-за нашей статьи даже мой шеф не прочь кинуть… – Он говорил это, впрочем, посмеиваясь, как о чем-то привычном и малость забавном. – Да-да, шеф, один из столпов оппозиции номенклатурной, провинциальной нашей – такой на него накат с губернских верхов организовали… Какую-то, Люб, артерию мы им пережали, питательную трубку, а мой не предполагал этого, сразу не смикитил. И хотел уж, истерию позавчера нагнал: не проверено, не факт, то да се – а тут хлебушек в магазины пошел… слышала? – Она кивнула, удивляясь веселому пренебреженью его, вот бы ей так. – Факт пошел! И кинул бы, запросто, как кость коллегам своим бывшим по обкому, – а за мной город!.. Не очень-то и вякают, правда, лопают… нашим терпеньем валенки подшивать, сносу не будет. Но ничего, какой-нибудь протест да организуем! Кстати, вот статья-то, возьми, не читала еще? Мало что раскопать удалось – ну, поставщиков там, посредников; а с остальным глухо, это следственную бригаду надо, с полномочиями… И та, по вопросу по женскому… хотел же тебе дать, отложил. Ага, вот! Почитай, тебе-то надо…
– А с увольненьем как, Иван? – чуть не жалобно сказала она; если до такого дошло, то что же с ней сделают, крайней, без всякой защиты теперь?.. – Посоветуй, топтать же начнут…
– Ах да, это еще… Нет-нет, я понимаю, серьезно это. – Он и вправду понимал – или только что понял, веселости как не бывало; но и сам смотрел на нее с вопросом будто, как бы примеривая ее к тому, что могло там ждать ее, произойти… – Тут одно только: держаться твердо, стойким оловянным солдатиком… С позиции силы, да; пригрозить, что и с американским зерном не кончено еще…
– Ну, мука ушла, ищи ее теперь…
– Да это не задача, и не в том дело… – Опять посмотрел на нее, подольше, все думая, и резко поднялся: – Нет, к черту рецептуры! Одну я туда тебя не отпущу… чересчур много им. Заявленье где? Ну, едем тогда. Да, позвонить – на месте ли? Чтоб не маячить там почем зря. Телефон?
Она назвала – с облегченьем наконец, все не одной… Как бы ни было там – не одной в этом никак уж не бабьем, действительно, деле, где себя травой чувствовала, на какой сшиблись в схватке великаны, и только странно было думать, что это и она тому причиной тоже…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































