Текст книги "Новомир"
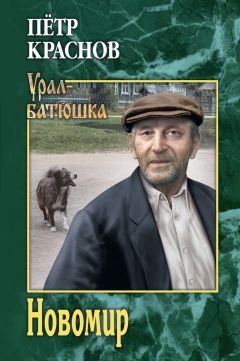
Автор книги: Петр Краснов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 28 страниц)
Но где она, тоска эта, теперь, куда делась, беспомощная детская, – вылилась ли, во что-то отлилась другое в нем или, может, ушла куда в заповедное свое, хранимое до вечных сроков, сберегаемое нежно кем-то, потому что ничто бы не должно пропасть, а уж детское, щемящее такое, в особенности? Он не знает. Он знает, что была тоска, но уж давно ее на белом свете нет. Или эти сквозняки стылые повытянули все, распылили по холодным просторам, растворили – чтобы кто-то опять собрал в себе ее, кочуя поневоле и маясь чужим, и тоже не по-детски проснулся бы от нее среди ночи?.. Ее нет, и благо ли это или печаль, не понять.
И было, конечно, возвращение весной – к своему, заждавшемуся, бог знает как обходившемуся тут без него; радостей было через край всяких, узнаваний, чище тех дней нет, и все, кто ни встречался, радовались тоже: ничего, что на костылях, это ненадолго. «Ну, ничего-о!..» – говорили и шли дальше себе, довольные, что все вот обошлось хорошо, а бывает ведь куда хуже… Все, кого ни встретишь. Дед Глухой даже на лавочку с собой усадил; оглядел всего, помаргивая от старости, клонясь над бадиком и заглядывая в лицо, вздохнул: «Так-то оно, паря, бывает за чужое-то… Ну, главное дело, што не калека. Это гусударству ты скажи спасибо… ему, а как же-ть! Оно это все, в ножки надо-ть ему поклониться. Ишь, костыльки-т какие… Ну, молодец, иди». И он это понимал, что государству, так оно и было, и только потом уж дошло, понял, что первой – матери. Ей первой, что рук не опустила, и отцу, кто другой опустил бы, но не они…
Он привыкал заново к своему, вспоминал и узнавал все прежнее, и скоро привык, ничего тут особенного не переменилось. Жить стало малость полегче, но работы оттого не убавилось; наоборот, казалось, все прибывало работы. Все так же копались в своем, дни переводя и силы, что-то от времени ждали и от себя, так же распоряжалось человеком все, имеющее силу распоряжаться. Все донимали Пашу Буробушку дружки; как-то даже, интереса ради, свели его в клубе с таким же, как сам он, с соседней улицы – поглядеть, как они толковать будут. Ничего, потолковали, только с подозрением каким-то друг к дружке, с недоверием; а когда спросили Пашу – как он, мол, тебе? – тот оскорбленно, обиженно замахал рукою, забубнил: «Ну его… дурак какой-то!..» И Губаниха жила, что ей не жить. Однажды чуть не встретились, хорошо – она его издалека увидала, узнала и тут же в чей-то свернула двор; а он поначалу растерялся было, не знал, что ему делать и как вести себя, и разозлился. На себя будто разозлился, хотя еще мал был злиться на себя: на то, что не знал и сам готов был в первый попавшийся двор, на другую куда-нибудь сторону перебежать. И назад повернул, так не хотелось, чтобы она подсматривала. Губана чаще встречал, но тот виду не подавал, не глядел. Он мужик, на нем хозяйство, ему не до того.
XXI
А этим августом отгрузки мало было, неурожай. Из дому тоже неохотно отпускали – так, чтоб от темна до темна, по своему хозяйству нужен больше, а всех денег все равно не заработаешь. Но все ж они отпрашивались с Саньком как могли, сладка полевая работа, и отпускали их, только уж недалеко, ненадолго – остатки соломы, случайные копешки с полей свозить, жечь их нынче год не велел. И вдвоем на одной рынке свозили, и дома успевали кое в чем помочь; а после ужина, наспех собравшись, закатывались в клуб, уже он, клуб, тянул. Здесь же и уговорились как-то навестить Губановых, покою он не давал им, сад, и сам не знал, хотя уж теперь и у других появились, подросли яблоньки, завезенные с разных мест сельской шоферней, приглядчивой к новому, всегда что-то новое доставлявшей другим на зависть. Кинокартину посмотрели, торопиться было незачем – когда-то там они уснут, Губановы; и собрались потом, как было уговорено, отправились.
Но ничего у них не вышло; Губаниха старая, несмотря на первый час ночи, как будто и не отходила от растворенного окошка, сторожила, ждала – словно в эту ночь именно и должны они дозреть, яблочки, налиться, а не через неделю; и дала им только на мост с проулка ступить, за которым обочь темнели на мерклом небе сад и напротив изба их, дала плетень лишь опробовать затрещавший, бурьяну пересохшему захрустеть, – зашугала… Пришлось вернуться в клуб. «Н-ну, сука старая! – кляли. – Ты гляди-ка – не спит!.. К черту спилить зимой… или гвоздей набить, чтоб знали!» Возвращались с танцев, на которые пока только со стороны глядели, совсем поздно. «Слышь, а давай каменьями шуранем, а?! По саду, нас вон сколь. Посбиваем к шуту, поедят они яблочек!.. А, ребята?!» – «Да темно ж, где ты их возьмешь, каменья?..» – «А мы вот что… мы кизяками, там целая скирда на проулке стоит – а что?! Ими еще лучше!» – «А что, дело…»
Второй раз подходили тихо совсем, крались. Санек подобрал на дороге палку, они шли рядом, приглядывались, чего бы еще подходящего прихватить; он потом отстал, подбирая. Санек где-то впереди зашипел: «Пошли, что ты там!..» Все-таки набралось кое-чего, а ребята уже обступили невысокую, чернее темноты, скирду и набирали каждый на руку себе, как дрова, кизяки. «Ну, ладно-ть, пошли! Поближе давай, ближе, не трусь. Мы им щасик!..» Еще на десяток-другой шагов подступили к мосту, под ноги кизяки сложили; ломали через коленку, целый не докинешь, пыхтели, он тоже несколько их прихватил, но все искал, нашаривал по земле другое, – стояли они теперь на буграх, здесь раньше то ли погребка, то ли амбар плитняковый был, а сейчас колдобины одни, заросшие репьями и пустырником, всякий мусор.
Черный совсем, недвижный молчал сад, с ним кусты приречные, тополя и улица вся, будто сговорились; ни собаки не брехнуло, ветки не шевельнулось, речушка даже под обрывом голоса не подавала – сговорилось или в самом деле спало; переваливало на утро, должно быть, никакого света еще не было, только чуть просторней, серее стало небо и что-то вроде прохлады появилось. Ставни избы губановской были закрыты, одно только растворенное окошко темнело на беленом бревенчатом, не бог весть каком фасаде – пусто темнелось, никого, конечно, не было в нем. Все изготовились, он тоже, первым делом из карманов камни подоставал, оттягивали очень, да и грязные небось, – ну, ничего… «Давай!.. – шепотом крикнул кто-то. – Это самое… разом!» И тут же полетели, то тенями неясными, быстрыми замелькали, а то переваливаясь как-то замедленно на проступавшем небе первые кизяки, зашуршало и затрещало в саду, глухой стук падений пошел оттуда: «Та-ак!.. По середке бей, там ранетки!» Он в окно метил, но первый не долетел камень, слышно было даже, как тупо гокнул он во что-то, в завалинку, должно быть, – а сад трещал весь и сотрясался, будто кто шуровал там вовсю, тряс и ломал, спасения не было там… Второй, третий за ним камень в стену, в ставню гулкую попали, бесполезно, он схватился за кизяки. Из дома что-то вроде крика послышалось, сполох, в соседях собака залилась, но они пока не обращали на это внимания, по саду швыряли, кто-то уже к скирде бегал, носил, за ним уж другие – носили, швыряли… И не сразу Губаниху заметили, как она выскочила из сенец; а увидев – не растерялись, полетело и в нее, одна кизяшная половинка рядом бухнулась и покатилась, докинул кто-то. И он, замирая сердцем весь – молодец какой, приберег! – подхватил оставшиеся с земли камни и швырнул один, другой потом, целясь в смутную раскоряченную тень эту возле порога, всем телом напрягаясь, стремясь; и когда шарахнулась назад она, к двери, и завыла что-то дурным голосом – последний метнул, самый тяжелый, и тот возле совсем грохнул, в дощатое что-то – не попал…
«Подноси!..» – уже в полный голос почти кричали, а Губаниха все выла в сенцах непонятно что, потом разобрали: «У-у-би-и-ли!..» Врет, иначе б не орала. И тут Губан выскочил сам, в кальсонах белых и рубахе, встрепанный; секунду помедлил всего, озираясь, понять стараясь – откуда, и кинулся к мосту, к ним…
Кто-то не выдержал, с паническим топотом побежал, двое или трое, так мельком увиделось, – а остальные на мосту Губана встретили, без команды всякой, молча… Стаей полетели навстречу ему половинки, а то целые кизяки, чуть не в упор, попадая и мимо летя, падая со стуком и катясь, в воду плюхая внизу. Губан, прикрываясь руками, еще пробежал боком несколько шагов по мосту, опять ему попало, шатнулся даже весь – и повернул… Кидали вдогонку, швыряли ожесточенно, сами не ждали от себя храбрости такой; Губан, спотыкаясь, отступал к дому и страшно как-то матерился – а он елозил по земле коленками, руками шарил, искал камень хоть какой-нибудь, железку бы, и всхлипывал, чуть не плакал от бессилия, не попадалось…
А потом Губан в сенцы сунулся и опять, подгоняемый бабьими криками, побежал на них, теперь уж по-мужичьи неукротимо, с коротким чем-то в руке, и они кинулись врассыпную, кто куда… Каждый только на себя теперь надеялся, на свои ноги, ни на что больше; на зады кинулись и огороды по обеим сторонам проулка, в кусты, мгновенный треск, топот по траве пересохшей возник и в темноте, сгустившейся понизу, пропал. С кем-то вдвоем, не оглядываясь, мчались они средь банек и кизячных скирд, вдоль плетней – не споткнуться только б, не оплошать… И затем на стежку свернули, за чей-то огурешник, до кустов рукой уж было подать. Проскочили последнее открытое место, оглянулись – никто вроде бы не гнался сзади. И увидели там, на проулочной дороге, фары какой-то совсем уж припозднившейся машины и ей навстречу бежавшего Губана. Вот остановил он ее – в белом весь, тонконогий в кальсонах, в руках топор, оказывается, не что иное: бросился к кабине, на приступку, и вот немного спустя развернулась медленно машина, далеко захватывая, шаря бегущим светом по огородам и кустам, – все без толку, конечно, опоздал светить… Нашел кому помогать, сука, думали они про шофера; прикомандированный, наверное, свои б не стали. Угнулись, пережидая свет, за кустиком на широкой сенокосной меже, перебежали затем к высокому коноплянику, колхозом посеянному на отрубах личных огородов, за ним к ветлам – злой, может и в огороды полезть, с него все станется. И торопливо продираясь в зарослях, пошли прочь, дело было сделано.
А утром на колхозном дворе, сидя возле хомутной в ожидании разнарядки и лошадей, рассказывали мужики, довольные, о ночном деле, похохатывали, подмигивали им и спрашивали, а они божились, блестя глазами, что не были вовсе там – больно им нужно, мол, связываться, – и сидели именинниками. Сад порядком пообили, можно сказать – раскурочили весь, как после бомбежки… Падалицы бери не обери, а уж кизяков сколь!..
– Полскирды либо развалили, покидали – пра-слово!.. И мост усыпан весь, досталось Губану. Вы што ж – прямо в него и шмаляли?
– Да не были мы там, дядь Андрей!
– Ладно-ладно… знаем! Репьи вон отцепи, со вчерашнего небось еще остались. Репьи допросить надо.
– Говорят вон, что даже-ть камнями… попали будто Губанихе. Чуть, мол, не убили, мол.
– А вот каменьями не надо, нехорошо это… Побаловались кизяками – ну и хватит, зачем так-то?! С этим шутки плохи. Снизили, выходит, урожайность им?..
А тут Губан сам появился, и разговор об этом примолк. Угрюмый подошел, всегда тощеватый был, а тут еще будто осунулся, рука одна содрана и на щеке тоже отметина. Спросили только:
– Что там у тебя – сад, что ль, тронули?
– Тронули. Ноги бы повыдергал.
– Это да-а… Если б поймал. Поймай вот их… – кивнул дядя Федор Лагутин на них, средь которых и сын его сидел тоже, и вроде как усмехнулся. – А так что ж говорить, не знаючи… А не пойман, сам понимаешь, не вор – ты это, слышь, учти, ночное дело такое.
Все-таки попытался Губан вызнать, одного из них наедине за ухо поймал, стращал, но тот, не испугавшись, сам пригрозил отцом. Разозлился и стал, неслыханное дело, отбиваться даже от Губана, ругаться, локтем чуть не заехал тому, в морду.
XXII
Стояли последние дни – повитые, как повиликою, тишиной стояли. Пожухшие сады подпертые, теперь пустые, в осеннем скудном беспорядке; ненужные плетни и почернелые от прошлых дождей штакетины будто еще больше подкосились, за лето проросли насквозь усохшими ныне будыльями чернобыльника, погремками белены, ломким полым дудочником. Не было ветра, и каждое вокруг себя осыпало дерево землю, золотые жухлые вороха лежат, нетоптаные, и стоит меж стволов, запутался в ветвях сизый некий, словно от сгоревшей на лету листвы, дымок, сияние бледное, кроткое. Но все еще слетают листья, падают, покорно шурша, коротко, – будто в бездну светлую какую срываются, падают… Слетел один, и уж знаешь, ждешь: вот-вот другой сдернется кротко сейчас где-то над головой, прошуршит, воздух задевая, упадет к ногам… и падает он, предопределением полна осень.
Убрано с огородов, управились в колхозе тоже, и будто на какое-то время цель потеряна всеми, всем. Пусто как-то и в доме новом, осенняя муха ползет, сама не зная куда; а то сорвется вдруг, ошалелая, забьется на стекле… Как мухе не понять стекла, так людям странно, дивно всегда это ставшее временным вдруг, но высоким, бытие, куда-то отворенное наружу, вовне распахнутое, праздность эта высвободившихся рук и отвлеченных наконец от земли, от насущного мыслей. Не в том уже вопрос, как дальше жить; труд летний, у всякого в свою меру полные закрома уже разрешили это, тут теперь думай не думай, а все определено: что в ларе, то и на столе, и не поправишь особенно, если даже и захочешь. Речь тут вроде о другом должна быть – но о чем? Куда это открылась жизнь, в какие такие пределы, откуда потянуло вдруг так ощутимо тонкой, осеннего настоя, прохладцей вечного? Что сама в себе она увидела такого, от чего приостановилась на долгое ясное мгновение бабьего лета и будто подождать отставшее решила, обдумать все отложенное в спешке вечной на потом? Но нет думы, ясность одна царствует везде – не понятная никому ясность жизни, опроставшейся до будущей весны земли…
Наступила пора свадеб, отдыха пора. Приходили с остатней работы, отмывались, никак все не могли отмыть рабочую грязь страды, наряжались в сваты и шли. Торопились, пока погода, пока девки не засиделись и не избаловались в холостяках годные уж в женихи, на хлебной корочке прокалывали мочки ушей под дешевенькие серьги девчатам, было это временем всяких, особенно для баб интересных и удивительных подчас новостей, кого только и как не сватали. Всякое рассказывали, что было и не было, смеялись: к Домашкиным приехали, так, мол, и так – ваш товар, наш покупатель… А девка-то у них известно какая. Ну, родители рады до смерти, а виду не дают, разговаривают как полагается: «Да мы вроде пока не думали, молода ишшо…» А та из-за чуланной занавески, да так это со слезой: «Да-а, молода… двадцать два года!..» Сваты «теми же оглоблями» – и назад… От отцовской науки так и ночевала в бане.
Приглашали и отца с матерью, родни хватало. Отец чесал затылок: если идти – нести что-то надо, а еще и вполовину за стройку не расплатились. Глядел: «Ну что, мать, – пойдем? Ты как?» – «Да-к надо бы сходить, свои ж, как-никак, родненькие…» – «Ну, воевать так воевать – записывай в обоз!..» А нынче и вовсе нельзя не идти, племянница замуж собралась. Наказывали ему: «Скотину загони, попои на всякий случай. И главно дело – за братцем гляди, на тебе он весь. А корову прибегу, подою». И прибежала потом мать, вся раскрасневшаяся, веселая, наспех подоила: «Нате-к молока, ужинайте. Я вот вам пельменчиков прихватила оттуда, с калиной – ешьте…» И опять завилась, только бусами рябиновыми, цыганскими, блеснула братику, он во все глаза, как завороженный, на них глядел, на них и на мамку веселую, чудную с непривычки ему. Всем братик хорош, но порою, как вот теперь, будто камень на ногах, от дому не отойди. Правда, глазки уже сонные, набегался, на одном только любопытстве и держится: «Они гуляют, да?!» – «Ага». – «Они там пьют?» – «Пьют, а как же». – «Они молоко пьют, да?..» Поговори вот с таким. И угомонился наконец, лег, за руку его уцепился, глаза уж сами закрываются, а сам все лепечет: «А они как гуляют, все?..» И так и заснул, ротик вопросительно приоткрыл.
С осторожностью он высвободил руку из вялых уже теплых ручонок братца, одеяло подоткнул, подушку еще одну с краю пристроил, не скатится теперь; потом на улицу выскочил, накинул цепку на сенишных дверях, чтобы не зашел кто, не напугал, разбудив ненароком. Казалось, только недавно село в дымах, в туманах осени печальное красное, без лучей солнце, а уж стемнело, и луна успела взойти. Еще не поднялась высоко, нет пока этого неспокойного, будящего, ясно-призрачного в полной силе света у нее; стоит, озаряя крыши едва, соседские на задах черные, облетевшие давно тополя, какие-то смутные подлунные пространства там, печально что-то редеет, невыговоренное, и уж лунный свет прядет свои дрожащие, тонкие, сквозные свои нити. И запах везде – пустого хлебного амбара, складского холодка с затхлостью, с тлением еле осязаемым, склад везде всякого растительного хлама, обветшалых одежд, пустого пока для человека хлеба природы…
Но горит в окнах свет и ходят еще по улице люди. Свадьба там, за проулком, у родни. Издалека еще видно оживление у палисадника, это, наверное, бабы и ребятишки любопытствуют, лезут к окнам. Кто-то уже, теплый, нагулялся, бредет, петь пытается, а то ругаться, и рядом с ним слышится из темноты уговаривающий голос: «Ну, будет… будет тебе, угомонись. Нечево. Отдохни вот, а потом иди опять, мне жалко, што ль… Хоть залейся там». – «Я правды хочу… вот! Я хороших людей люблю, а стервов не люблю! Вот так. И пошли они все к батьке усатому!..» – «Ладно-ладно, правдолюб… Спать надо, отдыхать».
В доме, как огонь в печи, гудела и бухала пляска, метались, качались по оконным занавескам растопыренные тени, глухо вякала гармошка. Большой дом у родни, новый, да и вся улица за последние времена отстроилась, полегчало. Из двери отворенной теплый чад парной идет, несет хмельным, разгоряченным, столы уж вынесены, в самый разгар вошло гулянье. Зашел без стеснения, свои все. Ходуном в передней избе все ходит, половицы дробно дрожат, стены, свет – и тот, кажется, помигивает, утомленная вскрикивает сквозь топот и бабью дробь «цыганочка», угодить старается:
Ходи, печь, ходи, печь,
Ходи и голанка… —
а в задней за вынесенным для них столом с закускою и графином сидят несколько мужиков, средь них и отец; сидят, сблизив, склонив друг к дружке потные лбы и волосы, толкуют:
– …мы им, мериканцам, в случае чего хвост завернем… юшкой умоемся, а завернем!
– Мордой своей да по ихнему кулаку – так, што ль?
– Ничего-о… нынче не старые времена. Сила другая. А он слабак, я в Австрии поглядел. Развинченный, бойкий вроде, а немец чуть поднажал – он и лапки кверху. Он кнопками теперь хочет… ничего. Кнопки и у нас есть. А уж она, дура атомная, разбирать не будет…
С ними и дядя Крикун, и уже хорошо подпитой сидит – значит, плакать скоро начнет, по-уличному – «кричать»… У него справа от наружного уголка глаза шрам вниз по скуле, гладкий такой, блестящий, со стороны глянешь – ни дать ни взять плачет. Отец говорит, что это он на походе ночью сморился, заснул на ходу, ну и напоролся на штык впереди идущего; хорошо еще – глаз уцелел, а то могли бы и в трибунал сдать, «за порчу казенного имущества», это отец с усмешкой сказал. А плачет по войне, братков поминает. Все уж давным-давно привыкли, посмеиваются: «Что он, как?» – «Да што ж… опять кричит! Как ребенок, пра-слово…» И точно, уже на мокром месте глаза, не слушает, что ему говорят, в стол уставился; уже набирается в нем слеза, сил держать ее нету – и вот рукой махнул широко, графин чуть не сшиб:
– В-вы!.. Слушать сюда! Я вам щас песню… какая песня! – Мотнул головой, покривился, справился. – Среди доли-ины ровныя, на глад-кой вы-ысоте… Слышь, а?! Стоит оди-ин, бед-няжечка… как не-е-крут на часах… Бедняжечка – а?! Какую душу надо-ть иметь – дуб пожалеть, могучий! Слышь – могучий, дуб-то! Сочинил-то кто, а? Узнать бы… душа тот человек. Не кого-нибудь – дуб пожалел…
– Народная это.
– Не-с… народ народом, понятно, а кто-то ж сочинил?! А мы… это… поем, спасибо вот говорим.
– Какая те разница, главно – наш. Давай-ка еще, што ль, по единой…
Гармошка уже выдохлась там, сомлела, еле ладами перебирает; и вот стала, гомон этим, смех подняла, это к гармонисту: «Что, взял?! Так-то он?!» Выходили, на улицу валили, распаренные пляской; и мать со смехом вышла, утирая лицо зажатым в руке платочком, изнеможенная, довольная, и увидела его, на миг было озаботилась: что?..
– Да ничего, спит он. Я просто так, поглядеть… я домой скоро.
– Ты есть-то как, милок, не хочешь? А то вон к тетке Марфуне, только скажи ей… Она тебя ить любит. Иди скажи. А я охолону.
– Не простынь гляди…
Мать со смехом опять обняла его, чмокнула в макушку, и он сурово отстранился – вот еще… Как-то неловко, нехорошо даже видеть мать веселой такой, хмельной малость, тем более пляшущей. Отца еще куда ни шло, а вот мать… Нет, неловко. И что развеселилась, сердито думал он; нашли тоже веселье – плясать. Уж лучше бы… Но вот что лучше, он никак что-то не мог придумать. Ну, танцевали бы мирно, пели бы, что ль. Но и пела мать таким высоким, истошным прямо порой голосом, что лучше уж не петь, чем так… Мать только улыбалась: «Да-к я виновата разве, что у меня голос такой?.. Все на разные голоса поют, я на свой. Когда вместе если петь, то каждому свой надо голос тянуть, иначе ить не получится ничего… что было б, если все на один голос бы затянули? Да ты-то что, миленок, заботу себе на голову взял… не хошь, так и не слушай, делов-то».
И отец заметил, ухмыльнулся ему – что, мол, казак?! А тут молодые вышли, Катюшка впереди, а жених ее следом шел, малость приусталый, но веселый, трезвый, бабы говорят – «как цветок».
– Ваня!.. – будто впервые увидели его мужики, обрадовались. – Ванек, к нам давай, слышь, это!.. Да брось ты ее, успеешь еще наваландаться… всю жись будешь, еще надоест! А ты с нами давай, а?! И-ех, один черт – пропадать… один табак, что для девок, что для баб! Простися, значит, с волею… Ванек, милай! Нет, ну ты уж присядь!
Жених с улыбкой качнул головой; засмеялась, ласково на него глядя и на зазывал, и невеста, под руку мягко, упреждающе его подхватила – не отдам! Не узнать Катюшку, как другая совсем. Какое-то, словно от дней этих, сияние тихое в ней, что ли, неизъяснимое, некая тайна, сама себе еще не ясная, не подчиненная и потому будто опасная даже чем, и во всем это у нее – в блестящих, а то со странной, призывно мерцающей поволокой глазах, в губах женских припухших, в неуверенных немножко, как не донести что боится, движениях… Радость с неспокойствием зовущим каким-то, ласковые, но и беглые ко всему взгляды, будто дальше куда, сквозь тебя глядит, в себя, тревогу свою, пусть малую, и печаль какую-то скрывая от всех, что-то пока запретное для него, не то чтоб нехорошее, но лучше не глядеть. Вот и Санек машет из сенцев освещенных, мигает усердно – что ты, мол, застрял там… пошли!
В старой, в глубь двора передвинутой избе зимой тепляк, а сейчас что-то вроде кухни. Родня тут, девчата хлопочут, прибираются, а всякой едой оставшейся два стола заставлены, ешь не хочу, сюда-то и звал Санек. Всех он растормошил, сумел даже гусятинки раздобыть, прямо у стряпух из-под носу уволок, на что тетка Марфуня, совсем нынче добрая, только рассмеялась, довольная, на внука глядя: «Ну восте-ер!..» И поели кто что хотел, до отвалу наелись; а пляска между тем ко двору переметнулась, под окна освещенные, а потом опять нашлись охотники, кто помоложе, пройтись с гармошкой, с присвистом по улице, и табунок их, про очередного «миленка» припевая что есть сил и про Берия, который «вышел из доверия», направился в верхний конец; и долго еще наступившую лунную тишину тревожила гармошка, обрывки звуков ее то всплескивали там, так рыбья мелочь всплескивает на дальнем вечернем плесе, то невнятной скороговоркой прибавляли что-то, приговаривали к молчанию окрестному, стынущему, уже овладевшему всем.
А он как очнулся. Он про братца вспомнил, и таким беспокойством, испугом горячим вдруг взяло… он как там? Вдруг проснулся, а кругом темно и никто не отзывается, как ни зови, молчит, и зачем оно все молчит – неизвестно, страшно… Луна зависла над головой, настигла, неясный гнет ее на всем, невыразимый, собаки даже не брешут, ни огня в окнах, немые в них лишь отсветы холодные, отблески, тусклые кое-где звезды и, как сон, призрачно-серые за рекою плоскогорья – грезят, но не спят, нет. Не до сна, когда так светит, душу оголяет, не оставляя надежд на забытье, на покой…
Лунный свет гнал его, казалось, гнал до самого порога. И когда переступил он его, унимая сердце, тише стараясь, вступил в теплые домашние, столяркой еще отдающие запахи, в стоячий светлый туманец взвешенный, в жилую, подтверждаемую ходиками тишину дома – будто руку тяжелую, настигнувшую, с плеча сняло и не стало никого сзади. Посапывал за ситцевой занавеской, ручонку безвольную откинув, братик, и дом, такими трудами поднятый, вокруг был, хранил; заглядывала сверху в окно луна, высокий свой беспокойный свет посылая, но не достигая уже, не дотягиваясь, слезясь только в чисто промытом, протертом стекле, стеля по полу свои лунные переплеты; глядели из сумрака со стены три сестрицы-хранительницы, и чутко дремали, тоже свое охраняя и отгораживая, бязевые незатейливые шторки, с тишиною разговаривали ходики.
Он еще заглянул к братику, удостоверился и вышел, потеплей запахнув телогрейку, сел на порог, глядя и ни о чем уже не думая.
Пустынным было поднебесье, обкраденным луною, осенью; голы недвижные, мертвы подъятые ввысь тополя, ставшие вдруг корявыми ветлы, оголен дол, безотрадно и чего-то жаль. Настыл, резче обозначился воздух, отчертил тени; струнами натянулся и посеребрел свет, замерцал, и запахи истончали, что-то от кладбищенского, от тления листа палого, душ над могилами… чего жаль? Все будет, повторенное несчетно, будет всегда. И не нам это жаль – нет, не нам только. Всему, мы лишь от имени всего сказать что-то пытаемся, бессильные, в слово лишь облечь – но что слово? Опавшая листва, жизнь, на лету сгоревшая. Всему жаль невозвратного, и есть на свете высокая, щемящей какой-то грусти нотка, не многим и не всегда внятная. Просто есть в свете, как и радость, печаль, со своим правом на время и место есть, на дом свой, прибежище, как оно и положено всему; и вот дома она, а мы в гостях. Это ее все растревожившая, тоску по теплу, по родному разбередившая луна, ее летящая в бездну кротко листва, тленный холодок прощальный, потянувший неведомо откуда, и все какие ни есть предопределения – все ее…
Но тогда, на теплом пороге своем, он вовсе, кажется, не думал ни о чем. Он просто сидел, глядел, куда глаза глядели – на улицу молчащую, на избы, похожие на хозяев своих, но самое сокровенное свое будто в густых полуночных тенях спрятавшие, на палисадники и огороды, надолго теперь уснувшие, и над ними домашнюю луну, услышать пытался вовсе затерявшуюся где-то гармошку и ждал отца с матерью, спать совсем не хотелось.
На второй день гуляли у жениха, на дальней за клубом улице. Застолье обещало быть поздним, и потому позвали-вызвали от дядьки на хозяйство бабушку: давно хотела побывать, «на унуков поглядеть», мелкие разгрести дела – всегда хватает дел, домок невелик, а присесть не велит.
Они с братиком по воскресному времени еще только встали, а уж она пришла, никогда себя не заставляла дожидаться. Вошла, первым делом на икону, не глядя ни на кого, покрестилась, ее одну только видя перед собой, а уж потом долу глаза опустила, на братца, который потопал было к ней навстречу, побежал – но вот, не добежав, стал, с готовностью глядя, со слабой узнающей улыбкой, чуть-чуть недоверчивой, но уж согласной: берите меня, вот он я… И такая ж немногая улыбка тронула и ее сухие губы; из черного платка, узелком связанного, достала бублик-витушку и яблочко морозно-зеленое и, нагнувшись, протянула ему: «На-кось, держи. Чай, соскучился по бабке?..» И он закивал, а она погладила его корявой рукой по волосикам и затем уж и на них глянула, на всех: ну, как вы тут?..
Мало у кого такая бабушка, бабаша, как у них. На что уж мать завистная в работе, горячая – а и та первой сдает, не тягается: «Еще за меня свекровушка, – скажет, и не очень-то одобрительно скажет. – Сама не посидит и другим присесть не даст… это ж каторга, а не жизнь. Старая, а меры не знает. Нельзя без меры, завещано, дюже хорошо – тоже нехорошо; да ить ей разве докажешь?!» Соскучишься, приедешь к ним на велосипеде, на минутку заглянешь только, а она уж будто и недовольна: «Ты б лучше дома что сделал, нечево раскатывать… Калину-то обобрали, ай опять до снега? Скажи матери, пусть поране рубит нынче капусту-то… Ежжай, скажи, паси Бог тебя». Сухая, в свои годы еще высокая, в темное всегда, кроме белого платочка по праздникам, одетая, целыми днями она копалась одна в огороде, никогда помощи себе не прося, или в амбаре, все что-нибудь перебирая, от картошки до крупы; вся ее самая кропотная, где терпение надобно, работа была. Весь двор на ней, дом, не разгибается, а все мало, сокрушается – день ей мал… К другим же у нее один разговор: ты бы это сделал, да то, да другое – на мельницу не едешь, так телегу наладь… Не то чтоб суровая, нет; она ведь и жалеет, и скучает, только работа у нее всегда наперед.
Нарядились наконец и ушли отец с матерью, напоследок услышав: «Ишь разгулялись, удержу на них нет…» – «Так второй всего день!» – «Ну и что, что второй… а и в первом добра мало». И тотчас уселась и его на пол усадила перебирать наспех, с листвою и веточками даже, сорванную калину, вязать в пучки спаренные. Только начали, вороха целые этой калины, да мешок в сенцах набит стоит – тоска, а она уж за свое: «Ты бы, как вот кончим, на варке бы вычистил… да и навоз-то, гляжу, весь куры раскидали, разрыли, куды это годится? Нечево ему по всему двору, собери. Сенцо-то, гляжу, не возили? Не возили, бурана все дожидаетесь…» Братика же уговаривать не надо, сам взялся за калину; но и трех растрепанных кургузых пучочков, которые он отдавал бабаше перевязывать, не набрал, как стал зевать, оглядываться – и, увидев закатившееся далеко под кровать деревянное в облезлой краске яйцо, игрушку их стародавнюю, оставил не задумываясь все и полез за ним. И бабушка глянула на него строго, но ничего не сказала.
На улице воскресенье, поблекшее солнце опять; ребята небось на берега пошли по чистым зарослям полазить, на воду студеную, до дна прозрачную, поглядеть, всю теперь зиму тосковать им по воде, во снах плавать не наплаваться, – а ты сиди. Сиди, будь там хоть праздник для всех годовой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































