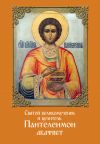Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Теперь мы наконец на верхней площадке лестницы; под строго классической колоннадой посреди высокая дверь – в зал Совета. Из дверей коридора справа выходит группа лиц с понурым и сумрачным Гучковым100 и с юным сияющим красавцем М.И.Терещенко во главе. Слева же к средней двери в зал пробегает белый как бумага Милюков, – он, обыкновенно обладающий удивительно цветущим видом. Терещенко, заметив Шаляпина, направляется к нам. Он весь какой-то улыбчивый и держит себя не как демократический министр, а как милостивый принц. Однако говорит совершенно осипшим голосом. Остальных из этих внезапных вершителей судеб не примешь за сановных министров, а скорее они производят впечатление каких-то дожидающихся своей очереди просителей.
Все это время я не переставая ищу глазами того, кто меня более всего интересует… Где же Керенский?! Наконец я спрашиваю о том Терещенко. «Да вот он – там, под колоннами», – указывает он мне на «очень молодого человека», беседующего с Гучковым, сидя на скамейке для сторожей у дверей в зал, и я узнаю в нем того беспокойного, стремительного «юношу», который уже не раз за прошедшие три четверти часа проносился мимо меня и которого я принимал за какого-то чрезмерно усердствующего писаришку. Я не откладывая направляюсь к нему, чтоб лучше его разглядеть, но в это время он срывается с места, расталкивает и огибает группы, прямо подбегает ко мне с протянутой рукой и быстробыстро говорит: «Здравствуйте, я – Керенский, пойдемте, здесь невозможно говорить!» Вероятно, на меня ему указал Горький или Гучков в какой-то не замеченный мной момент.
Пожав, все с той же поспешностью, руки остальных, он как-то сбивает нас в одну кучу и почти бегом проводит нас через три комнаты в отведенную ему невзрачную комнату в одно окно – имеющую вид не то приемной, не то лакейской. С нами в одной куче, кроме меня, Шаляпина, Неклюдова и Львова (Горький опять куда-то исчез), оказывается совершенно нам незнакомый и до тех пор не замеченный человек; это близкий приятель Керенского – инженер П.М. Макаров101. Не успели мы рассесться – частью на двух креслах, частью на боковом деревянном диване, а Керенский за невзрачным письменным столом, – как последний принялся говорить, и почти сразу разговор принял какой-то обостренный характер и переходит в спор.
Создается атмосфера, напоминающая безумные главы в романах Достоевского. От природы уже испитое лицо Керенского сегодня показалось мне смертельно бледным. Совершенно ясно, что этот человек уже много ночей совсем не спал. Выражение лица кислое – но ему это вообще свойственно, он, видимо, очень редко улыбается, пожалуй, никогда не смеется. На нем черная, застегнутая до самого ворота тужурка, что придает ему несколько аскетический, но и очень деловой вид. Говорит он громко, моментами крикливо, высоким фальцетом, с головокружительной стремительностью и с легким пришепетыванием (происходящим от поджима нижней губы). Изредка внезапно среди фразы он останавливается, кладет голову на ладонь, закрывает глаза, точно засыпает или впадает в обморочное состояние, но затем снова пускается вскачь, продолжая начатую и оборванную на полуслове фразу. После только что нами отведанной бездари и просто российской вялости Керенский производит необычайно возбуждающее впечатление, и определенно ощущается талант, сила воли и какая-то «бдительность». О да! Это прирожденный диктатор!
Но спокойно с таким человеком едва ли можно что-либо обсудить, и постепенно наша беседа сразу переходит в спор, тем более что Н. Львов с момента входа в комнату Керенского стал неузнаваемым. Из ласкового, утрированно-вежливого джентльмена он превратился в какого-то петуха, злобствующего и пробующего наскочить то с одной, то с другой стороны на противника. Видимо, он в своих дворянских чувствах в высшей степени оскорблен, что какой-то «мальчишка», не дворянин и ничтожество, вдруг позволяет себе им «распоряжаться».
Львов сразу стал отказываться от своего только что полученного поста, после того как Керенский, уже посетивший сегодня Зимний дворец для решения, годится ли дворец как помещение для Учредительного собрания (он решил, что не годится), поручил дальнейшее наблюдение за дворцом Макарову, не потрудившись посовещаться с ним, Львовым, об этом. Бедный Львов, запинаясь от волнения и возмущения, это ему и поставил на вид и объявил о своем отказе от поста. На это Керенский, повысив тон, заявил, что Львов не может отказаться, и тут Львов стал кричать: «Как так! Не могу? Кто может запретить? Дайте папиросочку. Да вот я и отказываюсь. Я отказываюсь, и баста! Никто в мире, и менее всего вы, не может мне в этом препятствовать!»
И действительно, остается необъяснимым, почему не только Зимний дворец, но и все дела Министерства Двора оказались вдруг в ведении Керенского. Разве только потому, что он уже на пути к диктаторству? Неклюдов мимоходом шепнул мне: «О! Он поразительно талантлив, он единственный из них из всех (намекая на министров), который что-нибудь делает!» И вот поэтому Керенский и на пути к диктатуре. Остальные как работники никуда не годятся, и естественно, что вся работа должна фатально сосредоточиться в его руках!!
При этом я не могу упрекнуть Керенского в определенной и оскорбительной бестактности. <…>
Не могу скрыть от себя, что во всем поведении, во всей манере быть и в разговорах Керенского много наигрыша, «каботинажа», но актер он, во всяком случае, неплохой. Кроме того, я думаю, что известный каботинаж, при подлинном уме и прозорливости, вещь для государственного деятеля не столь уж и плохая…
Из дальнейшей беседы выяснилось, что Керенский нашел Зимний дворец в образцовом порядке, что Царскосельский дворец (который он тоже уже успел посетить) он поставил под надежную охрану и что вообще приступил к урегулированию всей деятельности по бывшему Министерству Двора. <…>…К нашему выступлению он отнесся «с величайшей благодарностью» и высказал разные общие пожелания успеха. Для него это действительно козырь, заключающийся в том, что он может как бы опереться на целую группу лиц, пользующихся авторитетом в данной области. И все же, что именно он от нас ждет, он так и не высказал, а са мая наша беседа оборвалась внезапно после того, как в дверях появился какой-то курьер, вызвавший Керенского в Совет. Стремительно собрав разложенные перед собой бумаги, Керенский сорвался с кресла и, ни с кем не простившись, ринулся вон из комнаты…
Обедать нас потащил к себе Неклюдов, живущий на Михайловской площади, в особняке через дом с особняком покойного П.Я. Дашкова102, а по другую сторону с Михайловским театром. <…>
Самое наше (первое!) заседание состоялось в другой (небольшой) столовой, в нижнем этаже, за красным сукном. Занялись мы сразу составлением «обращения к массам», направленного к предотвращению «вандализмов». Из четырех текстов Горького, моего, Шаляпина и Билибина103, как это ни странно, наиболее удачным и целесообразным оказался последний. Затем Шаляпин ознакомил нас со своей несколько туманной мечтой о новом театре, и, наконец, было решено целой группой отправиться в Петергоф, чтоб убедиться на месте, что все там в порядке.
Уже мы собирались расходиться, когда около полуночи нежданно-негаданно вваливается группа из четырех человек – представителей Общества архитекторов-художников, откуда-то узнавших о нашем собрании и поспешивших явиться под видом ближайших союзников и с призывом к вящей осторожности, как бы де нам не навлечь на себя обвинение в самозванстве. Возник нелепейший разговор, который стал грозить перейти в ссору <…>. И в этой глупейшей интермедии мне с ясностью представились вообще те испытания, которые ожидают «обновляющуюся Россию». Отовсюду теперь вылезут такие же дилетанты-демагоги. Ведь успела та же четверка предложить где-то услуги по устройству торжественного погребения «жертв революции». Она даже выбрала и самое для того подходящее место: площадь перед Зимним дворцом! Под видом борьбы за свободу, за «коллективное начало» и пуская в ход всякие новые для них же лозунги, они пролезут до нужных им вершин, и станут эти репетиловы и Хлестаковы оттуда только мешать людям более компетентным делать настоящее дело.
Вернулся я домой в половине третьего, проделав весь путь от Михайловской площади до 1-й линии пешком и перейдя Неву по льду. <…>
Всюду полная тишина. Акицу я разбудил и не мог удержаться, чтоб тут же в главных чертах ей не рассказать про наши похождения и поделиться тем воодушевлением, которое в нас вызвала встреча с Керенским. Должен сознаться, что меня пленит даже его столь, казалось бы, неказистая внешность, кисловатое выражение лица, бледность, что-то напоминающее не то иезуита или ксендза, не то… апаша. Именно такие люди, пусть лукавые, но умные, талантливые люди, одержимые бешеной энергией, а не «профессора» вроде Милюкова, или «кристально чистые» джентльмены вроде Н. Львова, или изящные монденные англоманы вроде Терещенко, могут сейчас сделать нечто действительно великое. Уверен, что и в главном вопросе всего настоящего момента, в вопросе о войне, Керенский поведет ту линию, которая сквозила уже в его думских речах. Мне очень захотелось быть в ближайшем контакте с ним. И ему я бы мог быть полезен.
19 марта (6 марта). Понедельник. Может быть, «мы и нужны», но как бы и здесь все не остановилось на добрых намерениях. Это сомнение возникло у меня сегодня, после того, что П.М. Макаров, официально назначенный «комиссаром по дворцам» (что это такое?), сообщил мне о своем намерении пригласить вместо Н.Н. Львова некое лицо из Москвы, имя которого он предпочитает пока держать в секрете. Кто бы это мог быть? <…> Казалось, тут бы и посовещаться совершенному новичку в этой сфере с нами. И почему-то мне кажется, что этот «эстет» Макаров не остановил своего выбора на Грабаре или ином действительно заслуженном деятеле, а опять остановился на каком-то «барине». Вообще, увы, ничего особенно хорошего я уже от него (да, пожалуй, поглядев вчера на всех наших «вознесенных до высшей власти») и от всего Временного правительства в целом, от всяких этих наших типично российских «либералов», не вижу!
Сегодня <…> я отправился на второе заседание у Неклюдова. Кстати, я совершенно убежден, что и этот «парламентарий без места» хочет с нашей помощью найти себе какое-либо амплуа вблизи высших правительственных кругов. <…>
Заседание прошло в обсуждении, каким образом правительство должно нас утвердить – под названием «Комиссии по художественным делам». Составлена новая бумага с предложением нашего сотрудничества… И снова тревога, так как, по слухам, хоронить «жертв революции» собираются на площади Зимнего дворца, где со временем предполагается соорудить грандиозный памятник. Ввиду этого памятника так и захлопотали господа архитекторы. Тут является и опасность, как бы стотысячная толпа, которую привлечет погребальное шествие, под влиянием каких-либо шалых демагогов не ринулась бы на самый дворец и заодно на Эрмитаж! <…>
Встревожили нас (меня в особенности) и известия, полученные (наконец!) из Петергофа. Местная автомобильная рота, помещенная в Придворных конюшнях, объявила, что она не желает дольше оставаться в этом здании (считая такое помещение ниже своего достоинства «освободителей народа»), а требует, чтоб ей был отведен сам Большой дворец. <…>
20 марта (7 марта). Вторник. Вихрь, захвативший меня, крутится все быстрее и быстрее, и это лишает меня возможности вести эти записи с достаточной последовательностью и полнотой. <…>
В.А. Верещагин104 затащил меня <…> к себе «выпить стакан красного вина». У него оказалась сравнительно молодая супруга, не поразившая нас особым изяществом своих манер. Вряд ли можно назвать ее дамой. Сам Василий Андреевич, видимо, уже оправился от первого испуга. Впрочем, я всюду замечаю тот же тон «приходящего в себя обывателя», уже решившего, что худшее миновало, что можно считать революцию недействительной. Слышатся даже первые проблески пропаганды не только в пользу монархии вообще (против чего я ничего не имею), но и в пользу лично Николая II.
<…>
В кухне тоже перемена настроения. Недавно все четверо наших кухонных дам пылали негодованием на полицию, а нынче уже плачут над погибшими городовыми. Всех тронули умилительные похороны этих «обратных жертв революции». Мне эта расправа с полицейскими представляется самым темным пятном на порфире нашей «бескровной». Извели людей за то, что они были верны своему долгу!
21 марта (8 марта). Среда. Сегодня наконец состоялась наша поездка в Петергоф. Дивный яркий день без ветра. Выбрался из дому за полтора часа, ибо и на сей раз пришлось шагать через весь город пешком. Извозчики совершенно исчезли, трамваи еще не ходят. При входе в Балтийский вокзал грозные пулеметы. На вокзале, битком набитом солдатами, с трудом отыскал Макарова. Ехали (в вагоне 1 класса, но без билетов) и туда, и обратно стоя, так как все сидячие места заняты солдатами или их поклажей. Дышать почти нечем. Однако поезд (в 10 ч.) отошел без запоздания. <…>
В Петергофе все как будто обстоит вполне благополучно, хотя насмерть перепуганный генерал Лермонтов105, произведший на нас впечатление порядочной развалины, ничего со своей стороны не предпринял для ограждения дворцов. Лишь одна шальная пуля от проходивших мимо
Большого дворца ораниенбаумцев пробила где-то окно. Однако настоящих сведений о далеко лежащих дворцах и павильонах – о Собственной Его Величества даче, о Бабигонском Бельведере, о Павильоне Озерков, о Мельнице и т. д. – он вообще сообщить не мог (ну как самому не прокатиться и не поглядеть собственными глазами!). Более осведомленным оказался архитектор Миняев, который уже вошел в контакт с новыми городскими властями (исключительно военными, солдатскими) и даже «отлично с ними ладит». С ним мы и проехали к «папашиным»[130]130
Императорские конюшни в Петергофе были построены в середине XIX в. Николаем Леонтьевичем Бенуа, отцом Александра Николаевича Бенуа.
[Закрыть] Придворным конюшням – со специальной целью урезонить автомобильную и циклистскую роты, имеющие намерение завладеть Большим дворцом. Как раз попали на приготовления к затеянному «дозору» по дворцам с целью поисков оружия (это якобы для успокоения населения!). Я был польщен тем, что среди толпы этой военной молодежи сразу оказалось несколько юных «прапоров», для которых мое имя было знакомо и которые что-то из моих писаний читали. Добрый знак. Вообще же удалось необычайно быстро договориться по всем пунктам. Все оказались вполне сознающими важность сохранения такого сокровища, каким является в целом Петергоф, и сразу наметилась организация самой охраны. <…>
22 марта (9 марта). Четверг. <…>
Уже сняты бронзовые золоченые орлы с ворот, ведущих во двор Зимнего дворца; на воротах же в сад при дворце они еще красуются.
23 марта (10 марта). Пятница. <…> Утро снова провел в составлении проекта по реформе Эрмитажа. Мне главным образом хотелось бы сделать наш музей более доступным массам, и, имея это в виду, нужно первым долгом в корне реформировать Эстампный отдел. Вернулся я и к реализации своей заветной мечты о создании Историко-бытового музея – и это в Зимнем дворце.
<…>
Удивительно, как незаметно во всей заварившейся сутолоке проходит известие об аресте царя. Возмутительны все те пакости и пошлости, которые теперь изрыгают по адресу этого «лежачего» всякие негодяи <…>.
Случайно встретил (еще вчера или третьего дня на Невском) С.И. Шидловского. По его сведениям, положение на фронте улучшилось, а то первые дни было совсем плохо: беспорядки, красные флаги, отказы целых частей исполнять приказы, открытое дезертирство, убийства офицеров. Но в Кронштадте безобразия продолжаются вовсю. Из другого источника слышал, что дезертиры потянулись с фронта целыми массами. Мне кажется, во всяком случае, мы воевать дольше просто не в состоянии. Надо только надеяться, что Милюков это поймет и отложит (хотя бы на время) свое «до победного конца» и свою мечту водрузить крест на куполе св. Софии…
<24 марта (11 марта) – 29 марта (16 марта) >
30 марта (17 марта). Пятница. Отличная статья 3. Гиппиус106 о Петербурге с помещением ею уже давно знакомого стихотворения[131]131
Стихотворение было написано 14 декабря 1914 г., но в нем, по признанию 3. Гиппиус, уже было предчувствие февральских и мартовских дней 1917-го.
Петроград
Кто посягнул на детище Петрово?Кто совершенное деянье рукСмел оскорбить, отняв хотя бы слово,Смел изменить хотя 6 единый звук?Не мы, не мы… Растерянная челядь,Что, властвуя, сама боится нас!Все мечутся да чьи-то ризы делят,И всё дрожат за свой последний час.Изменникам измены не позорны.Придет отмщению своя пора!Но стыдно тем, кто, весело-покорны,С предателями предали Петра.Чему бездарное в вас сердце радо?Славянщине убогой? Иль тому,Что к «Петрограду» рифм гулящих стадоКрикливо льнет, как будто к своему?Но близок день – и возгремят перуны…На помощь, Медный Вождь, скорей, скорей!Восстанет он, всё тот же, бледный, юный,Всё тот же – в ризе пламенных ночей,Во влажном визге ветреных раздолийИ в белоперистости вешних пург, —Созданье революционной воли —Прекрасно-страшный Петербург!
[Закрыть], и, увы, как нарочно, в моем фельетоне наборщики (или корректоры) переделали Петербург на гнусный Петроград. <…>
31 марта (18 марта). Суббота. С 9 часов поездом поехал в Царское убеждать, чтобы не хоронили местных жертв революции на площади перед Старым дворцом, и заодно осмотреть дворец… <…>
Осмотр дворца и места, избранного нами для погребения, навел меня на грустные размышления. Когда мы топтались по перекрестку, обсуждая, хорошо или нехорошо будет здесь стоять памятник, я все время думал о том, что из окон ротонды на нашу группу поглядывает унылый взор царственного узника. И не так жаль его, как досадно на него, что этот человек так нелепо, так бездарно проиграл свою игру, не только сам не сумел воспользоваться неограниченными возможностями, предоставленными ему его положением, но и вообще загубил самый источник этих возможностей! Кстати, никакой охраны и в этой части парка не видно. Хорошо ли берегут Николая? Вообще, я непрестанно думаю о том, что слишком скоро и вполне все успокоились, и как бы жестоко за это не поплатиться России. Сейчас он жалкий, но завтра он может стать всемогущим, и расплата тогда будет столь жестокой, как и бессмысленной. Нам авось сойдет? Авось ему не воспользоваться сонливостью революционного Аргуса, ибо он сам сонлив, сделан из того же национального теста, как и вся масса недовольных им подданных! <…>
<1 апреля (19 марта) >
2 апреля (20 марта). Понедельник. Внутреннее неудовольствие растет. И на то имеются веские причины. Начать с того, что я вообще выбит из колеи, очень устаю от непрестанной суеты и мало отдыхаю на чем-либо действительно дельном. Для личного творчества совсем не хватает времени. А затем меня начинает пугать, что я все глубже увязаю в той тине, в которую я вошел добровольно и по чувству долга и из которой я не знаю, как выбраться. Чувство увязывания обусловлено тем, что я никак не могу нащупать почву, на которую можно было бы стать. <…>
К сожалению, я переживаю одновременно разочарование в своих живописных работах. Об «Азии» я даже думать боюсь. На «Европу» я попросту махнул рукой. На плафон Мекка стараюсь не глядеть. Все прервано, во всем утеряна нить творческой радости. Моментами ужасно хочется… заболеть, слечь на месяц в постель, полежать в полузабытьи. Может быть, даже отведать страха смерти для того, чтобы лучше оценить жизнь! Или еще – уехать бы из России вон, хотя бы в Германию. Неужели и летом я не поработаю просто, не оздоровлюсь художественно на натуре, не забуду о городской суете среди природы?
<…>
<3 апреля (21 марта)>
4 апреля (22 марта). Среда. Ясность утра побудила меня сегодня взяться за брошенную на полпути «Зиму». Однако за три часа работы я только успел окончательно разочароваться и даже прийти к решению – вовсе отказаться от удручающего меня заказа. После этого полегчало, но, спрашивается, надолго ли хватит этого решения? Вообще, мой мезальянс за последние дни очень усиливается. Тут всё вместе: и внешние обстоятельства, и личные переживания. В живописи и рисовании (иллюстрации не клеятся) я все как-то до сих пор, несмотря на свои 47 лет, не могу найти своих настоящих приемов. Работу над историей живописи я совсем забросил вследствие ощущения, что все равно теперь из этого ничего не выйдет. Сотрудничеством в «Речи»[132]132
Ежедневная политическая, экономическая и литературная газета, выходившая в 1906–1917 гг.
[Закрыть] я все более тягощусь. <…> Ну а в смысле внешних обстоятельств – все сводится к ощущению накапливающейся грозы. Гнет при этом не столько то, что одна из молний может поразить тебя и твоих близких, а то, что вообще «страшен гнев Господень». А гневу нельзя не быть. Идиотизм, гордыня, злоба, ложь, корысть, лукавство – все пороки гниющей культуры не могут добровольно уступить требованиям добра или хотя бы простого здравого смысла! Облагораживающее сознание собственной ничтожности не желает встать с повинной пред лицом Судии! Завязывается смертный дьявольский бой. И разумеется, дело здесь не в немцах, русских или «союзниках», а в том, что или должен восторжествовать принцип какой-то человечности, или все человечество должно захлебнуться в крови, запутанное в безысходном безумии! Более чем когда-либо я ощущаю всем своим существом, что нужно кончать войну немедленно и во что бы то ни стало, именно нужно! <…> Нужно кончать, пока голод и вызванная им анархия и сами не прикончили нас (вместе со всем прекрасным, что имеется в культуре). <…>
<…>…Прошелся с Макаровым по северо-западному квадрату Зимнего дворца. Этот «Ночной дозор» тоже не способствовал тому тяжелому настроению, в котором я сейчас нахожусь. Жутко ощущать еще не остывшее и как-никак дорогое мертвое тело. Жутко гулять по чертогам твердыни, построенной на века, а ныне погрузившейся на дно бездны. Все еще так, как было. Все в образцовом порядке: те же величавые портреты, то же обилие золота, полированного мрамора, бронзы, хрусталя, так же почтительно бесшумно скользят кланяющиеся на ходу лакеи, оставшиеся на ночное дежурство. Но хозяев нет, они ушли. Какая мощь во всем! Как глубоко заложены фундаменты этой цитадели, как прочно завязаны канаты, которыми этот державный корабль был скреплен с другими такими же кораблями! Вот серия андреевских сановников и фельдмаршалов, вот Мольтке107, Фридрих108, какие-то чужеземные принцы и герцоги. Вот сам грозный Николай Павлович в казацком мундире. Сколько положено труда, какие принесены жертвы, сколько мучительной, кропотливой, созидательной работы, запасливой на века вперед! Какая сложная огромная культура! И вот нужно было, чтобы в один недобрый вечер Александр Александрович109 вошел к своей Дагмаре110 и зачат был тот, благодаря которому все это огромное, по-своему святое (во всяком случае, всячески освящаемое) развалилось, как карточный домик: ни шпицрутены, ни Сибирь, ни блеск, ни Победоносцев111, ни Сперанский112, ни Витте113, ни уроки «сверху» (несчастье с сыном), ни советы снизу (Распутин) не помогли, не спасли. Механизм часов вдруг остановился, машина встала, – и в этом своем сказочном оцепенении она являет несравненно более трагический вид, нежели если бы от только что минувшего остались бы развалины, обломки, груды пепла.
«Что это за лестница?» – спрашиваем мы седенького гоффурьера с баками. «Это фрейлинская, по которой фрейлины сходят, когда бывает прием». И это жутко: для него они еще сходят, для него еще приемы не отошли в вечность, возобновятся завтра, послезавтра. Спрашивается, какие мысли должны сейчас роиться в этих головах? Какую по-своему глубокую драму должны они переживать! Ведь в них не могла сразу умереть та культура, те традиции, которые в иных лакейских династиях утверждались веками. Старенький гоффурьер, несмотря на выраженную им готовность служить новым господам, кажется мне совершенно убитым. И тут же возникает другой вопрос: да все ли действительно бесповоротно кончено? Так-таки и не вернутся хозяева, которых все здесь ожидают? Последний актер этой пьесы был настолько плох, что нет шансов на ее возобновление. А пессимизм мой все же мне нашептывает: можно и возобновить; но что с теми же актерами – рассчитывать не надо, а что тут будет властвовать достойный – на это надежд нет совсем никаких.
<…>
5 апреля (23 марта). Четверг. День погребения жертв революции. Утром сыпал мелкий снег, но к 12 часам он перестал, а к вечеру моментами даже стало сквозь разорванные облака выглядывать солнце. Дали на Неве вырисовывались очень отчетливо; на площадях, улицах и на крышах – масса снега. Странный вид являют деревья, запорошенные лишь с одной стороны свирепствовавшей еще позавчера пургой.
Кухни и дворницкие сулили на сегодня самые страшные вещи: общую резню и т. п. Наш Дементий даже замкнул парадную и никого не желал выпускать. <…>
На самом же деле пролетарии себя обнаружили с самой выгодной стороны. Они соблюдали во время всех шествий и манифестаций строжайший порядок, и это стало ясно с первых же эшелонов погребальной процессии.
Наиболее отважные решились даже выйти из своих нор на улицу. Сначала и мы глядели на шествие из окон Зининой[133]133
Из квартиры Серебряковых.
[Закрыть] квартиры (рядом с нами в доме), но затем, из-за одной слишком затянувшейся паузы, мы сошли вниз с 4-го этажа, вышли, дошли до набережной и далее в обществе Зины и приятеля ее мужа совершили обход почти всего города; мало того, даже побывали на самих «могилках».
Самым жутким моментом был тот, когда появились (на Кадетской линии) вслед за черными знаменами первые два гроба, обтянутые ярко-красным сукном. В этом сразу сказался, и с особенной отчетливостью, новый дух времени, разрыв с самым закоренелым обычаем (я не ожидал от соотечественников, что они так дерзко порвут со священными ритуалами смерти), сказалось и что-то злое, вызывающее. Гробы как-то потеряли свой смысл «ларцов успокоения», символ примиряющего конца. Алый цвет сообщал им особую живучесть или гальванизованность. Красивая такая лодочка, двигавшаяся над массой обступавших ее рабочих, казалась каким-то «ведущим обездоленных куда-то на бой». Совершенный Брейгель! (особенно его «Триумф смерти») – вот что напоминало зрелище на Марсовом поле, когда таких гробов привалило с Выборгской стороны сразу 51, и они, согласно церемониалу, отделились от общего потока процессии и вступили в пустынную зону, окружающую места погребения. Казалось, что «злые гробы» спешат засесть в общую траншею, в которую их внедряют для воспитания и насаждения немилосердного народного гнева.
<…>
…Я поражен той стройностью, которую обнаружили неисчислимые полчища «пролетариата»! Выходит, что сила, достоинство, благородство – на их стороне, на стороне простых трудящихся людей. Буржуазия же, обозленная и напуганная, попряталась, насторожилась. Впрочем, это искус, и не совсем напрасный.
Печальные и так дружно ступавшие сегодня люди представляют собой опаснейшие легионы для будущих «войн по существу». У буржуазии едва ли найдется достаточно сил, чтобы раздавить этих «врагов». Правда, буржуазия сейчас говорит немало слов о свободе, но, в сущности, «воевать за свободу» в буржуазном понимании – это значит помогать империализму (и тому же кайзеру), одолеть, обуздать, укротить грозную силу пробудившегося трудящегося люда. Подобного «перенесения фронта» не миновать. Что же касается того, как эта новая война кончится, то это никак предвидеть нельзя. Нельзя учесть и то, прочной ли окажется показавшаяся мне сегодня столь внушительной сила! Ей может и не хватить выдержки. И она может забрести в тупичок национализма в каком-либо новом «социал-пролетарском толковании слова». Странно, во всяком случае, что так мало лозунгов за мир! Все больше «Земля и Воля» или «8-часовой рабочий день». Иначе говоря, чисто насущные, материальные, «брюховые» требования!
<…>
6 апреля (24 марша). Пятница. <…>
С Фоминым114 и Щуко в коляске бывшего придворного ведомства объехали театры, с тем чтобы проверить, как исполнены распоряжения о снятии эмблем царской власти и как они (эмблемы. – Ред.) сохраняются. В Мариинском их просто задрапировали, в Михайловском (по рассказу) бережно сняли; но хуже, как назло, обстоит с чудесными уборами Александринки. Орел с плафона арки просцениума кусками сбит и помят, содраны, заодно с орлами, разные веночки, львиные головки и шлемы с авансценных лож. Еще, к счастью нашему, оказался толковый вахтер, который (в ожидании лучших времен) все их сложил в кладовую.
<…>
Мне бы уехать! Ох, уехать куда-нибудь! <…> А с другой стороны, где, спрашивается, во всем мире есть теперь такое место, чтоб я мог жить без постоянного отвращения?! Да и отвращение-то носишь с собой благодаря тому, что в большинстве случаев отлично знаешь, что надо делать, но не обладаешь достаточным мужеством, чтобы жертвовать собой.
7 апреля (25 марша). Суббота. Сегодня мои дамы пришли с дивного концерта в Мариинском театре в совершенном экстазе от Керенского. Акица только в нем и видит спасение. <…>
<8 апреля (26 марта) – 13 апреля (31 марта)>
14 апреля (1 апреля). Суббота (Страстная Суббота.) В первый раз в жизни подхожу к Пасхе без всякого ощущения. В Четверток даже удивился, когда увидел по улицам бредущих с «12 Евангелий» со свечками. Сегодня снова изумился находке в передовице Набокова «пасхальных нот». <…>
15 апреля (2 апреля). Воскресенье. Пасха. Чудный весенний день. Трамваи не ходят. На улицах масса народу, особенно солдат и девиц. Но порядок всюду образцовый. И вечером, на ночной службе, очевидцы говорят, что царил полный порядок и при самом благополучном настроении. Петров-Водкин даже всплакнул. Факелы на Исаакии пылали. Крестный ход прошел без обычных удавлений. Акица мне поднесла яичко с подписью Керенского.
Портрет Керенского висит у изголовья Дуниной кровати, и когда ее спрашивают: «Кто спасет Россию?» – она очень решительно, вразрез с обычной робостью, скороговоркой отвечает: «Керенский».
Утром я подвинул сразу и «Зиму» и «Лето». Дети строили в бывшей спальне новую выставку «Маритиме-Лаэртских художеств». Кока для нее написал большую картину вроде фрагмента из какой-то падуанской фрески. При некоторых еще ребячествах совершенно поразительная техническая зрелость и несомненно гностический дар. Леля тоже отличилась со своими автопортретами, накатанными ее пастелью в полтора часа. Надя делает успехи в натюрморте. Участвует еще Атя (милые затеи, но слабое исполнение), маленький Рерих115 (хуже его детских вещей, он немного «полый»), Шура Леви116 (народная мабюзедонт), Попов117 (хорошие рисунки) и внезапно зарисовавший Эрнст – коновод всей нашей юной компании. Кока отличается и в рукописном каталоге.
<…>
Тревожные известия пришли из Туркестана, где Советы рабочих и солдатских депутатов спустя три недели после переворота арестовали Куропаткина118 и другие власти. <…>
16 апреля (3 апреля). Понедельник. Почему-то за день образовалось очень кислое настроение. Быть может, это просто усталость, а быть может, душа яснее, чем в другие дни, почуяла общую безысходную ложь. <…> В 2 ч. со своей молодежью отправился к Добычиной119 (на выставку). Вся публика (не так уж много и очень не блестящая с виду) столпилась в первой зале полукругом и встречала гостей. <…> Запомнилась встреча «бабушки» Брешко-Брешковской120. Добычина ринулась на парадную и вернулась, ведя под руки старушку, обрюзгшую, тяжелую, с оплывшим, перекошенным и недобрым лицом. Пошло целование и приветствия. Поцеловался и я с бабушкой (позже еще раз – по настоянию не выпускавшей ее Добычиной). «Бабушка русской революции» тоже произнесла свой маленький спич с благодарением Финляндии за приют, оказанный нашим беглецам-революционерам. Милюков и Родичев121 произнесли каждый по «плакатной» речи, в которых больше всего меня поразило отсутствие чисто военных призывов. Только все о свободе и о враге-реакции. Увы, сама выставка вышла серой и вялой. <…>