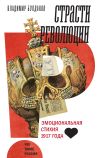Автор книги: Сборник
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
У меня обедал Стип. К счастью, Кате удалось раздобыть довольно сочную тетерку, и мы даже вкусно покушали. Но вообще, кроме дичи и кур, я уже давно ничего не вижу.
Позже пришел Аллегри, который получил большой заказ от Щуко – роспись потолка в Таврическом дворце, приготовляемом под Учредительное собрание, – и потому немного приободрился. К 10 ч. подошел Шарбе (помощник для Аллегри) и Аргутинский. Последний сообщил, что с трамваев снимают пассажиров и что по улицам разъезжают автомобили, полные солдат с ружьями. Лозунг: «Долой Временное правительство!», «Долой десять министров». Павловцев пытались было заставить идти против Временного правительства, но они не пошли. Из наших окон, однако, улица выглядит совсем спокойной. Зато, когда я уже сидел один и просматривал в спальне дневник прошлого лета, вдали со стороны Невы раздалась очень сильная перестрелка с залпами пулеметов. Она началась без 14 минут в 12 час. и кончилась ровно в полночь. После этого два раза раздавалась военная музыка, второй раз без десяти час. Позже узнал, что это шел Финляндский полк. Было жутко слышать эти звуки.
<…>
17 июля (4 июля). Вторник. Та же духота и жара. Свидетелями вчерашней пальбы оказались четверо моих приятелей.
У Морской… массы солдат, в беспорядке направляющихся к Николаевскому вокзалу. Ехали и грузовики, полные вооруженных солдат и рабочих. Среди них немало пулеметчиков с их «запасами смерти» через плечо. Публика по тротуарам относилась скорее недоуменно и вопрошала: «Куда вы едете? И зачем?» Лишь изредка буркнет кто: «Вперед!» Или с автомобиля крикнут: «Ура!» Еще не кончилось шествие, как послышалась вдали трескотня и шлепание выстрелов. И тогда получилась мгновенная перемена картины. Все эти толпы – и публика, и демонстранты – повернули и стали улепетывать, толкаясь, давя друг друга, бросая винтовки, трости, зонтики.
Со слов… подслушанных на улице разговоров выясняется, что стрельба началась по Литейной (там даже убили какого-то полковника) и перебросилась по Невскому до Садовой, но кто стрелял, никто так и не умеют выяснить. Многие же удовлетворяются скорее голословными подозрениями, что стреляли «сверху, с крыши». Считается, что убито и ранено довольно много, но мои свидетели ни одной жертвы не видели. Всем им показалось, что стрельба длилась 3–4 минуты, хотя я, следя по часам, могу утверждать, что она продолжалась ровно 14 минут. Эта разница в показаниях вполне объясняется тем, что, находясь в гуще событий, среди криков, каждый начинает слышать лишь более близкие выстрелы.
<…>
Днем… мы были большой компанией <…> на осмотре Мраморного дворца. При этом я мог лично познакомиться с физиономией улиц. И хотя и был приготовлен «ничего не увидеть», все же меня поразила та обыденность и вялость, что царят всюду.
Утром в телефон я слышал самые странные вещи: «Нева запружена миноносками, на которых приехали кронштадтцы», «всюду идут манифестации с черными знаменами и подписями «Долой войну». <…> А на самом деле я увидел (это было 3 часа) довольно много серой публики, продвигавшейся, главным образом, в обратном к нам направлении, всего одно и то же возвращающееся красное знамя, которое нес под мышкой рабочий, несколько отрядов в 3–4 человека, вооруженных солдат, матросов и рабочих. Говорят, за несколько минут до нас на Миллионной стреляли. Швейцар Аргутинского утверждает, что с крыши насупротив их дома. Но мы застали улицу в ее обыденно-летнем виде, почти пустою, с кучками дворников и прочей челядью у ворот. Навстречу нам медленно передвигался отряд казаков. И вот когда они поравнялись с нами, то одна из кухарок подошла к ехавшим впереди и с искренним убеждением сказала им: «Вся надежда на вас!»
Из окон Мраморного дворца мы видели, как в довольно стройном порядке подвигалось по Троицкому мосту какое-то войско в направлении к Марсову полю. Лакеи и чиновники Министерства труда взирали на это, бледные от ужаса. Но для чего шло христолюбивое воинство, мы так и не узнали, и никаких выстрелов за весь день я не слышал. На возвратном пути мы видели, как из ворот казармы у Зимней канавки вышли несколько преображенцев, которые провели партию обезоруженных солдат и матросов к гауптвахте Зимнего дворца. <…>
На углу Зимнего дворца стояла кучка рабочих. Лица у всех встречавшихся матросов возбужденные, почти «вдохновенные»; видно, что они горят как-то «послужить делу». Напротив, у вооруженных рабочих вид озабоченный, обозленный и насторожившийся. Мне почему-то они напоминали тайных предсказателей, не то с недоумением, не то с остервенением дилетантов относящихся к своим новым задачам. Кучки из трехчетырех таких воинов попадались нам навстречу довольно часто, когда мы шли у Биржи. В это время было очень светло, прозрачно, празднично и жарко.
Аргутинский вечером рассказывал, что на набережной Мойки у Донона[145]145
Ресторан в Петербурге.
[Закрыть] лежит убитая лошадь ломового. Кто-то еще рассказывал о панике на Обводном ломовиков. От их скача, их битюгов и грома телег получалось впечатление античных ристалищ. Параллельно Певческому мосту от Министерства внутренних дел к Манежу сейчас выстроилась артиллерия. Может быть, вечером что-нибудь и произошло бы, но полил как из ведра ливень, и это, вероятно, послужило к отмене событий. Я лег совсем спокойный.
<…>
<18 июля (5 июля)>
19 июля (6 июля). Четверг. Радостная, не слишком жаркая погода. Несколько трамваев прошло утром по 1-й линии, но затем движение снова прекратилось. Улица снова спокойна. Лишь изредка погромыхивает автомобиль с военными, впрочем, уже «порядкового характера». Все утро сомневался, удастся ли мне уехать[на дачу], и оказалось, что удалось. Нашелся извозчик за 10 руб., и мы со Стипом, пришедшим к завтраку, отправились на вокзал. Город кажется обыденно оживленным. Мосты, кроме Дворцового, разведены, зато на последнем большое движение. Впрочем, все автолюбители задерживаются двумя (по одной на каждом въезде) солдатскими заставами, проверяющими пропуска. На Невском много заколоченных досками магазинов – это те, что были погромлены третьего дня. Жалкий вид представляют и наполовину брошенные приготовления к несостоявшемуся празднику Займа Свободы. Например, на углу Морской и Невского, у бывшего дома Тедески – трибуна в виде носа корабля. На Дворцовой пл. вообще пусто. (Приближаясь к ней, я ожидал увидеть ее запруженной войсками, защищавшими Генеральный штаб, на который вчера было произведено нападение, выставленное в качестве одной из козней германских агентов.) На стороне Манежа всего лишь несколько военных автомобилей. На Знаменской площади дулами к Невскому и как бы защищая Александра III внушительного вида броневик. У вокзала несравненно меньше народа, чем за все последнее время. В дверях вокзала патруль спрашивает паспорта. Я забыл свой дома, но благополучно прошмыгнул, что тоже весьма характерно. Билет оказалось возможным получить просто в кассе: хвост у кассы был самый куцый, всего три-четыре пассажира. Ехал отлично, втроем в купе 1 класса, причем один из спутников желдор-служащий. Я сразу расположился спать, подняв верхнюю полку. Второй пассажир был старый еврей, ехавший из Нарвы в Курск. Он с полускрываемой тревогой и с явными германскими симпатиями расспрашивал меня о событиях и о будущем, а в минуты перерывов разговора принимался трогательным образом читать школьный учебник ботаники. Вообще народу в поезде очень мало, и, говорят, так было все эти три-четыре дня.
…На станции Яблоновка, куда мы зашли за почтой, меня поразил один служащий – дюжий мужчина черносотенного типа, который на мое сообщение, вызванное вопросом одного еврейчика, о том, что Ленина собираются судить, громко и решительно заявил: «Повесить их надо, вот что!» – «Ну, как же без суда? Надо же сначала рассмотреть, виноваты ли они?» – «Что там судить? Повесить, и все тут». При последних словах он взглянул на меня с выражением: не их ли поля ягода? Пожалуй, этот тон сейчас доминирует в «Святой Руси», стране величайших возможностей и свобод. <…> Подлинная Россия начинает показывать свои медвежьи клыки и когти. И ведь весь тон… есть не что иное, как показатель сознания, что их враги бессильны, что их можно задушить. Если бы со стороны большевиков не было обнаружено столько дилетантства, такой ребяческой игры (детей с заряженными ружьями), а следовательно, и слабости (ну, какие мы люди власти!), то и не было бы вокруг них столько гвалта, шипения, не было бы и этих «провокаций». Реставрация неизбежна.
<20 июля (7 июля) – 22 июля (9 июля)>
23 июля (10 июля). Понедельник. К утреннему кофе получил субботний номер «Новой жизни», полный самых тревожных известий. Симптоматичен первый шаг к диктатуре: назначение Керенского министром-президентом, а Некрасова147, только что покинувшего пост министра путей сообщения, – торговли[146]146
В действительности Николай Виссарионович Некрасов был назначен министром финансов.
[Закрыть]. Еще более тревожный прорыв на фронте и обвинение в этом большевиков… Возобновление стрельбы в районе Николаевского вокзала, ордер об аресте лидера большевизма, своевольные аресты большевиков даже в трамваях. В одной из передовиц имеется пророчество об «императорском штандарте». Таким образом, бег катящейся под гору телеги ускоряется, и уже близок момент, когда она разлетится вдребезги. Соответственно с ощущением приближения катастрофы у меня вырабатывается желание от всего отказаться и все забыть. Общий лейтмотив – трусость и бездарность. Трусы те, кто затягивает войну, еще более страшась победы политических противников, с которыми они не умеют ладить. Трусы – вся обывательщина, кричащая о войне, о немецких миллионах, в панике визжащая перед сфинксом большевизма. Трус Керенский, в исступлении бросающий всему народу обвинение в трусости, сам же бесконечно более трусящий союзников и опасающийся утраты столь недавно завоеванной власти. <…> Трусами оказались и вожди большевизма, ибо в их руках одно время и даже два раза были все возможности, а они испугались и попятились, когда дошло дело да захвата державы.
Ну а о бездарности и распространяться не приходится… Ни даровитости в душевном смысле, ни даровитости в смысле понимания момента, ни даровитости в области практической политики. И когда бездарностью больна такая огромная страна, это грозит заразой и гибелью не только ей, но и всему миру. И получается так, что все надежды – на тех, кто за эти три года показали себя и более умными, и более дальновидящими, более крепкими и одаренными. Тут я оборачиваю свой фагот на себя. А что же я? Однако я не скрывал от себя, что я тоже трус. Все мои дерзания оттого и носят некоторый истерический оттенок, что в них я вынужден преодолевать «препоны какой-то внутренней паники». Знаю я и то, до какой степени я бездарен, то есть в какой степени моим намерениям и сознанию не соответствуют мои личные силы. И я все же не знаю, что во мне господствует одно над другим: трусость ли, бездарность ли или какая-то благоразумная честность, то есть какое-то «отсутствие сознания своего права».
<…>
Может, сейчас говорит не мое Я, а просто состояние всего нашего времени? В таком случае еще с большим любопытством, нежели по отношению к себе, меня нудит спросить: к чему же, в таком случае, все это клонит, в чем смысл этих вечных «приготовлений» и вечных «осечек»? и наконец, еще самый простой жизненный вопрос: как же это все разрешится, как снова найдет мир свое равновесие? Опаснее всего в создавшемся политическом положении то, что под воплями об измене совсем может смолкнуть клич единственного спасения: «мир». В панике начнется работа самоистребления, и даже люди, самые благоразумные и трезвые, могут утратить сознание хотя бы своей личной пользы. Тогда россияне по своей великой и не слишком обильной стране докатятся до Урала, что только и желательно умным варягам.
Утром и днем я без особой охоты занимался своими старыми композициями, захваченными с собой специально для того, чтобы заполнить томительные дачные досуги.
И тем не менее, несмотря на то, что я очень много успел за день и вечер (читал газету от столбца до столбца, «Кузена Понса», «Записки Леона»), все же осталось много времени, которое я не знал, как убить. И именно хочется его убить, ибо каждая минута без дела зудит своей тревогой, как комар. Пока что-нибудь делаешь – это выносимо, но как только перестал, так начинаешь думать, без особенного трагизма, и тем более надоедливого, о том, что нас ожидает, если верен слух, принесенный от управляющего, что Ревель[147]147
Совр. Таллин.
[Закрыть] взят, – ведь ближайшая очередь за Петербургом?! <…>
<24 июля (11 июля) – 25 июля (12 июля)>
26 июля (13 июля). Четверг. С утра очень холодно. Сидим без хлеба… А тем временем в Угловке уже третью неделю стоит вагон муки, доставленный для нашей округи, но ею, однако, по неисполнению каких-то формальностей, не дают воспользоваться. Вчера конторщик Мильман с австрийцами отправился брать его силой, но пока тоже ничего не добились. На беду, два хлебца, испеченные Тэклой[148]148
Прислуга семьи А.Н. Бенуа.
[Закрыть] из последних остатков бывшей дома муки – смеси ржаной с пшеничной и с толокном, – оказались совершенно сырыми. На исходе и сахар, а ведь «сахарного голода» я больше всего боюсь. Без сладкого мне хоть в гроб.
<…>
27 июля (14 июля). Пятница. Серый, холодный день. К кофе Дуня испекла олонецких «калиток» – ватрушек из толокна с творогом. Очень вкусны!
Из «Биржевки»[149]149
«Биржевые ведомости» (1880–1917) – политико-экономическая газета умеренно-либерального направления.
[Закрыть] узнал о сформировании правительства спасения, о крепнущем движении против большевиков, об аресте Каменева148 и Хаустова149, о Керенском, вернувшемся с фронта и участвовавшем в экстренном заседании на самом вокзале, о том, что Тарнополь[150]150
Совр. Тернополь.
[Закрыть] снова занят нами, а отступление остановлено. С каждой неделей становится все темнее и безнадежнее. Хуже всего, что так «опрокинуто» отношение к войне, которую теперь, к великому утешению всех тех, кто пуще всего боится демобилизации, уже никак попросту не кончить…
Но уже совершенно несомненно, что слух про Ревель – утка. Об этом ни полслова.
<…>
Получил два номера «Новой жизни». При «Пилатовом непротивлении» Керенского восстанавливается смертная казнь, благо сам Александр Федорович уже использовал для своей популярности ее отмену, вовсе «не национальную» по существу. Теперь, пожалуй, начнется период рубки голов или вполне «национальное» вешание всех по очереди, пока не восстановится Николай с Питиримом150 или с Пуришкевичем… <…>
28 июля (15 июля). Суббота. Всю ночь лил и барабанил по крыше дождь. Было одно время очень холодно, и мне не спалось. К счастью, меня удостоил своей компанией котик Кузька, который грел мои ноги и вообще сообщал ночи частицу своего магического уюта. Зато рано утром он взобрался на стол в столовой и съел порядочный кусок «калитки» (сегодня они вышли еще вкуснее вчерашних).
К кофе принесли сразу две газеты – вторая от пятницы. Больше всего поражает телеграмма Корнилова151 с требованием «остановки» наступления и восстановления смертной казни, без которой он отказывается дальше командовать. И как странно, что как раз на эту телеграмму нет заслуживающих ее исключительного значения комментариев. Что значит «остановить наступление»? Или это опечатка – вместо «отступления»? Еще пробуют поднять издыхающего зверя? Глупости у нас и жестокости у англичан на это хватает. Узнавать приблизительную правду станет отныне еще труднее, ибо восстанавливается в прежнем объеме военная цензура. Из всяких мелочей меня поразило назначение круглого дурака А.А. Барышникова152 товарищем министра и запрет Временного правительства ввозить заграничную обувь. Это в такой момент, когда тут же от имени какой-то фирмы сапожного товара заявляется, что – после всяких очередей и записей – может быть гарантирована пара сапог только одному из 30 записавшихся! Одновременно объявлено о выпуске еще двух миллиардов бумажных денег, и уж совсем откровенно говорится о неминуемом голоде, который местами в «благоденствующей и навеки обеспеченной» русской деревне уже и начался. <…>
<29 июля (16 июля) – 31 июля (18 июля)>
1 августа (19 июля). Среда. Три года, что длится эта мерзость! Акица, впрочем, убеждена, что она (война) кончится через две недели. Дай-то Бог! Дивный, яркий и прохладный день. Газета снова не пришла. Утром прошел красками этюд в Кривцове. Скорее удачно, как будто начинаю втягиваться. До обеда акварелью с натуры сделал этюд с нашей залитой солнцем столовой с двумя девочками, занятыми меткой белья. Днем еще набросал карандашом акварелью портрет с Акицы и Эрнста, занятых на балконе чисткой грибов. В промежутках читал «Жизнь пчел» Метерлинка и просто блаженствовал в ничегонеделании. Вечером любовались очень странными эффектами из-за тумана, поднявшегося с речки, впадающей в озеро у самой рощи. Очень хотелось заняться одним из этих мотивов: зеленый луг с группами кустарников, за ними густая вуаль тумана, ясные дали над ней, а в центре – оранжевая полная луна. Но присесть для работы было бы безумием из-за роев комаров. Чтобы хоть несколько избавиться от их осады, я предложил играть в горелки, кошки-мышки и проч. Участие приняли и Дуня (почему-то гуляющая с заплаканными глазами), ставшая совсем напористой Мотя и босоногая, потешная, но тоже очень оживающая Тэкла. Эта визжала за десятерых. Бесновались и прочие все. В результате Кока потерял свои часы, искали их целый час. Мы же с Акицей отправились спать.
<2 августа (20 июля)>
3 августа (21 июля). Пятница. Чудное солнечное утро. Сразу три газеты. Сенсационное сообщение Михаэлиса153 о тайном договоре с Николаем II от декабря 1916 г., согласно которому Франция получает левый берег Рейна (граница 1790 г.). Очень это знаменательно. Заговорил, и в решительном тоне, Пуришкевич: большевикам, и в том числе Коллонтай154, предъявлено обвинение в низвержении строя и измене. Своего рода утешением служит хоть то, что «Новая жизнь» решается продолжать свою проповедь благоразумия и человечности, а дело с привлечением кадетов в состав Временного правительства не клеится.
Приятно и то, что слетел Брусилов, но неприятно, что назначен Корнилов. А впрочем, все равно, всякий на этом посту сейчас вызвал бы во мне отвращение.
От Зины Серебряковой письмо. Они только что пережили ужасные тревоги из-за эпидемии дизентерии, от которой умерли дети управляющего их имением и чуть было не умерли их собственные. Это известие окончательно утвердило Акицу в правоте ее выбора между севером и Украиной и «что было бы, если бы мы поехали в Нескучное!»
<…>
<4 августа (22 июля)>
5 августа (23 июля). Воскресенье. Очень плохо спал из-за комаров, а потому вышел к кофе лишь в 9 ч., когда уже лежала на столе газета.
Наступил кризис, и мне сдается, что он разрешится просто-напросто реставрацией царизма! Керенский подал в отставку под предлогом, что, не справившись с партийными переговорами, он не может дольше рассчитывать на устроение власти. Даже уехал из Петербурга. Вслед за ним погрозился уйти и Некрасов, оставшийся якобы для того только, чтобы принять отставку Керенского. Видно, что пошла откровенная игра назад. <…>
И публикуется прокурорским надзором род обвинительного акта Ленину и его «сообщникам» – документ, поражающий своей очевидной беспочвенностью, однако официально обвиняющий лидеров большевиков в измене и в немецком подкупе. <…>
7 августа (25 июля). Вторник. Потеплело, но сыро и серо. Третий день нет газет, и «интереснейший роман», в котором мы можем оказаться (хотя бы пассивно) участниками, прерван на полуслове. Чего только не могло произойти в Петрограде за субботу, воскресенье, понедельник и сегодняшний день! А в сущности, пожалуй, так и лучше. <…>
8 августа (26 июля). Среда. Именины моих двух Анн[151]151
Жены и дочери.
[Закрыть]. Наши хозяева или, вернее, управляющий имением Шлазейне решительно не желает посылать в Яблоновку за почтой, и мы уже второй день сидим без газет. Но для сегодняшнего утра это оказалось особенно кстати. Благодаря отсутствию этих гнусных бумажек оно вышло особенно солнечным, радостным, именинным. Настоящий летний праздник. <…>
<9 августа (27 июля) – 14 августа (1 августа)>
20 сентября (7 сентября). Четверг. Вот уже более месяца я не сажусь за свой письменный стол и не беру пера в руки. И ведь нельзя сказать, что не о чем писать. Тем слишком много. Но как их препарировать, как к ним приступить, как их разработать, а главное, как каждую исправить, – вот этого и не знаешь. <…>
Нет записей между 20 сентября (7 сентября) и 19 ноября (7 ноября). – Ред.
20 ноября (7 ноября). Вторник. Кондитерская «Аи bon goiit», находящаяся в том же доме, отказывается впредь выпекать для нас хлеб. Снова придется бедным нашим прислугам простаивать часами в «очередях»[152]152
Употребляя новое и непривычное для себя слово, Бенуа заключил его в кавычки. В начале XX в. очереди в магазинах, широко распространившиеся только с 1916 г., называли «хвостами».
[Закрыть]!
Из политических новостей (по газетам) отмечаю следующие:
a. Генерал Верховский155 приехал в Ставку, но из самой Ставки нет никаких сообщений;
b. Министерство иностранных дел будто бы становится на работу. Это из «Правды»;
c. Луначарский официально объявляет, что все служащие бывшего Министерства Двора должны продолжать работу. О назначении новых комиссаров умалчивается;
d. Идет (мирная покамест) осада Государственного банка. Рабочие не допускают большевиков до кассы. Началась эта передряга из-за требования миллионов в распоряжение Совета народных комиссаров;
e. Арестован Пуришкевич и молодой Юсупов при весьма драматических обстоятельствах…
f. Обнародовано в «Новой жизни» и в других газетах письмо Пуришкевича и барона Боде156 к Каледину157 с призывом прийти на помощь Петербургу и учредить белый террор. Это пахнет плахой. На допросе Пуришкевич объявил себя «убежденным монархистом»;
g. «Новая жизнь» в подробностях описывала убийство священника в Царском Селе. Происшествие трагическое и омерзительное, но на страницах «Новой жизни» оно является таким же средством натравливанья на большевиков, каким были пресловутые немецкие зверства во французской прессе в начале войны;
h. Аналогичного характера «мужественная» статья Горького[153]153
Возможно, имеется в виду статья М. Горького «К демократии», опубликованная в «Новой жизни» 7 (20) ноября 1917 г.
[Закрыть];
i. Голод начался и в армии. Это признается официально, и в этом наибольший ужас;
j. Единственное интересное сообщение с Запада – это смерть Родена. Для меня он умер гораздо раньше (я перестал в него верить!).
<…>
Трогательное и характерное для момента письмо я получил от художника Верейского.
«Дорогой Александр Николаевич! Я не могу не говорить с Вами! Я охотно сделал бы это устно, придя к Вам, но, во-первых, говорить я должен с Вами – одним. Затем, я должен говорить о том, что мучает меня, прежде всяких других разговоров с Вами. Боясь, что это может не удаться мне при личном свидании с Вами, я пишу Вам. Я не стану говорить Вам о душевных муках, общих у меня в данный момент с миллионами людей, у которых переворачивается душа от того неслыханного торжества насилия, обмана и лжи, что принесла с собой победа большевиков.
С Вами я сейчас хочу говорить о другом. Меня мучает вопрос о том, как отнеслись Вы, Александр Николаевич, к большевистскому погрому с самого его начала. Я знаю, что Вы питаете симпатии к большевикам.
Но разве может быть вопрос о тех или иных политических симпатиях там, где возможно одно лишь отношение «по-человечески».
Вы художник и христианин! Этим всё сказано, это должно прогнать все сомнения. И все-таки… все-таки они мучают меня, я Вам честно признаюсь в этом. Простите меня, Александр Николаевич, если я, к великой радости моей, не имею права на это сомнение.
Вы мой учитель, Александр Николаевич! Я входил с трепетом в Ваш дом! Рассейте эти сомнения! Мне хочется знать, что ни крупицы Вашего сочувствия не было победителям, что Вы сразу же порвали с гг. Луначарскими и пр. Рассейте тот кошмар, Александр Николаевич, в котором кровь истерзанных жертв, вопли насилуемых женщин, гибель произведений искусства заставляют меня с мучительным вопросом думать о Вас! Содержание этого письма никому не известно. Я хочу, чтобы знали его Вы один. Ваш Г. В.».
21 ноября (8 ноября). Среда. <…>
…Пришло из Зимнего дворца письмо от Луначарского. Помещаю его здесь вместе с черновиком ответа, который у меня вышел очень бесформенным <…>.
На конверте: «Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов – Александру Николаевичу Бенуа».
Самое письмо с заголовком слева: «Центральный Всероссийский Исполнительный Комитет Советов Рабочих и Солдатских Депутатов». Под ним: «Народный Комиссар по Просвещению».
«Петроград. 8 ноября. 1917 г. № 13
Дорогой Александр Николаевич!
Вы обещали мне в последнее наше свидание осведомить меня относительно конструкции той художественной комиссии, которая состояла при Головине, а также о Ваших взглядах на необходимую ее реформу.
Я предполагаю в близком будущем заняться реорганизацией этой комиссии, без которой я не могу серьезно думать о необходимом руководстве бывшим Министерством Двора, а ныне Комиссариатом искусства и Национальных Дворцов.
Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы продолжить наш разговор в этом направлении. Предупреждаю Вас, Александр Николаевич, что как во все Комиссии, так и сюда я должен буду ввести широкое представительство организованного трудового народа, т. е. различных Центральных Исполнительных Комитетов, Советов, Бюро солдат, рабочих, крестьян и т. д. Рядом с этим представительством желательно не только представительство различных художественных групп и коллегий, но и отдельных специалистов. Я предполагаю по всему моему комиссариату три такие Комиссии, а может быть, и четыре; три не сомневаюсь.
Это – Государственная Комиссия по народному просвещению, которую я как раз сейчас формирую; Государственный Театральный Совет для заведования театрами Республики и Комиссия Искусства и Национальных Дворцов, которая заменит Головинскую. <…> Обо всем этом очень хотелось бы поговорить.
И я прошу Вас написать мне, не мог ли бы я заехать за Вами в один из ближайших дней. Мы проехали бы в Смольный институт и поговорили бы там подробно.
Жму Вашу руку.
Народный Комиссар по Просвещению
А.В. Луначарский».
Черновик моего (тут же составленного) ответа:
«Глубокоуважаемый Анатолий Васильевич!
С удовольствием готов с Вами повидаться и потолковать об интересующем Вас вопросе. Ближайшие дни покамест у меня свободны, так что я Вам предоставляю выбор времени. Может быть, Вы мне сообщите утром по телефону, когда Вас можно ожидать. Считаю все же своим долгом, во избежание недоразумения, предупредить Вас, что я лично ни в каком случае активного участия в строительстве художественной жизни принять не в состоянии, ибо весь я ушел в творчество. На словах объясню Вам подробно, что меня к этому побуждает. Однако знакомство мое с делами искусства позволяет мне думать, что наша беседа может в таком случае Вам оказаться полезной. Это отвечало бы моему желанию.
Примите уверение в моем уважении и преданности.
Александр Бенуа».
Обедаю у Половцовых158 с Верещагиным, молодым Шереметевым, княг[иней] С.А. Долгорукой159 и каким-то офицером с очень злым лицом. Обед на сей раз, в сравнении с прежними, довольно скромный, но, по нынешним временам, все же «роскошный»: борщок с гречневиками, белорыбица с вареным картофелем, рябчики с пюре из капусты с жареными шарлотками, слоеный пирог с яблоками, компот из персиков, шоколад ломтиками; хорошие вина и коньяк! Все уверены, что это не будет продолжаться более двух месяцев, и крепко рассчитывают на возвращение монархии. Однако слышатся и такие тончики (даже от княг. Долгорукой): «Мы надеемся, что это не будет Николай II».
<…>
Верещагин очень озабочен тем, что Луначарский объявил о Павловске и о Мраморном дворце. Оба-де будут просто конфискованы ввиду того, что вел. князь Иоанн Константинович160 скрылся. Собирается по этому поводу устроить бойкот. Но разве это подействует? <…> Полвечера ушло на выработку ответа по запросу, пришедшему из Министерства финансов, о том, как осуществить недавно изданный закон, запрещающий вывоз художественных произведений за границу. Я старался убедить остальных пойти на попятный. <…> Подействовало мое сравнение их с большевиками, ведь этот запрет – только разновидность конфискации, раз вас лишают свободы распоряжаться своим имуществом. Но, увы, теперь все равно поздно. Закон, несомненно, будет проведен, и большевики действительно будут ему рады как лишнему средству удушения капиталистов. <…>
Дивная, бодрящая ночь. Из-за выпавшего снега сразу все стихло. Поразительно романтическая картина у Зимней канавки! Блеск пылающих костров за черным силуэтом парапета моста. Вся стена Эрмитажа и «моста Вздохов» освещены снизу, с глубокими тенями под сводами; греющиеся у костров солдаты.
<…>
22 ноября (9 ноября). Четверг. Вместо самого Луначарского на наше собрание в Зимнем дворце пожаловал Ятманов161 – от имени своего принципала, приславшего его снова для того, чтоб получить от меня «директивы». <…>
Итак, снова и без всякой надежды на перемену мы вступаем в хозяйничанье полного дилетантизма. Быстрота и натиск в распоряжениях, какая-то нелепая игра в революционность – и при этом полное невнимание к реальным условиям и возможностям. В продолжение целого часа я старался вдолбить крепкоголовому посланцу Луначарского (Ятманову) мои мысли и элементарные требования, но без настоящего успеха. Ятманов – настоящий дикарь. Он совершенно случайно и даже неожиданно для себя самого попал в комиссары, однако нам с фактом этого назначения приходится считаться, раз никто из нас не пожелал взять на себя такую опасную обузу (и окончательно прослыть за большевика). К тому же выбор мог быть и хуже.
<…>
И до чего же мне трудно выработать и установить свою собственную позицию! С одной стороны, меня побуждает род долга прийти на помощь людям, от которых теперь столь многое зависит и которые получили в свое распоряжение вещи, им совершенно чуждые, – как раз те самые вещи, которые мне дороже всего на свете. При этом эти новые люди вовсе не представляются мне менее приемлемыми и бездарными, нежели те, с которых началась в марте русская революция. С другой стороны, я отлично вижу, что и эти новые люди легкомысленны и нелепы во всю русскую ширь. В частности же, в Луначарском к этой нелепости примешивается какая-то старомодная эстетика, что-то от Прудона, что сулит мало хорошего. А между тем они и есть хозяева положения – у них могут оказаться гигантские средства, которые могут привести к грандиозным переменам…
Во всяком случае, на меня, к великому моему ужасу, накатил вихрь такой же силы, как тот, что закрутил меня в марте, и во мне снова возникли всякие проекты и чаяния. В первую голову, расширение Эрмитажа за счет Зимнего дворца, создание грандиозной портретной галереи русской истории и т. д. А тут же и проекты общего характера, среди которых имеются и такие, которые созревали с весьма давних пор… Но беда в том, что проводить эти проекты в жизнь через других и действуя из кулисы едва ли возможно. Взвалить же на себя самую эту ношу мне представляется непосильным. Мешает тому главным образом мой характер, лишенный личного мужества и избалованный «домашним халатом». К тому же я никакой социалист и никак не гожусь вообще к какой-либо политической деятельности. Опыт марта учит еще, что я, несмотря на огромный круг знакомств и бесчисленных друзей, не могу рассчитывать на какую-либо общественную (или хотя бы только дружественную) поддержку. Не могу уже потому, что, не будучи от природы «политиканом», я брезгую предпринимать какие-либо тайные ходы и то, что называется, интриговать.