Текст книги "Запах анисовых яблок"
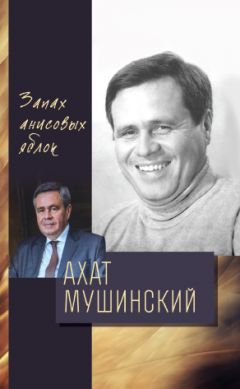
Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
– Какой ночью? Этой зимней или той, летней?
– Этой зимней. Сегодня. Точнее, уже вчера.
– Выходит, только этой…
Бал окончен, тушите свечи.
Возвращается Грач. Что происходит? А ничего. Пьяный поэт стоит на коленях перед Прекрасной Дамой. Что в этом противоестественного? И читает стихи:
…Разве мог не узнать я
Белый речной цветок,
И эти бледные платья,
И странный, белый намёк?
Устами младенца…
Утром я не хочу просыпаться. Не хочу, чтобы наступало утро. Скажу больше: не ощущаю желания жить.
Но утро наступает, я просыпаюсь, встаю, живу.
Грач готовит завтрак, силом заставляет меня проглотить пару ложек омлета, хлебнуть чаю. От бутерброда с сыром, пирожка, творожка и проч., и проч. наотрез отказываюсь.
Дома, кроме нас, никого, если не считать третьего его ребёнка, ещё не досмотревшего все свои отведённые ему на ночь сны.
Я не спрашиваю, где все. Лисичка, ясно, в школе. Бубенчик в детском садике, невеста… Она спозаранок ушла по своим делам. Человек же переезжает сюда из другого города, столько формальностей надо выполнить. К тому же новые сапоги купить, платье…
– Свадьбу не свадьбу, но как-то наши с ней узы отметить нужно, – оправдывается Грач.
Я извиняюсь за испорченные мной сапоги. Он благодарит меня за спасение её этой кошмарной ночью. Я прошу прощения за пьяную ночную сцену:
– Обознался…
– Да, обознался, – соглашается Грач, – с кем не бывает. Значит, долго жить будет.
– Дай-то бог! А ты скрытный, оказывается, не знал.
– Сглазу боялся. Она мне, они оба мне очень дороги. Понимаешь?
– Понимаю.
Я собираюсь уходить. Куда? Дела, дела… Какие могут быть дела – с работы уволился, после вчерашней эпопеи ещё не оправился?.. Грач ходит вокруг меня кругами, просит остаться. Он надеялся, что в эти ответственные для него дни буду рядом с ним, буду свидетелем в загсе, помощником в быту, ведь всё-таки трое детей, «а ты умеешь с ними общаться и ладить, они тебя любят». Я говорю, что третий его ребёнок меня ещё не знает, а потом – душа не на месте, и своим настроением я и другим испорчу праздник, спрашиваю, не осталось ли у него после вчерашнего чего-нибудь: голова раскалывается. Он говорит, что есть, что у него всегда есть, и не только после вчерашнего, но лучше перетерпеть, хотя бы до вечера. Я настаиваю, хотя голова у меня и не болит. Она у меня с похмелья никогда не болит. Душа – другое дело, но об этом я уже, кажется, говорил. Душевнобольной, что поделать. Это тебе не гипертоник и не астматик, от этой болезни одно лекарство. Грач достаёт бутылку коньяка. Питаемый иллюзиями, я склоняюсь над посошком, призываю друга присоединиться. Он отмахивается: вечером, вечером…
До вечера дожить надо.
В спальне подаёт голос ребёнок. Грач спешит к нему. Я машинально следую за ним. Слышу, дитя спрашивает:
– А горбатый дядя ушёл?
– Тише ты! – взволнованно шепчет новоиспечённый папаша.
– А правда, он столько бандитов побил?
– Правда, правда…
Грач провожает меня до лифта. Он чрезмерно суетлив и говорлив, подробно излагает распорядок этих нескольких радикальных в его жизни дней, требует у меня обещания вернуться к вечеру.
Я обещаю.
Часть четвёртаяДовольно мне.
Я не хочу хотеть!..
София Парнок
Два приглашения
Я не люблю врать. Другое дело – умалчивать, говорить иносказательно, фантазировать. Грач знает это, поэтому и вытребовал у меня обещание… А данное слово я обыкновенно держу, есть у меня такая старомодная привычка. Почему обыкновенно? Да потому, что в последнее время я стал замечать, что не всё от одного меня зависит. Иногда кажется, могу вот сам проблему решить или даже не проблему, а так, чепуховину, что-то ординарное, привычное, и вдруг – бац, нет, не могу, вмешались какие-то таинственные силы, и я бьюсь как рыба об лёд – не получается. Потом я понял, в чём дело. Это происходило в тех случаях, когда я нечаянно зашагивал в не видимый обыкновенному глазу круг – круг чьих-то животрепещущих интересов, и спрут где-то в глубине начинал шевелиться, поднимать со дна муть, распускать-разматывать беспредельной длины щупальца, а между тем на поверхности тишь да благодать, солнышко светит и все тебе ласково улыбаются. Понимание некоторых вещей приходит с опытом, и мне со временем стало нетрудно разгадывать примитивные ребусы, трафаретные комбинации различных чинуш, литературных и государственных (иногда то и другое в одном лице) генералов, распознавать их территории, сферы влияния, гаремы… Но разгадать, но понять не означает выиграть партию, осуществить задуманное и обещанное. Сначала неудачи в разгаданных ситуациях меня сильно огорчали, однако с годами я перестал особо переживать. Что делать, обстоятельства вместе с моими душманами оказались выше меня, я сделал всё возможное и моя совесть чиста.
В случае с Грачом иное – и проще, и страшнее, – я, быть может, впервые в жизни так откровенно врал, не отмалчивался, не размазывал неопределённостью, а смотрел в глаза и врал. Я обещал прийти, а сам знал, точно и бесповоротно определился, что ни вечером, ни завтра, ни послезавтра не приду к нему. Зачем? На кой мне душу свою травить, быть слоном в чужой посудной лавке? Да и кто из них чужой – он, она? Ломать с трудом налаживающуюся жизнь близких мне, дорогих моему сердцу людей – зачем? Живите счастливо, растите в мире и согласии своих деток, а ты, дружище, посторонись и не мешайся. Да, безусловно, так будет лучше.
Смирись, поэт, и не юродствуй,
Привыкни к своему сиротству
И окриком не тормоши
Тебе не внемлющей души.
Плетусь по зимнему городу сначала в автобусе, затем в троллейбусе, затем в трамвае. Гляжу в лунку на замёрзшем стекле, вернее, в проталинку и удивляюсь жизни, бегущей мимо меня, мимо, мимо, и никаким боком меня не касающейся. Еду к матери. Мне кажется, у неё я успокоюсь. Всегда так кажется: за спасением надо держать неблизкий путь.
Но у неё гости. Вот некстати. Точнее, гость, в единственном числе. И не гость, а вестник, принёсший чёрное известие.
Я застаю его в прихожей, он уже прощается с мамой. Большая лобастая голова, глубоко посаженные глаза, знакомый улыбающийся вне причин рот – это младший брат Земели, о существовании которого я и представления не имел. Как они похожи! Только этот повыше ростом, поздоровее, посвежее, почище лбом, то есть ещё без главных помет времени – морщин, будто художник бегло с Земели набросок сделал, не прорисовывая подробности портрета, контурно, поверхностно. Он снимает только что надетую шапку и сообщает, что его брат умер, завтра похороны, и он едет туда. Вчера бы уже выехал, но никак не мог найти меня, по его словам, лучшего друга брата, о котором он часто вспоминал, упоминал, ставил в пример. Я в растерянности. Он торопится. Я не могу собраться с мыслями. Мы договариваемся: я поеду позже (по его словам, на поезде к ним всего часа два), и меня там встретят. Выхожу проводить его, расспрашиваю, узнаю подробности, которые он не сказал при моей матери: Земеля застрелился из ракетницы в живот, неделю пролежал без сознания в больнице и…
– Вчера преставился, – глухо говорит родной брат Земели, в глазах которого ни боли, ни сожаления, ни удивления… Или готов был к такому финалу, или за неделю дежурства у постели умирающего свыкся с мыслью. – Я только позавчера оттуда, дежурил в больнице, по ночам, а днём мать, жена его… Уехал буквально на день… И всё… Обратно вот еду… К успокоившемуся.
Эх, Земеля, Земеля… Как же так, а? На что крепким казался, основательным. Стало быть, не по плечу ноша жизни оказалась. Но кто выбирает себе эту ношу? Взвалят тебе, и топай, тяжело не тяжело, кому до тебя дело есть? Зато можно выбрать, на каком из поворотов её скинуть. Земеля выбрал… и наследником не успев обзавестись, и роман не дописав, и не разобравшись, как я понимаю, в том, что толкнуло его на этот шаг.
Я посадил брата Земели на трамвай, который прямиком следует на вокзал. А дома ещё новость, которую мама не стала при нём говорить, – телеграмма от Штабс-Капитана с приглашением на свадьбу. Всё-таки у него это серьёзно оказалось, этот санаторный роман. Но когда они расписываются? Завтра? Надо же, два приглашения в один день. И каких! Один женится, другой… Странно и дико оборвалась жизнь Земели. Никогда бы не подумал. В армии бы не подумал, а теперь, после его недавнего приезда… Последняя встреча заставила взглянуть на армейского друга иначе, и его уход из жизни странным уже не кажется. Всё закономерно. Мне кажется, в жизни вообще нет случайностей, нет нелепостей и нечаянностей, а есть только, если можно так сказать, лепости и чаянности. Откровенно говоря, я ожидал худшего, не исключал, что он и жену с собой прихватит. Не прихватит – пораньше себя туда отправит. А сам вослед и непременно. А то бы Земеля не Земелей был. Я нарисовал себе в воображении картину происшедшего – и подробностей извне не нужно. Впрочем, завтра они будут хорошо известны.
Память запаха
Мама взволнованна. Земеля… Штабс-Капитан… я без зубов. Что случилось? Тебя избили? Она держится за сердце, пьёт корвалол. Я вру: автобус резко затормозил, ударился о поручень сиденья. Не помогает. Начинаю сердиться, ругать: не хватало, чтобы ещё с тобою что-нибудь случилось. Знаю, она побаивается, когда я сержусь. Выходит из своего закутка отец, бросает на меня тяжёлый взгляд, успокаивает жену:
– Не только зубы – голову скоро потеряет.
Мама заглядывает мне в глаза и вымаливает обещание, что я её не потеряю.
– Не волнуйся, – говорю я и подливаю масла в огонь. – Потеря моей головы не будет большой потерей для Отечества.
Она опять смотрит на меня укоризненно и умоляюще. Я опять клянусь, что всё будет нормально.
– Вот женюсь скоро, – несу я чепуху, – чем я хуже Штабс-Капитана или Грача?
И рассказываю о Граче, который тоже женится. О том, что я уволился с работы и сжёг рукопись своей новой книги, не рассказываю.
Мама протягивает мне запропастившуюся телеграмму от Штабс-Капитана. Она всегда всё прячет со словами: подальше положишь, поближе возьмёшь. А потом не может найти.
– Я и вчера к тебе ходила с ней, и позавчера, а тебя всё нет и нет. Ну, теперь всё равно уж, наверное, не поедешь…
– Не поеду, – не сразу отзываюсь я. – Да и какая свадьба … второй раз?
Я присаживаюсь за письменный стол – мама давно просила меня написать письмо в домоуправление о беспрестанно парящихся трубах в подвале дома под нашей квартирой. Беру чистый лист бумаги, достаю ручку, но сосредоточиться не могу. Почему-то вспоминается старинный письменный стол в нашем старом доме, за которым я ещё первоклашкой делал свои первые уроки.
– Почему мы его на новую квартиру не перевезли?
– Соседям оставили.
– Это же антиквариат!
– Такого добра тогда много было, – вздыхает мама. – Ко времени переезда мы новую мебель купили, полированную.
– Полированную, – передразниваю я. – Тому столу теперь цены нет.
– Кто же знал!
– Знаешь, мама, – откидываюсь я на стуле, – а в том доме уютнее было. Как я любил, мам, посидеть у печи с открытой дверцей, на огонь посмотреть, дровишек подкинуть! А помнишь, по утрам холодно бывало, и я из-под одеяла не вылезал, пока ты печь не растопишь. Этот запах, этот аромат от первых занявшихся огнём дров мои ноздри и сейчас помнят. Память запаха ведь самая сильная память. А это мерное потрескивание в печи, эти расписанные морозом окна… Теперь и узоров никаких на стёклах окон, и тепло круглосуточно, и противно… Потом напишу, – бросаю я ручку на стол и хожу из угла в угол.
– Хочу, мам, на старую квартиру съездить.
– Куда уж теперь, отдохни лучше, полежи.
– У печи погреться…
– Не выдумывай.
– Честно. Зайду к новым жильцам или к соседям. Сто лет в тех краях не был.
– Не получится, сынок, – смотрит на меня мама как в стародавние времена, когда я был маленьким.
– Почему? – настораживаюсь я.
– Потому что… – Она смолкает на полуслове и не хочет говорить.
Я настаиваю:
– Почему?
– Потому что от себя не убежишь.
– А заметно, что я хочу убежать?
– Объясни, что случилось? Что с тобой творится, что происходит? Что ты мечешься из угла в угол, присядь, остынь, ты же кипишь весь. У печи погреться захотел… – напускной строгостью и холодностью в голосе пытается остудить меня мама. Я не перебиваю, слушаю и не слушаю, а потом тихонько спрашиваю:
– Мама, ты замечаешь, что я стал горбатым?
– Сутулым, сынок, сутулым… – с неприятной готовностью отвечает она. – Сколько говорила: не сутулься!..
Существуют очевидности, которые ни за что на свете не докажешь, если человек умышленно или неумышленно, а может, и вполне чистосердечно упрётся. Разве докажешь материнскому сердцу, что её ангелочек с некоторых пор стал горбатым уродом?
– Пойду, мама, всё-таки заеду на старую квартиру, а оттуда – на вокзал.
Она беспомощно только руками разводит. Затем помогает мне собраться в дорогу, с такой тщательностью и заботой, будто я на луну лечу, а может быть, и дальше. Затем, приподняв тюлевую занавеску на окне, совсем по-детски усердно и долго машет мне рукой вслед.
Надо вовремя вставать из-за стола
Не то, не то…
Не то я пишу, не так живу. Не ввысь, не вглубь.
Все хотят ввысь. А надо вглубь.
Есть люди, которые живут вширь. Но не о них речь.
Ведь человек – это беспредельная глубина. Это Вселенная, только в другую сторону, в себя, вовнутрь.
Ещё в детстве я пришёл к выводу, что я центр мироздания. Нет, не совсем так… Что я и есть Всевышний Творец, что все и всё вокруг создано моим воображением. Вот закрою глаза – и нет белого света, нет других людей, других ходячих миров и Вселенных. (То, что все другие люди тоже Всевышние Творцы и Вселенные, пришло позже.) Милые, наивные времена! Тогда о смерти я ещё не думал. Теперь закрою глаза ночью – и, наоборот, действительность не исчезает, а разворачивается, разверзается во всей своей простоте (до примитивности) и в то же время непонятности, в беспросветности и запутанности каких-то взаимосвязанных и совершенно не взаимосвязанных лабиринтов, закоулков, событий, выходов (о входах не говорю – с ними нет проблем), разговоров – кто что сказал, не сказал, не досказал, друзей и подруг, которые, оказывается, и не друзья-подруги вовсе, и их не поддающихся логике (или поддающихся, но чудовищной логике), отвратительных, творящихся втихомолку, за спиной, за моей спиной, поступков. Закрою глаза, и оживают уже неживые люди и что-то пророчествуют, преподносят на ладошке… И живое перемешивается с неживым, и реальное с нереальным. Кошмар! И никуда не денешься. Глаза под веками ночью оборачиваются и смотрят в другой мир, который всякий раз оказывается и глубже, и вязче внешнего. Почему людям бессонница в тягость? Всё потому… Бодрствуй не бодрствуй, глотай снотворное не глотай, природа заставляет смежить очи и жить своей второй, вернее, первой, а точнее, внутренней и настоящей жизнью.
Ощущаю ли я двойственность? Ещё как ощущаю! По-моему, нет и не должно быть человека без внутренней жизни, которая и важнее, и честнее. Истиннее! А что внешняя? Сплошная ложь, лицедейство, маска. Но она для всех почему-то на первом месте. Как же, ведь очень значимо, как ты смотришься для окружающих внешне, как выглядят твои поступки, как вообще ты оцениваешься в качестве человека – со знаком плюс или минус? Хочется же, очень хочется, чтобы известные и неизвестные тебе экзаменаторы поставили плюс. Проявиться, как фотографическая бумага в проявителе, закрепить себя в миру! Во что бы то ни стало. Вот он – смысл жизни. И начинается актёрство, и начинается позёрство. В кого ни ткни – ряженый, ненастоящий, исполняющий роль. Может, ошибаюсь? Быть может, просто вращался не там и не с теми? Коленвал вот настоящим был. И Земеля. Несмотря на то, что многие влепили бы им за их жизненную (читай: внешнюю) кривую безоговорочный минус.
Настоящие-то первыми ломаются. Не кривят они душой. Не умеют. Не гнутся в три погибели, чтобы пролезть туда, где потеплее и куски где посдобнее подкидывают. В каких пространствах витают их души теперь?
И Штабс-Капитан настоящий. Хоть и свадебничает ходит… Не скажу ему про Земелю. Пусть там себе…
Как-то с мудрого похмелья я подумал: по-настоящему закрыть глаза на внешнее существование, на всю эту мишуру со сбитыми ориентирами, с ложными ценностями, гордой, спесивой трезвостью над тобой и смехотворным в конечном счёте рационализмом может только явление бескомпромиссное и невременное – смерть.
До этого, естественно, я не в детстве додумался.
Сто раз прав Коленвал. Поэзия – это любовь. Нет любви – нет поэзии. А нет поэзии в человеке, так на кой, спрашивается, жить? Человеку, а не вьючному животному. Иные, вернее, подавляющее большинство людей напоминают мне ишаков, нагруженных обязанностями и несущих их из пункта А в пункт Б через всю жизнь, не задумываясь, что они там тащат на себе, зачем, для какой радости. Им сказали, что это их долг. И всё. Неужели человек отродясь должник? Или расплата – это и есть смысл жизни?
Жизнь… Вспышка, отблеск чего-то грандиозного и необъяснимого, или, если немного по-другому, всего лишь мгновенный, иллюзорный перерыв того же самого, какой-то бесконечной яви. Да только вот что-то затянулся перерыв.
Вот так.
Это о чём мы?
А-а…
Любить – значит давать. А я нищий. Погорелец. Где моя рукопись, где мои стихи? И были ли они? А дети? А сам, юный, глазастый, ушастый, зубастый зверёк, ныряющий в клубы утреннего тумана, чтобы безоглядно нестись по росистой траве, жадно вдыхая сырые запахи недалёкой от дома реки, – где? Где сам-то? И где та река, и где тот дом?
Не надо бояться итогов.
Надо вовремя вставать из-за игорного стола, говорил один мой приятель… чтобы выигранное не спустить до последней копейки.
Красное солнце
От трамвая к нему я спешу кратчайшим путём, через берёзовую рощу, которая когда-то была кладбищем, но теперь об этом мало кто помнит и знает.
Вид на наш бревенчатый двухэтажный дом с парадным крыльцом с одного боку и роскошной террасой с другого, с резными наличниками на окнах и прочими столярными узорами и плотницкими украшениями открывался сразу по выходе из-за бугра рощи.
Мороз крепчал. Маразм – ещё сильнее.
По выходе из-за бугра ни дома на той стороне улицы, ни двора. Не верю глазам своим, так непривычен вид – голая, выровненная бульдозером площадка, на краю которой единственная примета, что я не ошибся местом и не тронулся умом – сиротливо и глупо возвышающаяся красная кирпичная стена.
Безвольное зимнее солнце прячется за тучу, и моя родная стена темнеет, делая вид, что не узнаёт меня, или, может, мрачнеет, досадуя на себя за то, что не уберегла наш с нею дом.
Я стаскиваю свой енотовый треух с обалделой, лишённой всяческой живой мысли головы, и морозный воздух железным обручем сжимает её.
Ни печали, ни тоски, ни грусти – одна сплошная тупая боль. Болит голова, болит спина, болит душа…
Я бреду по заснеженной площадке. Иду. Быстрее. Бегу. Быстрее, быстрее… Навстречу стене, точно это не стена, а красное полотнище тореадора. Только не опустив голову, как бык, а прямо, лоб в лоб. Не думал я, что и моя стена войдёт со мной в противостояние. В глазах темнеет, в ушах кувалдой стучит сердце. Быстрее, быстрее… Я неотвратимо лечу на стену. Нет, это она на меня летит.
Хрясь!..
И красное солнце вспыхивает во всю свою мощь и заливает весь мир, и слепит, как в детстве, ярко и горячо.
Это главное
Место мне нашли на старом, давно закрытом для захоронений городском кладбище, куда пускали только видных усопших (или, точнее сказать, усопших из видных) и ещё тех, у кого там были родственники, которые могли потесниться. У меня на старом кладбище покоились дедушка с бабушкой, дядя с маминой стороны, так что проблем со мной не должно было возникнуть.
Не со мной, конечно. А с моим телом, временным, не совсем удобным пристанищем моим, субстанцией (другого слова не подобрал), которую следовало постоянно кормить, поить, обувать, одевать, мыть, чистить, опорожнять, лечить, которую надо было беречь и холить и которая неблагодарно старела, болела, капризничала, лысела, теряла детали (зубы), меняла противным образом конфигурацию (гиббус) и т. д. и т. п.
Но вот в последний момент (в случае со стеной, вернее, в момент соприкосновения с нею) боли не было. А было ощущение, что я просто вышел из своего временного пристанища, громко хлопнув напоследок дверью. Нет, всё-таки не так. Не вышел, а вылетел лёгким свитком, листом бумаги, поднятым в воздух порывистым дуновением ветра. И на листе том, представьте себе, стихи. Мои стихи, которые хранились в каких-то моих внутренних тайниках и которые я не мог извлечь из себя на свет божий, как ни старался. Я чувствовал, что они во мне есть, но каждый раз на свет выдавались совсем не те и не то. А тут они зазвучали. Отчётливо, чисто, мелодично. И постоянно, и неизбывно. Так река течёт недалеко от нашего бывшего дома.
Но не это меня удивило. Всё-таки я знал и чувствовал свои внутренние поэтические силы, а то, что другим не мог их продемонстрировать, это, оказывается – теперь уж совершенно ясно, – чепуха. Вернее, не суть. Меня удивил я сам, оставшийся лежать на земле. Точнее, моё оставленное мною физическое, телесное я. И не то, что оно было каким-то чужим и несуразным, а лицо. Да, лицо. Сначала белое, затем пепельное – понятно. Но ведь я его ожидал увидеть разбитым, размозжённым о стену. Нет, ни царапинки нет. Затем я узнал из разговоров врачей неотложки причину моего безгрешно чистого лика. До стены я не добежал. Сердце. Мама всегда говорила, что оно у меня слабое. Я и сам чувствовал порою бешеную аритмию. Вот и подгадало момент, остановилось за секунду до… Подкачало. А может, наоборот, выручило. Ведь у них там, внизу, это небезразлично, разбило тебя или ты сам себя разбил. И ещё, я слышал, такое часто бывает – перед неминуемой смертью (казнь, самоубийство) сердце в последний момент само останавливается.
Ну, да ладно.
Теперь я сам по себе. А тот я, на земле который остался, – это тот. Вон понесли его, как говорят, в последний путь.
Я витаю над процессией и одновременно вижу всех и слышу. На фоне музыки стихов слышу и вижу.
Прости меня, мама, что опередил. Видит бог, я никого, как тебя, не любил в жизни. Помню, однажды мальчишкой побежал на улицу, а ты за мной следом, зовёшь меня… А я-то не убежал, а только за дверью спрятался. Остался за твоей спиной и смотрю, а ты держишь мой шарфик в протянутых руках и меня всё кличешь и кличешь. Так жалко тебя стало и стыдно. Всю жизнь и после, теперь, эта, казалось бы, незначительная сценка перед глазами (всё не перестану оперировать земными терминами). Прости, пожалуйста, и не волнуйся. Я так хорошо, так свободно, так уравновешенно и умиротворённо себя чувствую – слов нет на человеческом языке передать это. Знала бы – не убивалась.
Отец поддерживает её, разом поникшую, кое-как переступающую ногами, слепо вскидывающую на мои останки когда-то голубые, а теперь бесцветные, подёрнутые постоянной влагой глаза.
Жены нет. И сама не пришла, и дочь упрятала, не пустила. Правильно, я же, по её словам, ещё когда умер. Нельзя ведь одного и того же хоронить дважды. Нельзя и лгуньей выглядеть в глазах ребёнка. Я понимаю, ей с дочерью ещё столько жить, и не её вина, что она не знает о не состоявшейся для дочери моей первой смерти.
Начинаются прощальные слова. Толпа окружает то, что когда-то было мною. Знакомые всё лица – родственники, сослуживцы, литераторы, художники, соседи… Надо же, и Штабс-Капитан со своей юной женой приехал! Глаза на мокром месте. Впервые его плачущим вижу. Вот удружил я ему, преподнёс свадебный подарок.
Первым берёт слово Пузо. Он рассказывает, каким хорошим человеком я был и какой свет поэзии нёс людям. Цитирует, не заглядывая в развёрнутую бумажку, мои юношеские стихи, которые я когда-то напечатал в журнале. Не поленился – откопал. Права, видать, Дюймовочка, не такой он уж и плохой человек, каким я себе его представлял. Напрасно задирал его, судил по каким-то своим личным законам. Зачем? Заклинивало на чепухе, на мелочи. Да, надо признать, мелко порою жил, узко. Шире надо было, щедрее… Нежадно. Не объяснить.
Пузо скорбно смолкает, немножко картинно и смешно роняет обнаженную голову на грудь и отходит к Дюймовочке. Шепчет ей: ну, как я, а? Та не отвечает, шмыгает носом.
Берёт слово другой оратор.
Грач провожать меня пришёл с новой женой и новым ребёнком. Лисички с Бубенчиком нет. Я не в обиде. Зачем лишний раз травмировать детей! Да и кто я им? А для новой жены Грача кто? Кто для её сына? А ведь пришли… Во время церемонного прощания они подходят к моим останкам, она целует то, что было недавно мною, и говорит сыну на ухо: мы обязаны ему… А чем обязаны и зачем – не договаривает. Интересно, не правда ли? Живая очередь не даёт задерживаться, и Она, красивая, стройная, вдруг, не соответствуя своей царственной стати, тяжело облокачивается на верную руку Грача, потонув новыми сапогами в снегу.
– Не надо подходить… – шепчет Пузо Дюймовочке, удерживая её за локоть. – И перестань… – подтирает он ей перчаткой влажную щеку. – Смотрят же на нас. Распустила… Не будь посмешищем и не позорь меня.
Она повинуется, топчется на месте. Но когда берут крышку гроба, чтобы закрыть меня (моё оставленное тело), заколотить гвоздями, в её мозгу что-то замыкает, и она, испустив долго удерживаемый лихорадочный всхлип, бросается к гробу, но Пузо начеку, хватает её за руку и так поворачивает, что Дюймовочка с ходу разворачивается и уж по инерции летит ему на грудь, в его объятия. Трогательная сцена!
Мама шепчет:
– Прости меня, сынок.
И бросает ком земли на крышку опущенного в могилу гроба.
Это ты меня прости. И все простите, если чего не так было. Я вас всех люблю и ни на кого не держу обиды. Живите в мире и любви.
– Правильно, – отзывается душа парящего рядом Коленвала.
– Это главное, – подтверждает голос Земели. – Жить в мире, любви и верности. – И не голос вовсе, а его звучащая мысль. И не звучащая мысль, а какое-то передаваемое без слов и жестов чистой воды понимание.
– Но верности кому?
– Верности себе.
Ну да, конечно. Как просто!..
2000
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































