Текст книги "Запах анисовых яблок"
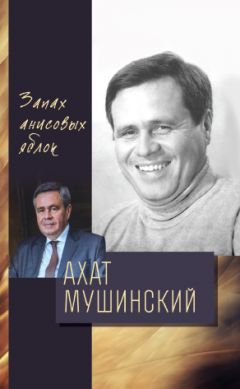
Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 25 (всего у книги 40 страниц)
Одиночество, воля… и память на всю жизнь
Первая книга, которая потрясла меня, была довольно увесистая, в толстом картонном переплёте книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» (полное название: «Жизнь, необыкновенные и удивительные приключения Робинзона Крузо, моряка из Йорка, прожившего 28 лет в полном одиночестве на необитаемом острове у берегов Америки близ устьев реки Ориноко, куда он был выброшен кораблекрушением, во время которого весь экипаж корабля, кроме него, погиб, с изложением его неожиданного освобождения пиратами; написанные им самим»).
Сколько было мне тогда – точно не помню. В памяти лишь то, что после череды сказок, других детских книжек с картинками и без, эта заворожила, приковала к себе и вот уже по прошествии десятков лет после прочтения всё не отпускает.
Конечно, парусный корабль, шторм, кораблекрушение, необитаемый остров, необыкновенная ситуация, в которой оказался молодой путешественник, с последующими приключениями, – всё это вызвало большой интерес. Но было нечто и другое, более серьёзное, которое я осознал с годами, а тогда, в детстве, почувствовал подсознательно. «Робинзон Крузо» великая книга, прежде всего, потому, что без дидактики и назидательства показывает, как с помощью своего интеллекта и воли выжить и вести достойную жизнь на богом забытом острове, оставаться полноценным человеком в, казалось бы, безвыходном положении. Книга эта – литературный гимн труду, каждодневной неустанной работе, осложнённой полнейшим одиночеством, когда тебе не поможет друг, не подскажет товарищ, вне коллектива, вне команды, один на один с собою.
Роман построен очень просто, фабула его незамысловата, язык лёгок и доходчив. Книга в дневниковой форме описывает жизнь человека на необитаемом острове, в одиночестве – день за днём, год за годом, на протяжении почти трёх десятков лет. Да и существование йоркского моряка на ограниченном пространстве без никаких интриг, без взаимоотношений с себе подобными – любви, ненависти, дружбы, вражды (двигателей всех сюжетов) – приключениями-то по большому счёту не назовёшь. Ведь после кораблекрушения, главного происшествия для героя романа, начинаются бесконечные будни, каждодневная работа по элементарному выживанию.
Тут-то вот Робинзон и завораживает читателя, заражает своей энергией, настойчивостью, силой воли. И мы вместе с ним строим жильё-крепость, обносим его частоколом, выдалбливаем из самого большого дерева на острове лодку, охотимся, разводим коз, сеем ячмень и рис, столярничаем, плетём корзины, то есть занимаемся и строительством, и земледелием, и скотоводством, и бытоустройством…
Кроме того Робинзон Крузо был и летописцем – вёл подробный, основательный дневник, а затем, по замыслу Дефо, и воссоздал своё пребывание на острове в литературной форме, значит, был и писателем. Во второй половине своего пребывания на острове он проявил и свои бойцовские качества, когда вступил в схватку сначала с дикарями-людоедами, а затем – с пиратами, продемонстрировал педагогические способности (в отношениях с Пятницей), а главное, как теперь особо остро мною понимается, показал себя величайшим демократом, опережающим своё время на столетия вперёд. Его равноправное, братское отношение к человеку другой расы и другого уровня интеллектуального развития могут послужить примером для многих современных общественно-политических деятелей.
Но главным успехом и примером для нас всех была победа Робинзона над одиночеством. Немало психологов и социологов, писателей и философов занимались этой непростой темой, ломали копья над вопросами уединённости, отстранённости от общества, затворничества, заключения, социальной изоляции, жизни один на один с природой и с самим собой. Эта тема занимала Руссо, Гегеля, Шопенгауэра, Ницше, Эмерсона, Фрейда, Сартра, Хайдеггера… А американский писатель и мыслитель Генри Торо даже провёл эксперимент по уединению от общества – ушёл в глухие места на берегу Уолденского озера, построил там хижину и жил, обеспечивая себя минимально необходимым, о чём написал книгу «Уолден, или Жизнь в лесу». Но это после Робинзона, а до него?
Есть дюжина версий прототипов Робинзона Крузо, в том числе и сам Даниэль Дефо якобы был моделью своего литературного героя. Но если говорить не о прототипах, а о литературных произведениях, предшествовавших книге Дефо, то, прежде всего, надо вспомнить роман арабского писателя Ибн-Туфайля «Повесть о Хайе, сыне Яксана» (начало XII века), который был переведён сначала на латинский, а затем – почти на все европейские языки. В нём мальчик по имени Хай, что означает живой, жизнеспособный (как точно!), оказывается на необитаемом острове, вдали от людей, и, вскормлённый газелью, преодолевая все трудности среди зверей и дикой природы, успешно растёт физически и совершенствуется нравственно. История свидетельствует: роман этот имел влияние и на автора «Робинзона Крузо».
Такая предыстория. Но, заметьте, каких только предшественников не было у Гамлета (Шекспира), Дон Гуана (Пушкина)!.. Бродячих сюжетов море. Но на мировой литературной арене выигрывают в итоге единицы. Среди них и мой «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.
Да, Робинзон победил одиночество. Но первоначально на необитаемом острове оно просто сокрушало моряка: «Все мои понятия изменились, мир казался теперь мне далёким и чуждым… Я смотрел на него такими глазами, какими, вероятно, мы смотрим на него с того света, то есть как на место, где я жил когда-то, но откуда ушёл навсегда».
Одиночество – не природная стихия, не хищный зверь, а враг невидимый, его объятия коварны и суровы, оно не наносит кровоточащих ран, но сжимает безжалостно. Порой до умопомрачения, до самоуничтожения. И Робинзон оказался сильнее этой напасти. Активная жизнедеятельность, постоянный труд, упорство спасли его.
Сила писателя Дефо в том, что читатель всегда оказывался как бы рядом с героем книги, отшельником поневоле, проникался его заботами, разделял все его тяготы и невзгоды и закалялся сам, воспитывал в себе силу воли. Подспудно, подсознательно.
Дело в том, что в одиночестве может оказаться любой. Даже не попадая на необитаемый остров или в иного рода заключение. Известны же разновидности понятия одиночества. Оно, это состояние, разным бывает – физическим, социальным, психологическим… И здесь побеждает тот, у кого, по словам Шопенгауэра, жизненный стержень находится в себе, а не во вне. Так-то, дорогой читатель! А где твой стержень, держит ли он тебя в житейские бури, есть ли в тебе силы учиться, трудиться, идти к намеченной цели самостоятельно? Или твой стержень где-то в толпе, и ты не можешь на долгое время оставаться наедине с самим собою, тебя постоянно тянет к друзьям, общению, к так называемым тусовкам…
Вообще, кто мы – индивидуумы, личности, наделённые самостоятельными качествами – интеллектом, характером, творческими дарованиями – или особи одного большого стада? Меня коробит фраза «человек есть общественное животное». Хотя она и произнесена великим философом и говорит немного о другом, нежели наша тема, всё равно, не выверенная стилистически, она режет слух. О том, что человек становится человеком только в человеческом обществе, можно было бы сказать как-то иначе, не унижая общечеловеческого достоинства. Я долго смеялся, когда в уважаемом толковом словаре в графе «Индивидуум» прочёл пример к растолковываемому слову: «Следующее отделение свинарни был поросятник. Это настоящая лаборатория, в которой производились пристальные наблюдения за каждым индивидуумом». Из той же, в общем-то, оперы, что и предыдущий перл!
Задумываемся ли мы о своих внутренних качествах? Можем ли мы, воспитанные как социальный продукт, жить самостоятельно, без общественных подпорок, выбирать нестандартные формы бытия, обращать себе во благо нежелательные внешние ситуации, в том числе – одиночество. Пытаемся ли мы испытать, побороть себя? Да и без испытаний некоторые виды труда сами по себе требуют уединения – научная работа, изобразительное искусство, литературное творчество, обращения к Всевышнему во время молитвы, идейное затворничество… Но уединение и одиночество – разные вещи. Уединение – это проба океана носком одной ноги. А одиночество – зачастую проверка на излом. И Робинзон не сломался, не одичал на замкнутом пространстве, напротив – материально обустроился и духовно вырос. Показав пример нам, неравнодушным, вдумчивым читателям, которые потом играли в Робинзона, а порой и не переставали исполнять роль в различного рода обстоятельствах – в соревнованиях на выживание, туристических походах, на рыбалке на каких-нибудь островах и даже при работе на своих дачных участках.
Книга увидела свет в апреле 1719 года. Так что ей через год исполнится ровно 300 лет. Дефо принялся за неё и вообще за литературный труд на шестом десятке, забросив политику и журналистику, которыми занимался всю жизнь очень активно. Когда книга вышла из издательства, Даниэлю Дефо было уже 59. Успех получился ошеломляющим. Книга переведена на бесчисленное число языков. У неё появились последователи и подражатели, родилось целое литературное направление – «Робинзонада». Жан Жак Руссо назвал книгу «удачнейшим трактатом о естественном воспитании». Недаром она со временем перекочевала из взрослой литературы в детско-юношескую. В самом деле, пример Робинзона оказался выше любых философствований о пользе труда, здравомыслии, необходимости воли и упорства в достижении намеченного.
Сегодня все замечательные качества Робинзона и его автора радуют ещё тем, что когда-то совсем маленький читатель, пустившийся в плавание в море литературы, сделал правильный выбор своей Первой Книги, помогшей ему впоследствии познать большую, настоящую литературу и даже определить некоторые жизненные приоритеты.
Эту замечательную книгу выдали мне в казанской библиотеке на пересечении улиц Ершова и Абжалилова (дом-башня сталинских времён), в которую я в то далёкое время только-только записался. Она была отмечена в моём совершенно чистом читательском формуляре под первым номером.
Я тут же перелистал её. Что нужно юному читателю прежде всего? Конечно же, картинки. По ним он определяет, насколько ему будет интересно чтение. Рисунки, выполненные пером, с разъяснительными подписями-цитатами, как это делали книгоиздатели раньше, рассказали мне о кораблекрушении, показали островитянина в странных одеждах с ружьём и зонтом из шерсти над головой, его мирный труд, бои с нежданными врагами, верного Пятницу – то у костра спасителя, то на охоте с ним… Я сразу запомнил имя художника-оформителя книги – французского художника Жана Гранвиля. Текст романа с его чёрно-белыми рисунками и по сей день воспринимаются мною как единое целое. Среди множества изданий «Робинзона Крузо» сердцу моему близки те книги, где иллюстратором выступает именно он. И сейчас, когда пишу эту статью, передо мною книга в исполнении слаженного, на мой взгляд, тандема – писателя Даниеля Дефо и художника Жана Гранвиля.
Как, интересно, звали ту библиотекаршу, которая осчастливила меня на всю сознательную, читательскую жизнь? Её, наверное, в живых-то уж нет, как нет сегодня и той библиотеки в поныне здравствующей башне-сталинке над железнодорожным полотном, ныряющим в чёрную дыру тоннеля.
Я жил тогда на Достоевского, бывшей купеческой улице, в получасе ходьбы от библиотеки. В тот день с книгой под мышкой я преодолел это расстояние за пять минут и, запыхавшийся, первым делом забежал к своему одинокому соседу, по профессии астроному, большому любителю литературы, истории и фанату внеземных цивилизаций.
Он обитал среди стеллажей книг от пола до самого потолка своеобразным Робинзоном в нашем многосемейном коммунальном доме. Мальчишка и учёный муж, мы странным образом дружили. Я часами засиживался у него, слушая интересные рассказы и листая дореволюционные, представьте себе, журналы «Огонёк», «Мурзилка», книги с картонными страницами о Незнайке и его друзьях…
С порога я показал ему взятого из библиотеки «Робинзона Крузо». Он с большим интересом пролистал книгу и сказал, что в библиотеке я сделал для себя прекрасный выбор. Потом достал с полки потёртый, древний фолиант и протянул мне. Я взвесил на ладони объёмистую книжищу, раскрыл… Это был «Робинзон Крузо», изданный ещё в XIX веке. Его плотные, пожелтевшие страницы заполнял дореволюционный, трудно воспринимаемый крупный шрифт, каждая глава брала начало с узорчатой буквицы, а иллюстрации… – да, Жана Гранвиля!
За два дня мы прочли роман. Я – своё издание, с современными буквами, в пересказе Корнея Чуковского; он, не знаю, в который раз – своё (не могу сказать в чьём переводе). Для моего звездочёта одинокий остров в океане был, наверное, как далёкая необитаемая планета, которую должен освоить человек. У меня были другие впечатления. Их трудно передать и позабыть одновременно.
С годами в библиотеке моего почтенного друга я привык и к «ятям», и «ижицам». С этими буквами читал я у него Пушкина, Толстого, «Историю» Соловьёва, стихи Надсона, Библию, Коран, словарь Брокгауза и Ефрона и многое другое. Его обширная библиотека, с рельефными корешками и устойчивым духом столетий, была для меня наиважнейшей. Наряду с крупными, государственными, какими пользовался всю жизнь.
Соседа звали Сергей Николаевич Корытников. В моей книге «Шейх и Звездочёт» он прошёл под именем Николай Сергеевич Новиков. Поскольку СНК (так он подписывал свои книги) был одинок, библиотека после его смерти перешла по наследству ко мне. Часть её я передал в Астрономическую обсерваторию Энгельгардта, где он работал, часть роздал его друзьям, а часть оставил себе. К сожалению, то самое издание «Робинзона», которое он в тот памятный день достал с полки и со мной за компанию листал и перечитывал, впоследствии я так и не обнаружил.
2017
Уединённые прогулки по сосновой роще
(О Гаврииле Каменеве)
Я не просплю сказанье сосен,
Старинных сосен долгий шум…
Николай Рубцов
Певец печали и тоски
Каменев здесь частенько бывал – в сосновой роще, раскинувшейся сразу за Кизическим монастырём. Конечно, правильней было бы называть этот сосновый лес на возвышенности бором, но как-то так повелось – роща да роща, хотя тут не было видать ни одного лиственного деревца. Зато плотной стеной возвышались корабельные сосны, обрамлявшие белокаменные храмы тёмно-зелёной хвоей. Это для взора путника со стороны Казани (тогда ведь, в конце XVIII – начале XIX века, здесь, за рекой Казанкой, города ещё не было).
В низине, с юго-востока рощи, текла вертлявая речка Комаровка, рядом с монастырём дремало луговое, сказочной красоты озерцо. Сюда отдыхать приезжали влиятельные люди не только града Казани.
Каменев в уединённых своих прогулках по роще любил останавливаться на её противоположной от накатанной дороги стороне, на круче, под которой протекала Комаровка. Но смотреть он любил вдаль, где в дымке вырисовывался древний Кремль, а в вешних водах Казанки отражались златоверхие церкви и стрельчатые мечети города – по весне река под Казанью разливалась, занимая пойменные луга и превращаясь в одно большое зеркало.
Здесь, на взгорье, под «сосен шум» Гавриилу Каменеву хорошо думалось, а весенними, особенно майскими днями, даже мечталось и легко сочинялось. Но май не круглый год длится, и поэта всё более одолевали мрачные, безотрадные думы. Они усиливались после посещения кладбища на окраине рощи у монастыря, где покоились рано ушедшие из жизни его родители.
Гавриил Каменев происходил из рода именитого Макулы-мурзы, который после захвата Казани Иваном IV был крещён при высочайшем царском присутствии. Отец поэта, Пётр Григорьевич, был высокообразованным казанским I гильдии купцом, президентом губернского магистрата и городским головой. Во время посещения Екатериной II Казани взгляд её задержался на красавце Петре Григорьевиче… Умный, статный купец был приближён к императрице и сопровождал её до Симбирска. В память о путешествии по Волге Екатерина II вручила купцу, чуть было не будущему фавориту, дарственную шпагу.
Мать Гавриила, Татьяна Ивановна, была дочерью казанского купца, ярого старообрядца Ивана Васильевича Крохина. Надо же, какие сюжеты закручивает жизнь, нарочно не придумаешь! Когда другая «царская» особа, Емельян Пугачёв, пребывал в Казани, Иван Крохин стал ему опорой и доверенным лицом. Пугачёв частенько приезжал к нему на Георгиевскую улицу, молился в его тайной старообрядческой моленной, парился в баньке, а после побега прятался в его никому не ведомой пещере за Поповой горой.
Своих родителей Гавриил лишился очень рано. К четырём годам будущий поэт остался без отца, а к семи – и без матери.
У Гавриила остались две сестры – Пелагея и Анна. Что интересно, дочь Анны – Александра, в будущем поэтесса, вышла замуж за известного казанского профессора Карла Фукса, у которого гостил Пушкин во время сбора материалов о Пугачёвском восстании. Александр Сергеевич, увидев на стене фуксовского кабинета портрет Гавриила Каменева, сказал: «Этот человек достоин уважения. Он первым в России осмелился отступить от классицизма. Мы, русские романтики, должны принести должную дань его памяти. Каменев много бы сделал, ежели б не умер так рано». Племянница Каменева – Александра Фукс – вспоминала: «Пушкин, бывало, подолгу смотрел на портрет моего родного дяди. Александр Сергеевич очень высоко ставил его в ряду русских поэтов и просил меня собрать все сведения о нём для написания впоследствии его биографии».
В самом деле, Казань славна двумя поэтами допушкинской эпохи в русской литературе, двумя Гавриилами, двумя потомками татарских мурз – Державиным и Каменевым.
Каменев получил прекрасное образование в лучшем казанском пансионе немца Вюльфинга. У него поэт в совершенстве овладел немецким языком и проштудировал немецкую литературу. С юности он пристрастился к переводческой деятельности. В разные годы он перевёл произведения Клейста, Геснера, Козегартена… Каменев также изучил английский и французский языки. Французская революция, вдохновившая было молодого человека, в итоге со всеми своими казнями, войнами, массовыми убийствами, глубоко разочаровала его и ввергла в пессимизм и тоску. Тут ещё трагическая любовь к дочери врача-немца… Влиятельные опекуны не дали Каменеву жениться на чужеземке. Он готов был, как Русин (герой одного из немногих его прозаических произведений), перешагнуть условности общества и ввергнуть себя в огонь запретной любви. Но избранница неожиданно заболела и умерла. Отчего? Гавриил посчитал, что причиной тому – несостоявшийся союз сердец, и винил в этом себя и свою слабохарактерность.
Влачится в скуке жизнь моя,
Лишась подруги кроткой, милой,
В сей жизни горестной, унылой
Томятся сердце и душа.
Но скоро я глаза закрою
И смерти хладною косою
В могилу тёмную сойду…
Смерть, переживания по вечно уходящим людям, безостановочно утекающим времени и жизни – главная тема его мрачного творчества. А творчество и жизнь у поэтов – это обыкновенно два взаимно сообщающихся сосуда. И зачастую не поймёшь, что первично, что рождает что – трагедия поэзию или сама поэзия – трагедию. И библейское «в начале было слово» в случае с Каменевым приходит на ум совсем не случайно. Он сам себя умел ввергать в тоску и нескончаемое депрессивное состояние. Все эти могилы, гробы, мертвецы – визитная карточка первого романтика русской поэзии. «Ничего себе романтик!» – скажете вы! Но так он определён в Табеле о рангах отечественного Парнаса, несмотря на небывалую мрачность его поэзии. Поэт ведь, как божья птичка, тему своих песен не выбирает, что вложил в его грудь Всевышний, то и выдаёт:
В воздухе душном всё увядает,
Блёкнет, на что ни взгляну;
Древние сосны зноем томятся,
Ноют – молчат.
Воздух, сгущённый паром зловонным,
Грудь мою тяжко теснит;
В лютом мученьи чувствую близко
Горькую смерть.
Это вторая и третья строфы стихотворения «Сон», которое Каменев создал незадолго до смерти. Его написание предварил подлинный сон, в котором поэту привиделся человек в чёрной одежде. Как тут не вспомнить «чёрного человека» Пушкина («Моцарт и Сальери») и Есенинскую поэму с одноимённым названием! Так вот «чёрный человек» Каменева ведёт его к могиле, поднимает с неё плиту и показывает мертвеца, в котором он узнаёт себя. В стихотворении и описании сна даны картины сосновой рощи и погоста близ Кизического монастыря. Здесь, 24 мая 1803 года то ли в роще, то ли на кладбище, во время ночной прогулки поэт и уснул. И увидел этот сон. Здесь же буквально через месяц Каменев был похоронен.
Однако мы забежали чуть вперёд. После разбитой любви был период кутежей и необузданного разгула. Это тоже особенность поэтов – заниматься саморазрушением и находить в этом упоение.
Но до раннего ухода из жизни ещё одно испытание ждало поэта – испытание браком. Каменев женился на пензенской дворянке Марии Подладчиковой, красивой, умной, страстной особе. Брак этот организовали попечители и «доброжелатели» Каменева. Он был заключён не на небесах, а на земле грешной, что называется, по расчёту. У супругов родились две дочери. Со временем поэт воспылал любовью к своей жене, но было поздно – здоровье его, расшатанное разгулом саморазрушения, и психика, обильно орошённая загробным творчеством, стали давать сбои. Неудивительно, что красавица Мария большее счастье находила в светской жизни, чем в семье.
Утешением в жизни Каменева остались только сочинительство и уединённые прогулки по сосновой роще. Да ещё поездки в Москву и Санкт-Петербург. В Москве он завёл дружбу со знаменитыми Карамзиным, Дмитриевым, Херасковым… А в С.-Петербурге его приняли действительным членом Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, в котором в разные годы состояли Рылеев, Дельвиг, Кюхельбеккер, Глинка… В изданиях общества печатались Пушкин, Баратынский… В Казани Каменев был известен как купец и кутила, а в двух столицах как большой русский поэт. В Первопрестольной и Северной столице больная душа основоположника русского романтизма и автора первой русской баллады оттаивала. Баллада называлась (и называется) «Громвал». Она стала предтечей «Руслана и Людмилы» Пушкина. А москвичи и петербуржцы из этой баллады впервые узнали о существовании под Казанью крылатого змея Зиланта.
Повторяю, никто из казанских не получил такой всероссийской известности в поэзии, как два Гавриила – Державин и Каменев.
В сентябре 1802, вернувшись в Казань из С.-Петербурга членом престижного литературного общества, Каменев вновь загрустил. Романтик и певец смерти не мог иначе. Его мечты и устремления не совпадали с реальной жизнью. В стихотворении, посвящённом друзьям, он пишет:
Придите! Древних сосн в тенях
Надгробный камень там белеет,
Под ним – ваш друг несчастный тлеет,
Слезой его почтите прах,
Почувствуйте в душе унылой,
Как над безмолвною могилой
Во мраке ночи воет ветр.
Через неполный год, в июле 1803 года, на тридцать втором году жизни Каменев скончался. Поэт был похоронен под сосен шум на кладбище Кизического Введенского мужского монастыря рядом с отцом.
Спустя столетия
Я учился в школе, которая и по сей день находится у сосновой рощи, на её противоположной от Кизического монастыря стороне. Тогда роща ещё худо-бедно сохраняла свою былую стать – шумела в своих высоких кронах, поскрипывала мачтами живых стволов. А вот монастыря как такового давно уже не было. В мою бытность в разгромленном здании обители (без храмов и колокольни), зато отштукатуренном и офлаженном, размещался районный военкомат, откуда я восемнадцатилетним призывником был отправлен служить в армию.
Из окон школы открывалась широкая панорама вечно зелёной рощи. На уроках я подолгу следил, как весной мальчишки в окружении сосен катались по пруду на льдинах, умело правя длинными шестами.
В роще, на его полянах, проходили наши уроки физкультуры – бегали, прыгали, гоняли футбольный мяч, а зимой нарезали круги по лыжне вокруг лесного массива.
Никто из нас и не думал, что мы бегаем по кладбищу, никто нам не рассказывал, что мы топчем чей-то прах, чьи-то захоронения – никаких могильных холмиков, всюду ровная травка, небольшие полянки, превращённые в лысые физкультурные площадки. Только поодаль, на самом краю рощи, у бывшего монастыря и вдоль когда-то Большой улицы, которая получила современное название – «Декабристов», попадались нам среди кустарников надмогильные камни с истёртыми временем именами и датами давным-давно усопших людей.
Позже я узнал, что здесь покоились прадед Льва Толстого – голова Казани Илья Андреевич Толстой, ректоры Казанского университета Илья Яковкин, Николай Ковалевский и Иван Симонов – астроном, участник кругосветной экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, открывшей Антарктиду, другие достойные люди.
Высокомерный! Зри те гробницы,
Сколь они пышны! Верно со треском
Скоро исчезнут, падут.
Поэт как в воду глядел. К концу моей учёбы в роще исчезли (правда, без треска и шума) последние надгробные памятники. Их пустили на поребрик вдоль улицы Декабристов.
Поэт немало стихотворений посвятил своей любимой роще. Гулял он здесь и летом, и зимой, и в уединении, и с друзьями…
Вчера с друзьями я ходил
В тени сосновой тёмной рощи,
Прохладной ожидая нощи,
Там с ними время проводил.
Размышлял об ушедших днях, думал о грядущих:
Гряди, свет утренний румяный,
Гряди, о милый день!
Вдали там из-за тёмной рощи
Мелькает уж твой луч…
Грядущее оказалось не совсем светлым и милостивым. Отческие гробы как языком слизнуло. Вместе с могилой нашего героя. Да и сама патриархальная роща сдала под натиском прогрессивной современности. С одной её стороны возвели так называемый Дворец химиков, с другой построили крытый бассейн. Неподалёку был открыт ресторан с соответствующим названием «Сосновая роща». В самой роще, точнее уже, парке появились качели-карусели… На каждый Новый год на бывшем погосте принялись ставить «лучшую» в городе ёлку, появились аттракционы, зверинцы, пивные ларьки, шашлыки… Потом пиво запретили, всё остальное осталось, в том числе и пиво, которое и без киосков лилось рекой и заносило округу мусором использованных бутылок, банок… Да, чуть было не забыл. В пору, когда ещё сохранялись редкие надгробные камни, рядом с ними, над двумя лестничными маршами, спускающимися на улицу Декабристов, возвышался памятник Ленину с вытянутой рукой в сторону, должно быть, светлого будущего. Как-то зимой я обнаружил, что Ленина заменили на Дедушку Мороза на качелях в обнимку со своей внучкой Снегурочкой.
Весело жить без роду, без племени, без памяти…
Говорят, народ в России живёт не по закону, а по пословицам и поговоркам. На похоронах 35-летнего городского головы Петра Григорьевича Каменева говорили: «Быть тебе семь веков на людских памятях». Какие там семь веков, какие памятники?! За один только-только перевалили, как буйное безвременье сравняло с землёй его, городского головы, могилу вместе с могилой сына, гордостью российской поэзии, вместе с могилами других воистину великих людей. И монастырь большей частью был разрушен и разорён. Его сначала хотели полностью разобрать и построить баню, потом здесь были размещены колония для несовершеннолетних, а также загс, и, наконец, в Братском корпусе обезглавленного монастыря, в её кельях зафункционировал райвоенкомат, который я уже упоминал.
В 2001 году комплекс Кизического монастыря передали Казанской епархии. Монастырь начали восстанавливать. Даже новострой надгробья Ильи Андреевича Толстого сотворили и немало кое-чего другого хорошего.
Только вот сотни могил в сосновой роще у монастыря исчезли с лица земли, бесследно и навеки. Вместе с надгробьями, именами, датами… Будто и не было этих людей на свете, не было астронома и путешественника Ивана Симонова, не было поэта и первого романтика России Гавриила Каменева… И дремучего, тёмного бора у монастыря с мачтовыми соснами до неба будто тоже не было.
Это оскудевшее, полысевшее место с тремя облезлыми сосенками посредине теперь официально называется «Парк ДК химиков».
А в народе имя её, нашей сосновой рощи, всё ещё по старинке хранится. Так бывает: исчезает что-то, переименовывается, а в людском сознании, в обиходе продолжает жить. Примеров тому не счесть.
По невидимым стопам
Школа та у рощи была по тем временам современная – с большими, светлыми классами, актовым и спортивным залами. В ней я стал учиться с середины пятого класса, переехав с родителями из другого района города. Меня почему-то сразу посадили на первую парту у окна. Соседкой моей оказалась симпатичная, умная, всегда сдержанная девочка по имени Майя. Как-то мы с ней поспорили… Теперь даже не помню, о чём именно. Но главное то, что я проиграл. По условиям спора я как проигравший должен был проводить её до дома, нагрузившись всеми её вещами – портфелем, второй обувью в мешочке, тубусом со стенгазетой, которую она должна была своим красивым почерком исписать.
На дворе май, последние дни учёбы. Мы пошли через рощу. Тепло, птички весело чирикают. Майя собрала на полянке букетик золотых одуванчиков. Настроение хорошее, только немного жарковато, ведь у меня и свои вещи имелись при себе. Но в те времена тенистых мест в роще было больше, особенно в той её части, где ещё сохранялись надгробные камни. Наш путь по тропинке лежал как раз мимо них.
У одного из камней она остановилась и положила к его основанию свой букетик.
– Здесь ведь раньше кладбище было, – сказала она. – И тут, на этом кладбище, похоронен был замечательный казанский поэт Гаврила Каменев.
– Но это же не его могила, – ответил я, пытаясь сложить вслух еле заметные буквы на памятнике.
– Нет, конечно. Его могила, как и большинство других, исчезла. Но он же вот в этой земле покоится. Может быть, где-то рядом.
– Откуда ты о нём знаешь?
– Знаю вот. И заметку написала. Почитаешь завтра. – Она взяла из моих рук тубус. – Разгружу, а то раскраснелся уж весь.
На другой день в стенной газете, посвящённой окончанию учебного года, я прочёл небольшую заметку о поэте-земляке Гаврииле Каменеве, который любил гулять по нашей роще. Я сразу нашёл то место, откуда он подолгу взирал на далёкий Казанский Кремль. А место захоронения – нет. Место вечного покоя поэта, которое он лелеял в своих стихах, никому не известно.
С тех пор прошло много лет. Я жил не тужил, шагая вперёд по жизни безоглядно. А теперь всё чаще оглядываюсь и вспоминаю бесконечно зелёную сосновую рощу, шумные деньки юности на её полянах, отъезд в армию из монастыря-военкомата, свои уединённые прогулки по редеющей рощице… Даже вот одноклассницу вспомнил, из уст которой я впервые юношей услышал о печальном казанском поэте, по чьим невидимым стопам бродил, наверное, не я один.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































