Текст книги "Запах анисовых яблок"
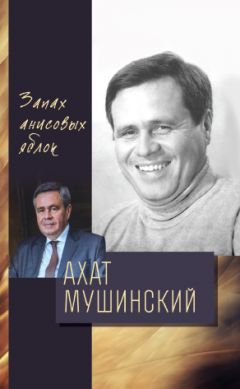
Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 40 страниц)
Тем временем овражек стал быстро наполняться водой. Не хватало коренному волжанину в какой-то позорной яме утонуть! Я полез по склону, скользя и скатываясь обратно. Когда воды было уже по пояс, попытка удалась, и я выбрался из западни.
Я растянулся ничком в холодной мути, бездумно хороня лицо в ладонях, повторяя про себя одно и то же: «Ничего, я терпелив и упрям. Переживём и эту напасть!» Что интересно, много лет спустя, мой шеф выговаривал мне у себя в кабинете: «Ты необыкновенно упрям, дорогой, стоишь на своём вопреки всякому здравому смыслу». Я ответил, вспомнив ту бурю и ту мутную жижу, в которой лежал вниз лицом под дождём: «Да, что есть, то есть».
А дождь сменился градом. Белые горошины забарабанили по спине, по неприкрытому затылку. А где фуражка-то? (Замечу в скобках, у погранцов пилоток нет, только фуражки. А так хотелось походить в лёгкой пилоточке!) Стал шарить вокруг – не нашёл. Наверное, в яме осталась.
Наконец, в небесной канцелярии смилостивились – заменили град на душ простого, но сильного дождя. По-прежнему сверкало, громыхало, и порывистый ветер накатывал и накатывал дождевыми волнами. Надо было двигаться, и я пополз, превозмогая боль в ноге. Сколько длился этот кошмар, трудно сказать. Сознание вдруг прояснилось, когда я наткнулся на столбик с вывеской «Mala-Malina».
«Мала-Малина», – повторил я вслух. И уж про себя: «Надо же, до какой-то польской деревни дополз!» Попытался подняться, но боль так стрельнула от ноги по всему телу, что и сознание застила. Но я всё равно пополз. Мной опять двигало исключительно оставшееся включённым упрямство и какая-то сила инерции на полном автомате.
Где болото, где граница, где я сам, было непонятно. Дальше своего носа ничего не видать. Дождевая завеса не расступалась. Я продвигался на четвереньках. Останавливаться нельзя было. Остановка смерти подобна – расслаблюсь, усну и хана. Маршрут рисовался в голове навязчивым пунктиром между «Мало-Малиной» и болотом – к погранстолбам.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Ясно было одно: я бестолково сбился с пути.
Буря прекратилась так же неожиданно, как и началась. Расправило лучи предзакатное солнце, на небе ни облачка, кружат в вышине не то стрижи, не то ласточки, в луже купаются воробьи… Я подтянулся к одинокому дубу, облокотился спиной к его могучему стволу – надо было передохнуть, собраться с мыслями, сориентироваться.
И вот полулежу, полусижу я так… Один сапог снял, второй не смог… Мимо проплывает яхта с белоснежными парусами, с борта её сходит ангел в белом лёгком платьице, подходит ко мне, называет по имени, тормошит за плечо, я пошире открываю глаза – передо мной Иренка.
– Же с тобой? – присела она рядом на корточки. – Проше, скажи же ж?!
Я протёр глаза кулаками – не сон ли это? Коснулся руки Иренки – тёплая, живая… И поняв, что не сплю, вдруг рассмеялся по-детски простодушно и доверчиво.
Иренка повторила вопрос. Пришлось рассказать: был брошен на покраску погранстолбов, решил от одного столба до другого пройти по польской стороне, обогнув болото, началась буря, повредил ногу, заблудился…
– Где я?
– У меня в гостях, в Мала-Малине, вон наш дом на холме с краю, – показала она пальчиком на белый домик с оранжевой крышей недалеко от обрыва.
Не буду расписывать своё тогдашнее состояние, вдаваться в малоприятные подробности своей жалкой эвакуации с поля боя: как Иренка подогнала своего гнедого с двухместной коляской на мягких шинах, как увезла к себе домой, как освободила распухшую ногу от сапога, разрезав голенище… Она сбегала и позвала врача, друга семьи, жившего по соседству. Его звали Кшиштоф. Он осмотрел мою раздувшуюся лодыжку, но диагноз поставить не смог – то ли связки порвал, то ли вывих…
– Но не открытый же перелом, – пошутил я.
– Слава богу! – сказал он. – Надо снимок делать. – И сделал мне обезболивающий укол в ягодицу. – Може, временно шину наложить?
– Не надо, – сказал я. – В санчасти всё сделают.
Солнце село за макушки дальнего леса, я засобирался домой, к себе на заставу, но Иренка отговорила. Сказала: завтра с утра пораньше отвезу к шлагбауму, заодно и молока прихватим, а нога, врач же сказал, скорой помощи не требует. Я взвесил ситуацию, положив на одну чашу весов своё «дезертирство» и расплату за это, на другую – Иренку, общение с ней, о котором мечтал, но в которое уже не верил. И вторая чаша перевесила.
– Ты права была, – напомнил я, – сказав тогда на прощание: увидимся.
Посмеялись над её пророчеством. «Да, – подумал я, – теперь смешно, а что потом будет?» Чёрная метка прокралась в мозг мой, помню, только единожды, больше тяжёлыми мыслями я не омрачал подаренное судьбой нам с Иренкой свидание. Да и права она: не я же виноват, в конце концов, а буря, форс-мажор.
Ужинали в саду. Последний вечер мая. С яблонь сыплет оставшимся цветом. От бури ни следа. Дом Иренки на взгорье, лужи здесь не задерживаются.
– А где пан Милош? – спросил я.
– В госпитале, – ответила она. – Температура поднялась…
– И я ещё тут с ногой…
– Ничэго, – заверила она. – И тата выздоровеет, и ты поправишься.
Одноэтажный дом, расписанный по белой штукатурке райскими птицами, причудливыми цветами в завитушках трав, с черепичной крышей и высокой красного кирпича трубой, на которой огромной шапкой свили гнездо белые аисты, смотрелся павильонной постройкой для какого-то сказочного фильма. Хозяин гнезда на верхотуре вытянулся во весь рост в своём белом фраке с чёрными фалдами, задрал голову и гулко цокал длинным клювом, объясняясь в чувствах возлюбленной, устроившейся рядышком. «Гость» внизу за столиком, накрытым вышитой цветными нитками скатертью и убранным необычными кушаньями и закуской, потягивал из бокала самодельное пиво в компании юной, очаровательной хозяйки. Боль в ноге после вмешательства пана Кшиштофа поугасла, душа вбирала в себя все ароматы освежённых ливнем здешних полей и лесов; низким грудным контральто ласкала слух корова в хлеву, та самая, должно быть, что поила своим молоком всю нашу заставу. Я сидел в белой просторной рубахе и холщовых портках пана Милоша (одёжка моя сушилась на бельевой верёвке во дворе), любовался Иренкой, и мир казался мне прекрасным, жизнь удивительной и будущее виделось светлым и счастливым. Такого радужного и вдохновенного состояния я в жизни больше никогда не испытывал. А что, мне восемнадцать! Иренка всего на полгода младше. Оба мы свежи, чисты, помыслы наши возвышенны. Я смотрю в её серо-бирюзовые глаза и ощущаю себя на седьмом небе. Иренка поправляет пшеничную прядку, сорвавшуюся из-под платочка, что-то говорит, а я, восторженный жеребец, бью копытом и ничего не слышу.
– Что? – переспрашиваю.
– Гдзие, молвлю, находится Казань? Ближе Москвы?
– Нет, дальше.
– Гдзие дальше?
– На Волге-реке.
– А-а… – кивает она понимающе и опять спрашивает: – По-русски: я тэбе люблю. А по-татарски как будет?
– Мин синэ яратам.
Она смеётся, пытается повторить, но у неё это плохо получается. Я замечаю на груди её, в разрезе платья, маленький крестик. Она ловит мой взгляд, и крестик исчезает, только тоненькая цепочка остаётся на виду.
Я прошу её спеть.
– Нье, – говорит она, потом соглашается, выносит из дому гитару, и по вечерним туманам и выпавшим на ночь прохладным росам плывут задушевные польские песни.
Я был сражён наповал. Восхищался, благодарил её, а поцеловать, хотя бы по-братски, – нет, не осмелился.
Уже темно, она в свете фонаря над террасой пишет что-то авторучкой на листе бумаги и протягивает мне.
– Что это?
– Мой адрес.
Я бегло читаю. Труднопроизносимое воеводство из двух через дефис слов, далее – Мала-Малина. Это понятно. Улица, номер дома… И подпись: Иренка Игначек.
Аккуратно складываю лист вчетверо, прячу в нагрудном кармане рубахи.
Она постелила мне в небольшой комнате с окнами в сад. Вокруг белизна стен с фотопортретами неизвестных мне людей, на белёной печи – разноцветные узоры, как на стенах дома снаружи. Из открытого окна веет послегрозовым, насыщенным озоном, чистым, свежим воздухом. Защёлкали, засвистели в саду на все лады соловьи… Не спалось. Перед глазами стояла Иренка, и я говорил ей то, что не хватало духу сказать вечером. Я слышал, как она за дверью тихо ступает туда-сюда, позвякивает посудой, вёдрами, выходит во двор – управляется с возложенным на её хрупкие плечи хозяйством. Уснул как-то резко, мгновенно, точно в яму провалился.
Утром меня ждала на табурете чистая, свежевыглаженная солдатская форма, на столе – стакан молока. В углу стояли костыли, один мой сапог с какой-то калошей рядом – для больной ноги, стало быть, и пакет, видать, со вторым, разрезанным сапогом. Да, нога опять заныла со страшной силой, хоть на стену лезь.
Около шести утра Иренка вошла ко мне в комнату опять-таки с паном Кшиштофом. Он осмотрел больную ногу, опять сделал мне обезболивающий укол и сказал, что часа на четыре действия инъекции хватит.
– Успеешь до своих добраться.
– Не знаю, как и благодарить вас, пан Кшиштоф! – ответил я.
Я встречал потом в жизни немало хороших людей, но образ пана Кшиштофа остался в памяти в каком-то её особом красном уголке.
На завтрак были два яйца всмятку, хлеб, масло, вчерашние вареники (с картошкой, творогом, грибами), которые она называла пиро`гами, и кофе с молоком. На этот раз мы сидели на веранде с видом на бескрайние, окутанные туманом поля в низине и на встающее за границей, далеко в России солнце.
Я сказал Иренке:
– Скоро солнце перейдёт на эту сторону, а я, наоборот, – на ту.
– Жаль… – произнесла она тихо. – Може, останешься?
– Шутишь?
– Шучу, натуралнье.
– Жаль, что шутишь. Думал, ты по-настоящему хочешь, чтобы я остался.
– По-настоящему хочу, – эхом отозвалась она.
Когда влюблённые говорят друг с другом, со стороны кажется, что парочка какую-то бессмыслицу несёт. На самом деле, в диалоге их не суть произнесённого важна, а интонация, чувство, окрашивающие каждое слово, как в песне, каждая нота главенствует, а не слово. Хорошую песню и насвистеть можно, и намурлыкать бессловесно.
Надо было шевелиться. Я сказал «спасибо» и поцеловал хозяйку в щёку. Да вот, утром решился, потому что утренний поцелуй отличается от вечернего. Он по-детски целомудрен и безгрешен. Она опустила глаза, поправила скатерть и протянула мне пакет на плетёных ручках:
– Это гостинец тебе на дрогу.
Я заглянул в пакет, там покоились сдобные булочки, конфеты, баночка мёда и платочек, вышитый нитками мулине.
Я как-то застеснялся.
– Возьми, возьми, Вагиза угостишь. – Она принялась прибирать со стола. – Сейчас карету подам.
Собравшись, я выглядел следующим образом: под мышками костыли, на одной ноге сапог, другая нога в одном носке поджата – не пригодилась калоша. Ни сумы с банками-склянками, ни телефонной трубки, ни фуражки – всё потеряно. Только штык-нож остался на поясе. И это важно, всё-таки оружие солдату терять нельзя.
В «карете» мы разместились втроём – Иренка, я и бидон с молоком, который, оказывается, рано утром помог погрузить всё тот же пан Кшиштоф.
Гнедая шла резво, помахивая хвостом и посыпая дорогу свежими «яблоками».
– Как её звать-то? – кивал я на лошадку. – А то останемся не познакомившимися.
– Всход, – отвечала Иренка.
– Восход, значит?
– Та… А ещё – и Восток.
Первую часть пути мы беспрестанно болтали, а ближе к границе замолчали, нам сделалось грустно. Шлагбаум был поднят, и под его крылом, увешанным сетями и предупредительными дорожными знаками, в сторону Польши двигалась с поочерёдными остановками колонна легковых автомобилей. В другую сторону машин не было. У шлагбаума нас уже ждали «грузчики» – Вагиз Шакиров и Черёмуха. Поодаль в «газике» – Вовка Абрамов.
– О, возвращение блудного сына! – воскликнул Черёмуха, увидав на повозке пассажира с костылями наизготовку. – А тебя уже особист на заставе дожидается.
Вагиз, в отличие от язвительного сослуживца, радостно произнёс:
– Наконец-то?! – И помог мне сойти с повозки. – А я уж не знал, что и подумать. Пропал и всё! Целые сутки ни слуху, ни духу. Думали, может, молнией ударило. «Тревожка» весь фланг облазила в поисках тебя. Ладно, жив хоть!
– Жив-жив, – как можно безразличнее, произнёс я и закостылял к проходу у капэпэшной будки. Ребята сняли с повозки бидон с молоком, понесли к машине. Я обернулся к Иренке, протянул костыли: забери, мол. Она спорхнула с повозки, подбежала:
– Гостинец забыл! – Сунула мне в руки пакет, часто-часто заморгала, её белёсые ресницы стали влажными и потемнели. – До свиданья, сержант!
– До свидания, Иренка!
– Сразу напиши, ладно?
– Обязательно напишу!
Выходит, она почувствовала, что на заставе меня не оставят (конечно, здесь же не было ни госпиталя, ни санчасти), поняла, что я больше не приду к шлагбауму за молоком…
Потом Иренка неожиданно и беззастенчиво обняла меня, поцеловала в мои пересохшие губы и побежала обратно к повозке.
– А костыли… Костыли-то забери!
– Оставь пока себе.
– Спасибо! – Мне особенно понравилось слово «пока». Значит, я должен вернуть их? Выходит, опять увидимся. Слово-то у неё – олово.
* * *
Первый допрос «дезертиру» сразу по прибытии его на заставу учинил офицер особого отдела, толстопузый, с маленькими, дамскими ручонками мужичишка в новеньких погонах майора на узеньких плечах. Не буду описывать все его «зачем?» да «почему?» – ничего интересного. Впрочем, одна ветвь «собеседования» мне запомнилась почти дословно и считаю уместным его здесь привести. Майор понимал, что перед ним не шпион какой-нибудь, не агент-007 и поэтому начал разговор как-то даже вяло, без интереса, но в один из моментов вдруг хлопнул своей кукольной ручонкой по столу:
– Завёл, понимаешь, шашни с гражданкой сопредельного государства!
– Не шашни вовсе… – пытался возразить я.
– Ну, ну… – криво усмехнулся он. – Любовь, может, ещё скажешь! Один так за свою любовь, тоже, кстати, к полячке, отчизну предал. Отец родной потом его за это расстрелял самолично.
Особист оказался человеком образованным, «Тараса Бульбу» читал и, получается, для него казачий атаман, убивший сына, был во всём прав.
– Это вы об Андрии Бульбе? – уточнил я.
– О ком же ещё!
– Но он в повести, на мой взгляд, самый честный и красивый образ. Для него панночка и была отчизной.
– Одним миром мазаны, – заключил майор. – К стенке, правда, тебя не поставят, но за самоволку с незаконным пересечением границы впаяют по полной…
– Но никакой самоволки не было.
– А что тогда было?
– Буря, потеря ориентиров…
– Да уж, с ориентирами у тебя туго не только в географическом плане! – остроумно заметил майор.
Я понимал логику военного следователя. Профессия, должность обязывали… Но я не понимал, откуда он всё так подробно и оперативно знает – и про коробку с книгами, и про моё «путешествие», и про Иренку…
В тот же день, после обеда, майор этот, при поддержке конвоира-автоматчика, этапировал меня на «газике» в Калининград, в штаб отряда, где с меня были сняты показания о моём правонарушении и начали решать, на какую губу меня запичужить, под какой трибунал отдать. За меня вступился командир отряда, полковник Суслов. Он сказал, «дезертира» надо сначала полечить. И меня отправили в санчасть, находившуюся рядом со штабом. Таким образом, оказался я один в отдельной палате второго этажа санчасти, у двери которой дежурил часовой с «калашом» на груди. Да куда это я на одной ноге убежал бы?! Диагноз моей травмы – растяжение голеностопного сустава. Лечил меня лейтенант, военврач по фамилии Худяков. Скажу уж в память о нём: мы с ним нашли общий язык на тему далеко не кислых щей. Открывая дверь палаты, он весело восклицал:[6]6
Губа (армейский жаргон) – гауптвахта.
[Закрыть]
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.
Подолгу сиживал он у меня, беседуя об отвлечённом, высоком, красивом. Даже угостил как-то поздним вечером болгарским коньяком «Pliska». А однажды днём пришёл в палату с незнакомым подполковником и, кивая на меня, сказал:
– Вот он, кого вы ищете.
– Хорошо, – ответил важный гость.
Это был ответственный секретарь газеты «Наш пограничник», подполковник Барсуков, коренастый, крепко сбитый мужик с фотоаппаратом на груди. Оказывается, очерк мой о Вагизе Шакирове подготовили к печати, и не сегодня-завтра он должен был быть опубликован. Гость присел на стул у моей кровати:
– И как нога?
– Заметно лучше, товарищ подполковник. Врачи у нас что надо!
– Твой очерк нам понравился, – начал он. – Не хочешь ли поехать на стажировку в редакцию нашей газеты?
– Я же военный преступник, – усмехнулся я невесело в ответ. – Вы видели часового у двери палаты? Это меня стерегут, чтобы не сбежал.
– Наслышан, наслышан… Но это уже наша забота, разберёмся, – положил он свою огромную ладонь на мою руку. И стал расспрашивать о частностях моей жизни – кто родители? где научился рисовать? кем мечтаю быть?
Я ответил, что хочу стать писателем, а для этого хорошо бы пройти журналистскую школу. Думаю у себя в Казани в университет поступить, на журфак. Это я Катаева начитался, который советовал будущим писателям поработать газетчиками. После стыдно было – раздухарился, писателем себя возомнил. От стажировки же в редакции, естественно, не отказался. Подполковник сказал, что скоро меня вызовут… На прощание сфотографировал у окна крупным планом, без «костяной» ноги, пожелал скорейшего выздоровления и, тяжело ступая в своих сапожищах, удалился. Через полчаса охрану мою сняли. Что потом? А потом всё было как по нотам. И стажировка в редакции на улице Владимирской славного города Киева, и предложение остаться там на сверхсрочную службу, и дембель из войсковой части, где был прописан, и учёба в университете родного города, и работа в редакции молодёжной газеты, и т. д., и т. п.
А слово, данное Иренке, я сдержал. В первый же вечер в санчасти написал большое письмо, в котором высказал всё, что постеснялся сказать напрямую. Даже небольшое стихотворение посвятил ей и рисуночек набросал штриховой, где изобразил её с гитарой на груди и с ангельскими крылышками за спиной. Только вот адреса не нашёл. Искал, искал и вспомнил, что спрятал сложенный вчетверо листок с её координатами в нагрудном кармане белой рубахи пана Милоша. Спрятал и позабыл там.
Сколько лет прошло с тех пор! Я давно женат, у меня – дети, внуки… А Иренка не оставляет меня в покое, видится в видениях днём, снится во снах по ночам, будто сижу я после бури у ветвистого дуба, а она подходит и спрашивает: «Почему же не написал мне письма, почему не приехал после армии? Или забыл сразу, как покинул заставу?»
Нет, Иренка, не забыл я тебя. Ох, как помню! И пшеничные пряди твои, и взгляд светло-бирюзовых глаз, и твоё мягкое «та», и ласковое «нье», и голос твой журчащий под гитару и без… Но почему не поехал к тебе, когда отслужил в армии, ответить не могу. Ни ответить, ни оправдать, ни даже внятно объяснить себе.
Такая вот история приключилась в моей жизни, о которой я раньше никому не рассказывал. Носил в себе… А теперь вот сел за письменный стол, и всё неожиданно выплеснулось. И как-то легче стало на душе. Ведь самый внимательный и понимающий тебя собеседник – это чистый лист бумаги под твоим пером.
2016
Моди, Анна и другие
…В часы такой поры
на улицах разве что поэты и воры.
В. Маяковский. Хорошо
На часах десять минут третьего. Надо же ни туда ни сюда проснуться! За окном тьма-тьмущая. Как ни ворочайся, больше не уснуть. И настроение – хуже некуда. Разве бывает такое посреди ночи? Ещё как бывает, когда сутками правишь чужие тексты. И не просто правишь, а тупо меняешь дефисы на тире, расставляешь точки над ё, как это требуют редакционные каноны. Служу в городском журнале, заведую отделом культуры. Поток графомании, нелепых статей нескончаем, мусора в них – хоть совковой лопатой выгребай! Читать что-то стороннее, для души нет возможности. Тупею изо дня в день, никакого просвета. Если и осталось во мне что-то светлое, то это из далёких времён, запасы юности, багаж не тающий, но и не пополняющийся. С ума сойти! Когда-то это должно же было набрать запредельную массу и взорваться. Вот и бухнуло посреди ночи.
Лежать больше мочи нет. Одеваюсь – лёгкая курточка, шарфик в клеточку – лишь бы голую шею над футболкой прикрыть. Пора уже такая: ни холодно, ни жарко – весна, снега нет, но и зелени тоже. Проветрюсь, может, остыну и вернусь в самого себя, спокойного, терпеливого…
На улице ни души. Высотки вокруг тоже вымерли, ни огонька в окнах. Только фонари на столбах сеют вокруг себя бесстрастный, но тёплый жёлтый свет, да проблески рекламы кое-где подмигивают неизвестно кому. Наверное, мне, одинокому и взбаламученному. Через два квартала упираюсь в празднично сияющую под вывеской «Бар» стекляшку. Бар по-татарски означает есть. Что же в этом баре бар? То есть – есть, имеется? Какая-то другая, яркая жизнь?
У барной стойки чернявая красавица с умытыми какими-то нездешними дождями смородинами глаз. Как такую, интересно, муж отпускает куда-то на ночь? Улыбается, спрашивает: чего пожелаете? Заказываю сто граммов водки, сладенького сока, какой-то лёгкой закуски…
Посетителей немного, но есть. Разговаривают, смеются… Весело людям за полночь. Ни забот, ни проблем, ни хмурого утра через несколько часов!
Каким-то образом, уж и не припомню, рядом за столиком оказывается мужчина средних лет, положительной внешности, но без денег. Звать Сергей, из крещёных татар Алькеевского района. Угощаю, жалко, что ли! Когда решили выйти покурить, и я хотел купить сигарет, он предложил махорки, которую для него выращивает и обрабатывает в родной деревне его мама. Он сделал две самокрутки, и алькеевский табачок показался мне ароматнее любых заморских сигарет.
Ему понравилось, что я по достоинству оценил его курево. Он отсыпал махорки в пакетик, добавил туда специальной бумаги для самокрутки и со словами «это тебе, доброй душе, гостинец» удалился – утром ему надо было на стройку, где он работал укладчиком плиток. Это ж какое надо иметь здоровье, чтоб после ночного застолья рано утром отправиться на работу?!
Минут через пять, пока я размышлял о новом знакомом и умилялся его открытостью и доброхотством, подошёл ко мне молодой человек с сигаретой на губе и с просьбой огонька. Я обратил внимание на его странную одежду: бархатная бежевого цвета не то куртка, не то распашонка с большими накладными карманами, откуда торчали карандаши, небрежно повязанный шейный полосатый платок… И особенно удивило это его обращение: «Пардон, месье!» Я повнимательнее взглянул на него и сразу узнал:
– Бонжур, месье Моди!
Как бы это удивительно ни было, но передо мной в круглосуточной «забегаловке» стоял, чуть склонившись, готовый зажечь свою сигарету, сам Амедео Модильяни. Я представился и жестом указал на угощение только что покинувшего меня приятеля:
– Не желаете отведать нашего табачку?
Он вскинул бровь, улыбнулся и принял приглашение – сел рядом, весьма ловко свернул самокрутку и с моей зажигалки блаженно закурил.
Хозяйка бара замечания нам не сделала, даже улыбнулась, как бы приглашая возобновить застолье. Я предложил отметить знакомство, назвав ряд традиционных наших напитков. Он отрицательно покачал головой и произнёс желаемую марку:
– Абсент.
У стойки за спиной барменши я заметил календарь с крупным указанием года: 1910. Только теперь обратил внимание на крепкие дубовые полы заведения, красной обшивки стулья, малиновые абажуры, вишнёвые стены с картинами французских импрессионистов, странно одетых посетителей, будто в театральное кафе зашли артисты со спектакля, не переодев своих сценических костюмов начала прошлого века.
Я взял было два фужера с жидкостью ядовито-зелёного цвета, но стоявший за мной Моди поправил меня: надо три. И указал на столик в углу бара, где своего кавалера дожидалась мадемуазель в шляпе с широкими полями. Нет, точнее, уже мадам, если знать историю литературы. Ещё на полпути к столику я узнал её.
– Добрый вечер, Анна Андреевна! – поздоровался, кланяясь и ставя на стол фужеры.
– Откуда ты всех знаешь? – удивился Моди.
– Как же вас не знать! – только и вздохнул я в ответ.
– Зовите меня просто Анна, – ответила она. – Я ещё молода для отчества. – И добавила: – Здесь же официанты обслуживают, можно было не трудиться с фужерами. – Она обернулась к Моди: – Амадей… – Ахматова так по-своему звала художника, а может, по аналогии с любимым Моцартом, – подтяни для гостя стульчик.
Отпили по глоточку. Полынь она и есть полынь. И чего эту гадость горькую превозносят – абсент да абсент?! Ни одному другому напитку столько живописных полотен не посвящено. Коварная Зелёная Фея царствует на полотнах Эдуарда Мане, Ван Гога, Эдгара Дега, Пикассо, Тулуз-Лотрека…
Художнику глоток – как же иначе! – пришёлся по душе, и он продекламировал, поправив платок на шее:
Абсент, я преклоняюсь пред тобой!
Когда я пью тебя, мне кажется,
Вдыхаю душу молодого леса
Прекрасною зелёною весной.
Я поймал паузу и попросил Анну прочесть что-нибудь своё.
– Много читал вас, а вот вживую бы услышать.
Она не заставила себя упрашивать, взглянула лишь кратко на своего Амадея:
Было душно от жгучего света,
А взгляды его – как лучи.
Я только вздрогнула: этот
Может меня приручить.
Наклонился – он что-то скажет…
От лица отхлынула кровь.
Пусть камнем надгробным ляжет
На жизни моей любовь.
Моди слушал, и на лице его блуждала полуласковая, полуленивая улыбка. Когда Анна замолчала, он сказал мне еле слышно:
– Я не понимаю её стихов – я их чувствую.
– А она вашу живопись понимает?
– Что её понимать! Мои работы просты и бесхитростны.
– Ни на кого непохожие они, – возразил я. – Вы создали свой неповторимый мир. – И добавил, помедлив: – Но он у вас какой-то не полный. Ни жанровых сцен тебе, ни пейзажей, ни даже натюрмортов…
– Пейзажи мало-мальски есть, а натюрмортов – и в самом деле…
Тут и Анна вставила своё слово:
– У Амадеюшки весь мир в людских лицах и портретах.
На секунду я задумался: на каком же языке мы общаемся? Но тут же главенствующая мысль перебила только что возникшую:
– Скажи, Моди, почему у тебя все персонажи с пустыми глазами? – Я не заметил, как перешёл на «ты».
– Не все, – покривил он влажные от абсента губы.
Анна же высказалась по обыкновению не сразу:
– Они не пустые, в них до краёв разлиты печаль и одиночество. – Тронула шляпу двумя тростинками пальцев, увенчанных пурпурными перьями ногтей, и как-то змеевидно, всем телом поправилась на стуле. В этом её секундном движении было небесное изящество, которое подтверждало правоту бесчисленных эпитетов о ней, высказанных за столетие. Недаром же зарубежные и отечественные художники дрались за возможность написать её портрет анфас и в профиль, в рост и… Обнажёнок, впрочем, удостоен был один, да, Модильяни. Она посмотрела на своего дружка. То ли от слов её, то ли от абсента полуласковая и полуленивая улыбка Моди превратилась в счастливую. Анна повела ладонью по его щеке:
– Мне с тобою с пьяным весело…
Эти слова потом превратились в первую строку стихотворения, за которыми последовали картинки с парижскими вязами и заверениями:
Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.
Заказали чёрный кофе и ещё абсента, читали наизусть Бодлера, Верлена… Моди шпарил отрывки из «Божественной комедии» своего любимого соотечественника Данте. Я слушал, и зал, который первоначально показался мне крохотной забегаловкой, ширился и высился, и над головами многочисленных посетителей поплыли зеленоватые туманы. Тут и я подал голос, взглянув под шляпу Анны и вспомнив Блока:
И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.
Анна согласно покачала головой, улыбнувшись и, видать, вспоминая что-то, а может, просто из вежливости. Помолчала, вздохнула и:
Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут – и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.
Затем пригубила чашку кофе и сказала, что ей надо отлучиться в дамскую комнату.
Стихи про заводную кукушку заставили вспомнить о… Я ополовинил свой фужер и спросил:
– А где Николай?
Было же известно, что Анна находится в Париже в свадебном путешествии с непризнанным тогда ещё поэтом и будущим офицером и путешественником Николаем Гумилёвым.
– Он в Академии наук, ведёт переговоры об экспедиции в Африку.
– Какая Академия? Ночь на дворе!
– Точно… – вынужден был согласиться Моди. И, заглянув в пустой фужер, произнёс: – И зачем она вышла за него замуж? Ведь не любит… – Он позвал официанта. – Понятно, пожалела. Застрелиться же хотел.
– Застрелиться?..
Вместо официанта к столу подошёл лобастый и носатый. Они с Моди по-братски обнялись.
– Это мой верный друг Макс Жакоб! – хлопал Моди по плечу франта в щегольском сюртуке, при голубом галстуке и белоснежном воротничке. – Поэт-футурист, хиромант, астролог… Я за него в огонь и воду.
– Да, я помню ваши портреты кисти вашего друга, – кивал я новому знакомому.
И правда, кто же их не видел! Только вот по ним этого франта, конечно, было не узнать. Хотя работы Моди никогда-то портретным сходством не отличались.
– Помню, помню, – повторил я, – так что с вами, Макс, я заочно уже давно знаком!
Каким образом, не могу сказать, но мы с ним оказались в стороне от нашего столика. И у барной стойки, где я угостил его вискариком, он горячо шептал мне на ухо об алкоголике и наркомане, богемщике без сантима в кармане, о нарциссе и неудачнике Модильяни.
– Но он прекрасный живописец, я с юности увлечён им, – возражал я. – И потом, мирская греховность не исключает искусства художника.
– Ремесло, каким бы оно ни было высоким, не оправдывает аморальности, – дышал мне в лицо Макс.
– Но ремесло и искусство – разные вещи.
– Вижу, душа нараспашку у тебя… Подвержен влиянию различных промывателей мозгов и дешёвых рекламщиков. – Он опустил ладонь на моё плечо. – Только и скажу: будь осторожен с ним… Ведь даже слово «моди» означает «проклятый».
* * *
Застолье богемы в Париже – никакой еды, только выпивка. Когда я подошёл к нашему столику, Моди с Анной мило ворковали всё при тех же фужерах и чашечках кофе.
– Куда ты пропал? – спросил Моди.
– С твоим верным другом разговаривал.
– Пора домой, – сказала Анна.
– Возьмём на дорожку бутылочку винца, – обратился ко мне Моди.
А то, что это – всё-таки Париж, я убедился, увидев название кафе на кожаной обложке меню. Да и когда выходили из пурпурового заведения, я поднял голову и прочёл яркое название над дверями “La Rotonde” и адрес сбоку за выступом: Boulevard du Montparnasse, 105.
«Знаменитая “Ротонда” на бульваре Монпарнас, – сказал я себе. – Не верю!» Но облокотившийся на меня Моди не оставлял места сомнению.
– Я на правую руку надела перчатку с левой руки, – смеялась Анна.
– А я лягу сейчас под фонарь и усну, – не отставал от неё Моди.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































