Текст книги "Запах анисовых яблок"
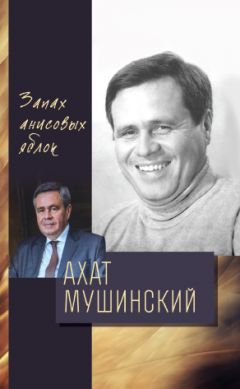
Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 38 (всего у книги 40 страниц)
Максимы и афоризмы
Однобокая правда
Жизнь
Короткий мостик из небытия в небытие называем мы жизнью.
Нет ничего короче человеческой жизни.
Нет ничего в нашей жизни, что нельзя было бы перетерпеть.
Жизнь надо перетерпеть.
Смысл жизни в том, чтобы не думать о смысле жизни.
Мы не можем повлиять на своё рождение, но вот на уход из жизни – да, можем.
Человек – существо, перерабатывающее настоящее в память.
Человек постоянно меняется. Я бы каждые пять лет давал человеку новое имя.
Не умеем мы, как женщины, жить ради жизни. Мы всегда живём ради какой-то идеи, за-ради какой-то далёкой умозрительной цели. Короче, в целях цели.
Любовь
Любовь легче выдерживает долгие годы разлуки,
чем долгие годы близости.
Любовь – это познание. Кончилось познание – кончилась любовь.
Любовь – большая обуза… для того, кого любишь.
Для любви нужна известная доля наивности.
Неразделённая любовь полнее, поскольку она неразделённая.
Любовь женщины требует взамен не только любви.
Бойся своей любви.
Нередко любовь поражает не сердце, а мозг.
– Куда девается любовь?
– Она испаряется и превращается в облака. Вон они… плывут за горизонт.
Женщина
Беда в том, что в женщинах мы ценим не только душу.
Женщину уважают настолько, насколько она сама уважает себя.
Разве уважающая себя женщина покупает самой себе французские духи?
Хочешь возненавидеть женщину – женись на ней.
У женатого ничего своего не бывает.
Чем больше женщина изменяет своему мужу,
тем старательней она моет посуду и стирает бельё.
Дружба
Дружба – нечто обязательно взаимное, а любовь может быть и явлением односторонним.
Друзья познаются в радости.
В каждой безделушке – тепло руки дарящего.
Друзья ниспосланы человеку исключительно для того, чтобы портить ему семейную жизнь.
Творчество
Творчество – наивысшая форма эгоизма.
Поэзия – это любовь. Нет любви – нет поэзии.
Рукописи не горят. Стихи – тем более. Стихи ведь не только рукописи и книги…
Рукописи не горят, сгорают их авторы.
Стиль диктует содержание.
О вкусах не спорят, вкусы воспитывают.
Прочитать бы роман, который ещё не написал.
Нет надёжней и вернее книги. Она не изменит и не предаст. Она, как никто другой, поддержит в трудную минуту, согреет душу при великой печали. Она не отвернётся от тебя даже тогда, когда от тебя отвернутся все.
Публикация есть попытка материализовать духовное.
Действительность – лишь поле для возделывания стихов и романов.
Создавать роман – не только его писать.
Создание романа сродни созданию параллельного мира.
В его прозе нет точности слова, лаконичности, логики… К тому же он просто неграмотен. А так – ничего, хороший писатель.
Чтобы писать, надо читать.
Чтобы произведение было реалистичным, надо фантазировать.
Любая былинка, любой жалкий одуванчик совершенней всех вместе взятых стихов и романов, созданных или ещё только создающихся на Земле.
Прогресс разрушает культуру.
Религия – попытка объяснить мироздание. Художественно.
Вера не требует доказательств. Доказательств требует наука.
Язык придуман человеком для того, чтобы объясняться в любви и писать стихи.
Чем бездарнее человек в творчестве, тем он дисциплинированней на службе.
Больше всех ненавидят того, кто умеет летать.
Курица не птица, поэтесса не поэт.
Бездарь в творчестве и в любви бездарен.
Бахус
Когда пьёшь, надо придерживаться правила: где, когда и с кем.
Но тогда вообще никогда не выпьешь.
Выпивка в Союзе писателей осуждалась, но не возбранялась.
Чем лучше вечером, тем хуже утром; чем хуже вечером, тем лучше утром.
Счастье
Счастье – это когда нет несчастья.
Счастье – это когда ничего не болит.
Счастье – это когда тебя ждут.
Счастье в познании.
Счастье – это минуты вдохновения. До и после – рутина и ничтожество.
Дети
Детство – единственная и настоящая родина. Взрослая жизнь, хоть в родном ауле, хоть в родном городе, – чужбина.
Дети должны рождаться светленькими, как ангелочки. Потом пусть темнеют.
Родителей воспитывают дети.
Одиночество
Одиночество – возвращение к себе.
Уединение, одиночество – обетованная земля писателей и философов.
Одиночество – это свобода.
Что на свете может быть всеохватнее одиночества? И есть ли вообще что-нибудь, кроме одиночества? И стихи в одиночестве пишутся, и смерть в одиночестве принимается, любая – и в толпе, и на виду у толпы – всё равно в одиночестве, в глухом и круглом сиротстве.
Я бывал один, но не бывал одинок.
Ватерлоо
Надо чаще путешествовать из настоящего в прошлое.
Надо чаще останавливаться и оглядываться.
У каждого свой Аустерлиц, у каждого своё Ватерлоо.
Вершина – начало спуска.
Всю жизнь надо готовить себя достойно умереть.
Из услышанного: жизнь кончилась, а смерть ещё не знает.
На похоронах все, как один, задумываются вдруг, что никто не вечен. Ненадолго, правда, задумываются.
Надо иметь много друзей, чтобы на похоронах было многолюдно.
Никто не знает, что такое смерть, но все это всё равно узнают.
Люди продолжают жить и после смерти, пока живы их друзья и возлюбленные.
Рублём будь
Мечта прекрасна не только тогда, когда сбывается.
Чтобы быть выше себя, надо встать на кого-то.
Надо всегда плыть по течению. Только знать, по какому.
Чтобы подняться, надо упасть.
Чтобы упасть, надо подняться.
Чтобы удачно соврать, не надо врать по мелочам.
Порою казаться важнее, чем быть.
Лучше быть обиженным, чем обидчиком.
Не разменивайся, рублём будь. 99 копеек – уже мелочь.
Рубль дороже двух полтинников.
* * *
Афоризм – однобокая правда.
Рассказы и повесть для детей
Ты услышала меня?
Моя мама была певицей и часто вечерами оставляла меня одного дома. Однажды я включил радио и услышал её голос. Она пела какую-то грустную песню. Мне стало так одиноко, что я со слезами на глазах заговорил в динамик: «Мама, мамочка, приходи поскорее…»
Песня кончилась. Я не успел и слёз вытереть, как дверь отворилась – на пороге стояла мама.
– Как ты быстро! – обрадовался я. – Ты услышала меня?
Тогда я ещё не знал, что на радио существует запись и что радио как телефон работать не может.
Эльмира
В старшей группе детского садика я влюбился. Её звали Эльмирой. У неё были золотистые кудри и пышный, всегда голубой бант, словно огромная бабочка на голову присела. А ещё у неё был стеклянный чёртик из разбитого графина. Раньше такие графины часто встречались – с чёртиками внутри.
Я подходил к Эльмире и просил у неё чёртика поиграть. Она жадничала. Тогда я дёргал её за бант, и голубая бабочка превращалась в голубую змейку – бант развязывался. Она плакала, а я торжествовал.
Но сквозь торжество я чувствовал, что делаю что-то не то. Чувствовал, но не понимал и продолжал настырно просить и дёргать.
Однажды она гуляла на улице. Сначала играла в классики, а затем села на лавочку, достала из ридикюльчика (наверное, маминого) большое лилово-красное яблоко… Тут-то и появился второклассник и второгодник по прозвищу Нокаут. Он отнял у Эльмиры яблоко и стал перед ней кочевряжиться – кривляться, значит, и дразниться.
Как я оказался рядом, как вырвал у него яблоко и вернул Эльмире – сам не знаю. Только остались мы с ним, с Нокаутом, стало быть, один на один.
– Ты что?.. – ничего не мог понять сперва он. А потом размахнулся и залимонил мне со всей силы в глаз.
На другой день глаз у меня был лилово-красный, точно как то яблочко. Я сидел в заброшенной песочнице в углу детского садика, подальше от всех. Кто-то тронул меня за плечо. Я обернулся. Это была Эльмира. Она протягивала мне чёртика.
Успех
Не то в первом, не то во втором классе я стал учиться свистеть. Не насвистывать, а по-настоящему свистеть, по-разбойничьи, чтоб на другом конце улицы можно было услышать. И без помощи пальцев. Такова была последняя дворовая мода.
Тренировался усердно. Можно сказать, круглосуточно. Но долго ничего, кроме шипения, не получалось.
Вот лежу как-то ночью, шиплю под одеялом:
– Ш-ш, ш-ш…
Вдруг чувствую, сейчас получится. Выбегаю в сени, чтобы родителей не разбудить.
– Ш-ш, ш-ш…
Не получается. Возвращаюсь. И опять под одеялом:
– Ш-ш, ш-ш, ф-ф, ф-ф…
И неожиданно ка-а-ак… На весь дом!.. По-настоящему, по-разбойничьи. Кот Барсик, мирно спавший у моих ног, аж под потолок взлетел.
С успехом меня первым поздравил отец… Неделю уши горели.
Как я выступил в театре
Я очень любил театр. И теперь люблю. Но в детстве я мечтал сам выступать на сцене, а не сидеть безучастно в зрительном зале, шевелясь лишь ради того, чтобы похлопать в ладоши или отправить конфетку в рот.
Когда меня не с кем было оставить дома, мама брала меня с собой на работу. А работала она, как я уже говорил, в театре. И я разгуливал по грим-уборным, бродил за кулисами, здоровался за руку с Дон Кихотом, распивал чаи со Спящей Красавицей, играл в шахматы с самим Шурале.
Вернувшись домой, я устраивал спектакли у себя во дворе, собирая у крыльца задраенного парадного входа старинного дома босоногую, голосистую публику со всей улицы.
Спектакли у меня были разные – и драма, и опера, и балет…
Чаще всего давал кукольные представления. Куклы лепил из пластилина, мастерил из обломков магазинных игрушек, шил из лоскутов сатина, набивая мешочки голов ватой. При батальных сценах, пожарах дымы пускал с помощью зубной щётки и зубного порошка. Насыплю на щетину порошка, вжикну пальцем – из-за ширмы белый дым коромыслом. Долго зрители не могли понять, как это делается.
В балете я любил изображать Шурале. Цеплял на лоб бумажный рог на ниточке, размалёвывал лицо сажей и прыгал, носился по двору как угорелый под восторженный вой малышни. А когда принимался щекотать всех подряд, восторгу собравшихся не было предела.
Арии в своих операх я старался исполнять на итальянском, так как никто – в том числе и сам – ничего не понимал, и по ходу исполнения можно было из обрывков иноземных, одному мне и богу известных словосочетаний замешивать великолепные винегреты – душа приходила в восторг.
Драма – единственный жанр, где я привлекал для выступлений помощников. Мы дружно выстругивали сабли, выпиливали пистолеты и разыгрывали такие сцены по мотивам какого-нибудь накануне виденного фильма – закачаешься! Начинали с условия, что главным героем выступаю я. Я должен был всех побеждать. Однако через минуту все сами становились с усами, и никто не хотел поддаваться. В конечном счёте сценарии летели к чёрту, и мы расходились, богато украшенные фонарями и шишками.
Как-то раз мама оставила меня за кулисами. Посадила на какой-то переносный пенёк и ушла. Давали моего любимого «Шурале». Главный герой сидел рядом на бревне, которое должно было впоследствии появиться на сцене и прищемить ему пальцы. Шурале сидел и выковыривал из пятки занозу. А я переживал: как же он будет выступать, ведь впереди самая главная сцена – завязка спектакля?
Заноза не поддавалась. Шурале нервничал. Наконец пробурчал что-то сердито, поднял голову с прекрасным, кривым рогом на высоком лбу, огляделся и, ни души не обнаружив рядом, сказал мне:
– Дружище, ты знаешь, где костюмерша наша сидит?
– Знаю, – ответил я, хотя и не знал, но мне изо всех сил хотелось помочь ему. Тем более – «дружище»!
– Сбегай, принеси иголку, а то погибну.
– Сейчас! – выпалил я и помчался сломя голову, будто знал театр как свои пять пальцев.
Я метался по огромному зданию с миллионом дверей, входов и выходов, коридоров, залов, переходов, как затравленный зверёк, с ужасом сознавая, что зря обнадёжил человека, подведу, сорву спектакль. Какой, к чёрту, я дружище! Вдруг одна дверь волшебно распахнулась, и чья-то щедрая рука одарила меня иголкой,
Я побежал обратно. Но куда? Обратного пути я совершенно естественным образом не помнил.
Но кто ищет, тот всегда найдёт. И я нашёл, пробился к сцене. Только с другой стороны. И декорации, пока я бегал, опустили из-под потолка новые. Голова моя шла кругом, ноги, как у запаренного жеребёнка, уже не могли стоять на месте без движения, они бежали и бежали, и я… выбежал на сцену.
Но этого я не знал. Я стоял спиной к зрительному залу, слышал музыку, которая лилась на меня со всех сторон, видел лес, изображённый на заднике, за которым, как предполагал, находилась сцена. Повторяю, на сцену-то я выбежал с другой стороны.
И вдруг меня осенило. Обернулся – о, боже! На меня взирали тысячи удивлённых глаз, самыми большими из которых были глаза Шурале. Рядом с ним замерла статуей главная героиня Сююмбике.
– Эй, Муха (так меня в школе прозвали)… Эй, Муха, сбацай арию Фигаро, покажи класс! – услышал я в паузе между тяжёлыми вздохами оркестра знакомый голос из зрительного зала. С первого ряда на меня весело глядели ядовито-жёлтые глазёнки моего друга Рашидика.
У меня окончательно ум за разум зашёл. Я поклонился зрителям – уж не собрался ли спеть? Наконец опомнился:
– Я принёс иголку!..
Шурале судорожно сглотнул – так, что кадык его подпрыгнул, словно теннисный шарик, развёл трагично руками, что означало на языке жестов, должно быть, конец света, сорвался с места, закружил по сцене в немыслимых пируэтах и, проносясь ураганом мимо меня, подхватил, как пушинку, и вынес новоявленного актёра со сцены за кулисы.
Дальнейших событий описывать не буду. Они печальны. И не только из-за того, что мне здорово влетело. Это ничего. Печально другое – то, что с тех пор я перестал ставить домашние спектакли, прекратил, потому что мой друг, вернувшись в тот злополучный день со своего культпохода, оповестил о моём выступлении на сцене городского театра всю округу. Его острый язык преподнёс событие, как надо. Казалось, надо мной и куры смеялись. Как после такого на публику выходить?
Зубы надо лечить вовремя
Мы с Гузель сидели за одной партой.
И на лавочке у двери в зоокабинет, который на время превратился в стоматологический, то есть где лечат зубы, мы опять оказались вместе.
Хохотушка и болтушка, Гузель здесь была сама сосредоточенность. Её острый носик ещё более заострился, а глаза, похожие на синие пуговички, ещё более округлились и, не мигая, смотрели в одну точку.
Гузельку надо было спасать. И я сказал:
– Зубы надо лечить вовремя. Поставила пломбочку-другую и гуляй себе на здоровье, грызи орешки, ешь конфеты, хоть мешками… Только сейчас вот нужно внушить себе, сказать: а я и не боюсь нисколечко, а мне и не больно вовсе.
Я подбодрил её и уступил свою очередь. Через полминуты Гузель вышла обратно.
– Чё? – спросил я, подумав, что она сбежала.
– У меня, оказывается, все зубы целы, – ответила она. – И никаких пломб не надо.
Настала моя очередь.
Стоматологом, то есть зубным врачом, была женщина с большими мужскими руками. Она заглянула ко мне в рот и вздохнула:
– Чё? – поинтересовался я, чувствуя, как мои узенькие, маленькие глаза делаются квадратными.
– Да ты хоть раз в жизни зубы чистил?! – сказала она и, не дожидаясь ответа, велела открыть рот пошире.
Зажужжала бормашинка.
«А-а-а!!!» – чуть было не вырвалось у меня из груди, чтобы пронестись по всем этажам школы.
Но в тот самый момент в зеркале напротив я увидел голубенькие пуговки Гузельки. Она смотрела на меня в приоткрытую дверь. В её глазах страха и тоски было больше, чем даже тогда, когда она минуту назад ожидала своей участи у этой самой двери.
И я сузил свои глаза и сказал себе:
– А я и не боюсь нисколечко, а мне и не больно вовсе!
Полёт
По ночам во сне я летал. Значит, рос. Это было мне известно. Но я хотел летать по-настоящему и средь бела дня.
Папа сказал: если чего-то очень и очень захотеть, то желаемое непременно сбывается. Он не о полётах сказал, а так, вообще. Но я-то думал только о них.
Целыми днями я расхаживал по двору и размахивал руками. Вечерами вертелся перед зеркалом, проверяя, не превращаются ли мои руки в крылья и нет ли за моими плечами пёрышек. Но никаких изменений не происходило. Всё так же на спине шелушилась кожа от солнца, и созвездия моих бесчисленных родинок изображали всё тех же львят, рыбок, дракончиков… Я шевелил лопатками – по моей худобе они и в самом деле походили на крылья, точнее, на крылышки какого-то недоразвитого домашнего утёнка.
Однажды утром после сильного дождя, когда умытое солнышко плеснуло на влажную землю золотыми, весёлыми лучами и всё вокруг закурилось зыбким, прозрачным парком, я, размахивавший своими будущими крыльями, неожиданно наткнулся на Рашида. Мой верный друг поинтересовался, чем это я занимаюсь, и когда узнал, в чём дело, сказал, что ни летать, ни плавать на земле не учатся.
– А где же? – удивился я.
– Плавать учатся в воде, а летать в воздухе. – И так как моря рядом не оказалось (большая лужа у сарая не в счёт), он простёр обе руки для наглядности к чистому, без единого облачка небу. – В воздухе, в воздушном океане птицы учатся быть птицами.
Два раза объяснять мне не надо. Когда мой друг ушёл, я взобрался на крышу сарая. Сарай у нас высокий, наполовину у основания кирпичный, наполовину деревянный. Чудесный вид с него на бескрайние яблоневые сады. В небе стрижи иероглифы выписывают, пониже воробьи снуют, тополиный пух позёмкой по земле стелется.
Я подошёл к краю сарая, где крыша смотрела козырьком на наш двор. По пояс голый, в лёгких сатиновых штанишках, я стоял в вышине, и тёплый, как парное молоко, воздух омывал мою грудь. Ни капли страха, ни секунды колебания. Какие сомнения, когда до осуществления мечты всего лишь шаг! Даже не шаг – лёгкое движение всем телом вперёд и…
Ветер засвистел в моих ушах, сердце замерло от восторга, я замахал руками…
Я летел, как птица, как стриж, легко и свободно, как сокол, стремительно и нацеленно, как орёл, раскованно, невесомо, царственно.
Что может быть прекрасней чувства свободного полёта!
Я приземлился в лужу. Точнее сказать – приводнился. А ещё точнее – шлёпнулся. Не рассчитал.
Я сидел посреди лужи, маленький, чумазый, как гадкий утёнок, мокрый и неуклюжий, как тюлень. Нестерпимо болело колено, торчавшее из порванной штанины. Я плакал. Я лил в мутную воду чистые, тяжёлые слёзы с такой силой, что даже шумные воробьи на дереве притихли, точно они понимали и сочувствовали. Но разве могли понять меня они, крохотные и смешные, зато умеющие летать?!
У забора
Та девочка была старше меня лет на пять. А я тогда и в школу-то ещё не ходил.
Каждый день мы встречались с ней у глухого забора, разделявшего наши дворы. Я с одной стороны, она – с другой.
Часами простаивали мы рядом. Она читала вслух книгу, а я слушал.
Я её не знал, и она меня, наверное, тоже. Я только голос её знал, а она знала, что я слушаю.
Потом я проковырял в глухом заборе дырочку.
Сейчас не помню, что она мне читала. Помню лишь: у неё были большие глаза, прикрытые опущенными ресницами, и большая бабочка – брошь на груди.
Чёрный индюк, красные штаны
Мы жили в старой части города. Наши двухэтажные домики утопали в яблоневом и липовом цвете, а зимой – в сугробах. Дворы были небольшие, уютные, со всевозможными, каждый на свой лад сарайчиками, дровяниками, собачьими будками… Что ни двор, то новая часть света. Не то что нынешний, на который я смотрю теперь в окно, и взгляд скользит, скользит уныло, не приостановится ни на чём.
Говорят, старое хвали, да со двора гони. Да никак вот. Не двор-дворище перед глазами, а старый, милый дворик, дворники, не проспект, а старая, тенистая улочка, улочки, закоулочки… И гуляют по ним не только радости, но и горести, печали.
…В соседнем, ближнем к нам дворе, жил мой лучший друг Рашид. Я часто бегал к нему играть. Но в том дворе жил и огромный чёрный индюк Сайд. И когда чудовищная птица гуляла по двору, пройти к другу становилось чрезвычайно трудно. Я боялся Сайда. Он гонялся за мной. Вернее, не за мной, а за моими красными штанами. Тогда я не знал, что красный цвет раздражает этих птиц точно так же, как быков на корриде. Мне казалось, что штанишки нравятся ему, и он гоняется за мной, чтобы сорвать их с меня и самому в них облачиться.
У чёрного Сайда была длинная ярко-красная борода (теперь-то я знаю: это не борода была, а просто красная складка кожи), и мои штанишки, конечно же, очень пошли бы ему. Я не жадный был, подарил бы ему их. Но я боялся родительского гнева, они и так еле концы с концами сводили. Да и других штанишек – добротных, не маленьких (я очень быстро рос) – у меня попросту не было.
К концу лета и они стали малы. Мне купили новые, тёмно-синие, с ремешком на поясе. А старые спрятали в шкафу.
Однажды, когда я почувствовал, что родители позабыли про мои старенькие штанишки, я достал их, сунул за пазуху и пошёл в соседний двор. Теперь я мог доказать Сайду, что я не жадина.
Но во дворе я его не нашёл. Отважившись, я заглянул в сарайчик, где он жил. Его и там не оказалось. Я сначала расстроился, а потом обрадовался. Ну и хорошо, без него лучше: я по-прежнему боялся этой огромной страшной птицы. А подарок можно сделать и таким образом – я взял красные штанишки из-за пазухи и положил аккуратно на полешко рядом с кормушкой.
На обратном пути во дворе мне встретился Рашид. Мы о чём-то с ним разговорились, и, уж уходя, я спросил:
– А что Сайда не видно? Где он бегает?
– Больше не бегает, – ответил Рашид. – Отбегался. – Он сделал взрослое лицо, какое делал, когда знал что-то больше меня. Я не любил его таким, заносчивым. Но я спросил:
– Почему?
– Суп из него сварили, вот почему. – Мой друг напомнил мне, что у него сестра выходит замуж, а гостей чем-то кормить надо. Сказав это, он повёл меня к забору. Там, за кучей опилок, были рассеяны чёрные перья и белые опилки были красными.
Ночью я долго не мог уснуть. На подушку текли и текли горячие слёзы. И постель вся была горячей, как-будто кровать снизу поджаривали на костре.
Вдруг слышу: стучит кто-то в дверь – тук-тук-тук. Я оторвал голову от подушки… На пороге стоял Сайд.
– Это ты, Сайд? – спросил я. – Разве тебя не убили сегодня у забора за кучей опилок?
– Кто посмеет на меня руку поднять! – расхохотался Сайд, тряся своей огромной бородой. – Меня же все боятся. – Он подошёл ко мне и, помолчав немного, словно размышляя, говорить или не говорить, тихо произнёс: – А всё-таки ты пожалел свои красные-прекрасные галифе. Сколько я у тебя их просил! И борода красная, видишь, и шпоры вон какие – всё есть, только… Только пожалел…
– Не пожалел я ничего! – встрепенулся я. – Ведь тебя дома не было сегодня. Я же заходил. Занёс тебе их и на полешко положил. У стола. Носи на здоровье!
– Правда?! – обрадовался Сайд.
– Самая что ни на есть!.. – развеял я все сомнения.
– Так что же мы тут торчим? – воскликнул Сайд. – Бежим скорее.
– Бежим! – согласился я радостно. И мы побежали.
Сперва мы забежали к нему в сарайчик, где он облачился в «красные-прекрасные» и стал настоящим гусаром. Затем мы заглянули в будку, в которой жил застреленный собачниками Пират. Рыжий шалопай обрадовался и побежал, виляя лохматым хвостом, за нами следом. Потом мы забрались по шаткой лестнице на голубятню. Там нас весёлым воркованьем встретил задушенный котом-разбойником белый голубь Пьер. Все вместе мы – Сайд, Пират, Пьер и я – взялись друг за друга, поднялись на самый край выгона, дружно оттолкнулись и полетели – над дворами, домами, палисадниками, садами, белыми то ли от яблоневого цвета, то ли от снега. Должно быть, от снега, ведь лето-то кончилось. Затем я отстал от них. И как ни размахивал руками, догнать уж не мог.
Наверное, вы поняли, в ту ночь я заболел. И очень сильно заболел. А когда выздоровел и вышел на улицу, кругом всё было уже белым-бело от настоящего снега.
Покажите мне мальчишку, который не любил бы футбол! Вряд ли найдёте такого!
А если и найдёте, то дайте ему эту книжку, и он удивится: как же умудрился он пропустить мимо своего внимания такую увлекательную, мужественную, умную игру?!
А девочкам я хочу сказать: не торопитесь закрывать книгу, ведь в ней не только про футбол.
– Про что же ещё? – слышу я голоса девочек.
– В ней ещё про школу, про дружбу, про красивую девочку Гузель и про мальчика Анаса, которого прозвали Ананасом. Про то, как они… И про то, как все…
Хотя примусь-ка сразу за рассказ. А то скоро футбол по телевизору.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































