Текст книги "Запах анисовых яблок"
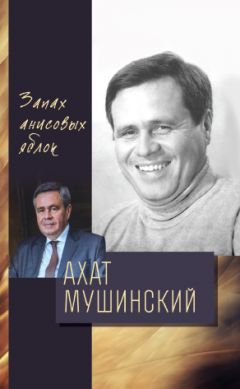
Автор книги: Ахат Мушинский
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 40 страниц)
Усадив Раечку, Потоцкий предложил коньяку. Иван Иваныч отказался, а Лена, допив остаток вина, подставила скучавшую рядом пустую рюмку с живой заинтересованностью. Опять шутили и смеялись, и опять он пригласил её танцевать. Также церемонно, но более настойчиво.
– Нет же, – повторяла Лена голосом, уставшим повторять одно и то же. – Я лучше коньяк попью.
Потоцкий повёл на середину зала Раечку. Такого унижения он не испытывал сроду. Сидит себе, покачивает туфелькой, улыбается, смотрит на старого барана, и нет для неё никакого Потоцкого – ни топчущегося сейчас здесь, среди полупустого зала, ни на заводе завтра в высоком кресле, к которому Томочка её ни за какие глазки не пропустит, – нет нигде, вообще нет, в белых тапочках она его видела…
Вернулись на место, музыканты пошли на перекур. Не зная, как себя вести, Потоцкий заговорил с Иван Иванычем о новых катализаторах. Другого места не нашёл! Но это был единственный выход, который заявлял ещё о его существовании. На Лену он больше не смотрел, говорил спокойно, тоном лёгкого покровительства.
– Ты завтра, Иван Иваныч, зайди ко мне. Часов в пять. Не здесь же говорить, – сказал бархатно, когда начальник седьмого цеха стал оживать после его умелой инъекции.
…Первыми ушли Раечка с Потоцким. Лена и Нефёдов остались, потому что Иванова после кофе захотела мороженое.
– Расстроился? – поинтересовалась она.
– Нет, – попытался соврать Иван Иваныч.
– Брось, я же вижу. Кто знал, что главные инженеры находят время на девочек и рестораны?
– А что ему не ходить?..
– Пойдём-ка лучше танцевать, – перебила его Лена.
Иван Иваныч отрицательно замотал головой, но Иванова кавалером была не чета Потоцкому, она взяла Нефёдова за руку и решительно потянула к танцующим.
Ко всякого рода танцам-пляскам Иван Иваныч относился равнодушно, не представлял себе он, к чему взрослому человеку скакать и кружиться. Петь – другое дело. Это вещь душевная. Это он – пусть и не умел – любил. А тут – да с его-то настроением – на середину зала! Но перечить Лене было невозможно. Она тащила его безоговорочно, как избалованный ребёнок своего родителя, и когда он взял её, точно медведь бочонок мёду, и косолапо попытался повести, то это привело Лену в необыкновенный восторг. Скоро её настроением заразился и Иван Иваныч, он заулыбался, стараясь делать так, как советовала и показывала Иванова, и у него получалось всё наоборот.
12
Как и договорились, на следующий день в конце смены Нефёдов отправился к главному инженеру, в чьём кабинете должна была наконец решиться судьба его несчастного катализатора. Но, странное дело, думалось не о предстоящем разговоре, не о предложении Потоцкого и наставлениях жены на этот счёт и не о выборе собственного решения, а о вчерашнем танце, о Лене, о поцелуях с ней и других пустяках, о великих вечных пустяках думалось, над которыми без него ломали головы и сто, и тысячу лет назад и будут ломать столько же впредь, пока существуют на свете мужчина и женщина. Но ему, Ивану Иванычу Нефёдову, необходимо было разобраться в них незамедлительно, раз и навсегда, а всё остальное, ещё вчера казавшееся очень важным, чуть ли не смыслом жизни, – это чепуха, сиюминутность, текучка, которую решат другие. Неужто надо дотянуть до сорока лет, чтобы вдруг понять, что жизнь намного шире любого, самого смелого представления о ней и невозможно её втиснуть ни под какой самый гигантский свод законов, что правил, составленных человечеством, оказывается куда меньше исключений из них, которые шутя и безоговорочно целыми пригоршнями вносит жизнь. Неужто, думал Иван Иваныч, не чужая чья-нибудь, а собственная душа, изъезженная вдоль и поперёк, может сохранить столько белых пятен, быть в потёмках, как не своя? Что за хаос в душе его? Он знал закон, по которому мужчина к сорока годам подходит к своему критическому возрасту, к окончательной насчёт себя трезвости, к первым итогам, оглядке, потому что впереди у него меньше, чем позади, Иван Иваныч знал это, но это здесь было ни при чём. Ему всегда были чужды самокопания, смена настроений и зависимость от них, он целиком принадлежал делу, только делу, и должен был проскочить сорокалетнюю отметку на всех парах, не задумавшись, не найдя попросту на это времени, когда б не Лена Иванова. Его размеренная жизнь сразу затрещала по швам и раздвоилась. И прежний уравновешенный Иван Иваныч остался там, до встречи, а этот… А этот сегодня утром впервые накричал на жену.
Надя завела было обычную пластинку: расти, мол, надо, в люди выбиваться, что, дескать, не всякая прямая короче кривой, жизнь есть жизнь и с Потоцким надо в контакте работать, а не заниматься демонстрацией гениальности и так далее. Всегда в таких случаях отмалчивался, и Надя сама стихала, а тут вдруг взыграло самолюбие: сколько можно учить! Тут не то, там не так! Родители воспитывали, учителя, профессора, теперь вот жена. Хватит, он давно вышел из ясельного возраста и может разок сам решить то, что только его одного касается, без подсказок. Надя, конечно, возмутилась: как это его одного касается? И правильно, она ведь добра ему желает. Но почему-то добра её больше не хотелось. Иван Иваныч вспомнил свою добротную, основательную жизнь, и она показалась ему движением по узенькой улице с сотней светофоров и регулировщиков – держись общего течения, не высовывайся. Как все работал, как все женился, ребёнка как все уродил, воспитывал его, кормил, поил, одевал, обувал, растил, а сам потихоньку старился. Всё как все. И было спокойно, тихо, потому что не было в душе того, что есть сейчас.
Ивану Иванычу стало жаль сегодняшний вечер, который в сущности будет для него потерян, ведь Лену сегодня из-за Потоцкого он уже не увидит. А так они встречались после работы почти ежедневно. В цехе же вели себя сугубо официально, еле сдерживая свои чувства – как не улыбнуться, не кивнуть любимому человеку, не тронуть его – и поэтому старались избегать разоблачительных встреч. Однако это было сверх сил, больше часа они не выдерживали и, находя малейший повод, спешили увидеться. И что теперь, он виноват перед Надей? В чём? В том, что встретил Лену и не стал сопротивляться тому, что в нём с этой встречей зародилось? Или виноват в том, что жизнь подарила эту встречу слишком поздно? Ох, знала бы Надя, чем полна голова её примерного мужа. Но откуда? На работе они почти не видятся, так с первого дня повелось. Надя считает неприличным разгуливать супругам по заводу, обедать за одним столом в заводской столовой, вместе возвращаться с работы. А вечером её заботы утраивались – друзья, портнихи, бадминтон… По её словам, и дочь, и муж были уже достаточно воспитанными, вполне самостоятельными людьми, и не требовали столь драгоценного в её возрасте личного времени.
«А я злым стал, – подумал Иван Иваныч, – злым и агрессивным».
Он открыл дверь приёмной. Главного у себя не оказалось.
– Будет? – спросил Иван Иваныч у секретарши.
– Нет, – ответила, не отрывая телефонной трубки от уха, рыжая секретарша Томочка, – и сказал, чтобы не ждали.
13
Лето в этом году выдалось жаркое и сухое. Руководство области, сельские жители были озадачены: травы горели, а поливочные агрегаты простаивали, потому что никто всерьёз их в своё время не воспринимал и не предполагал, что они когда-нибудь могут пригодиться. В городе, напротив, солнцу радовались, пляжи были переполнены, солнце там жарило и до, и после работы, а для некоторых и в рабочее время. Весь город ходил загорелый и от этого будто бы помолодевший.
Когда Нефёдов после посещения нескольких кабинетов заводоуправления, в которые его, завидев, непременно затаскивали, спустился к выходу, у дверей, выглядывая наружу, переминались с ноги на ногу мокрые и немокрые, но одинаково возбуждённые заводчане. В небе трещало и перекатывалось, шёл неизвестно откуда взявшийся проливной дождь. Иван Иваныч развернул газету, которую принимался читать ещё утром, но ливень оборвался так же неожиданно, как и начался. Он сунул газету в карман и вышел из душного заводоуправления вон. Но на улице, оказалось, ничуть не посвежело. Из укрытий выбирались люди и бежали кто куда. Особенно много народа высыпало из-под козырька клуба. Толпа двигалась скорой побежкой, рассекаясь около двух легковых машин, застывших в луже. К одной из них подошли Потоцкий, незнакомый, лет сорока, седеющий мужчина и Лена – в лёгком голубом платье, в котором её Иван Иваныч ещё не встречал. Он увидел не Лену сначала, не Потоцкого, не пегого мужчину, а всех разом. Потоцкий открыл первую дверцу, предлагая незнакомцу сесть рядом с водителем, тот отказался, открыл вторую, мужчины пропустили Лену, она ловко юркнула в машину – всё-то у неё получается ловко! – рядом с ней сел незнакомец, а Потоцкий полез вперёд, хлопнул дверцей, и автомобиль, пустив пузырчатые волны, взял круто в уличный поток шумных собратьев.
14
Генка Самохин знал Нефёдова с первого курса химико-технологического. С первого же курса и невзлюбил, потому что тот был лаптем дубовым, к тому же воинствующим. Его жалели, над ним смеялись даже девчата. А иногда он приводил всех в бешенство. Однажды, на картошке, весь курс, благодаря ротозейству агронома колхоза, мог получить большие дармовые деньги. На ошибку указал Нефёдов. Агроном схватился за голову: дело-то было уже закручено, бухгалтерию прошло, подпись председателя колхоза имело. Что делать? Самохин ему популярно объяснил: в данной ситуации лучше промолчать – потратить колхозные деньги, но сохранить престиж. «Ладно, – махнул агроном рукой, – либо пан, либо пропал!» – на фиктивное перевыполнение плана у специалистов полей появились свои дополнительные виды. Группа об истинных причинах щедрого вознаграждения не ведала, о них знали только Самохин и Нефёдов. Нефёдов пошёл к председателю колхоза. Истина восторжествовала – из агронома пан не вышел, а ребята получили по своей честно заработанной за месяц сотенке и поехали домой. Почему им пришлось вернуть по пятьсот рублей колхозу? Причину объяснил Самохин:
– Во всём виноват балбес Нефёдов, – сказал он, а каким образом виноват, не объяснил, помахал лишь выразительно руками. Ему поверили.
А Нефёдов в это время – было начало учебного года – мчался с чистой совестью в качестве бойца городского ударного отряда в Братск. Поднимающаяся на Ангаре гидроэлектростанция была его мечтой, и его отпустили на два месяца с условием, что пропущенные лекции на успеваемости не скажутся, и семестр он снова закончит на отлично. Помог и горком комсомола: «В отряде Нефёдов назначен ответственным за фотолетопись и без него никак нельзя».
Нефёдов слово сдержал, экзамены за семестр выдержал превосходно. Особенно по истории, где он на примере Братской электростанции блестяще осветил вопрос «Экономическая политика страны на современном этапе», хорошо знал и второй вопрос билета, связанный с «преодолением культа личности и его последствий». Да, Нефёдову было о чём говорить: было время больших перемен, народ взялся за целину, строил Братскую ГЭС, раньше американцев запустил в космос искусственный спутник… Ответ свой Нефёдов закончил словами: «Строгость в вопросе соблюдения норм общественно-политической жизни – необходимая составляющая того, что надо быть предельно честным и последовательным в идеях и их осуществлении. Честность должна быть однозначна, гласна и наступательна. Я так понимаю».
Выступление Нефёдова Самохин истолковал прямым выпадом лично в свой адрес. Группа к тому времени прекрасно знала всю правду об ошибке агронома и поступке Нефёдова. Мнения были разные: одни называли Нефёдова дураком, Ванька он и есть Ванька, другие – простофилей, третьи – чудаком и по-другому, но были и такие, которые считали его действия правильными, только зря это он всё взял на себя одного, не рассказал всей группе, а, впрочем, зачем, пошли бы споры, дебаты и всё равно вернулись бы к тому же самому, что сделал Нефёдов.
На третьем курсе тихая Альбинка Муртазина предложила кандидатуру Нефёдова в секретари комсомольской организации курса. Поднялся горячий спор. Классная дама Степан Маркович Сухопаров (классной дамой он назвал себя на первом курсе: будем знакомы – я ваша классная дама; видно, таким образом решил завоевать симпатию группы), являясь ответственным за всё и вся во вверенной ему группе, посоветовал кандидатуру Нефёдова на курсовом собрании не выдвигать, он-де человек не без странностей, хоть и отличник, и ко всему прочему мнение коллектива для него – пустое место. Секретарём выбрали другого, сейчас и фамилию-то не вспомнить, но тот зато был без странностей.
К спорам о своей персоне Нефёдов отнёсся спокойно. В то время он уже вплотную занимался наукой. Но всем показалось, что Нефёдов до глубины души уязвлён. Тогда, после собрания, к нему подошёл Самохин и завёл разговор по душам, по-дружески, по-доброму.
– И сдался тебе этот катализ, – сказал он, – зачем неделю назад со Стёпой (Степаном Марковичем) спорил? Ты что, больше его знаешь? Если даже и больше, всё одно, не надо было. Мало ли что ты там разработал-вывел, у него программа, утверждённая в министерстве, и будь добр – слушай, конспектируй, запоминай. А ты со своими коррективами лезешь, да ещё на людях. Вот он и не спустил тебе: тактично так кандидатуру твою зарезал. Знаю-знаю, тебе безразлично. Но ведь ты не на луне живёшь. На земле, а тут у нас существуют законы гравитации. И их, коли шею не хочешь свернуть, нужно учитывать. Жизнь, скажу я тебе, тот же театр, Ваня, умей понимать условности и старайся не протыкать носом декорации. Тебе, дорогой мой человек, – продолжал Самохин, – в мозгах люфта не хватает, больно уж ты прямолинейно мыслишь, несовременно. И одеваешься также. Кто, скажи мне, при твоём росте, такие короткие штаны носит? Да ещё зелёные. Знаешь, почему тебя девочки не жалуют?
– Нет, – простодушно ответил Нефёдов.
– А всё потому… – не объяснил Самохин, завертев по обыкновению руками, и спросил сам: – Почему?
– Что почему?
– Почему ты такой балбес?
Незаметно, после этого разговора, Самохин стал сочувствовать угловатому Нефёдову. Он искренне жалел его, не пьющего вино, не курящего, обделённого женским вниманием, лишённого многих других земных радостей. Ну и что – побывал в Братске? Появилось много новых друзей от Ангары до Нарвы, а вот одного настоящего друга, который рядом, как не было, так и нет. Несколько раз Самохин брал Нефёдова в свои компании, но безрезультатно: знакомствами в них он не обзаводился, с девочками контакта не находил – сидел, как инопланетянин, сковывая подгулявшее общество своим трезвым, испытующим взглядом.
– Что за тип? – спрашивали после друзья.
– Мой ученик, – спокойно отвечал Самохин.
– Чему же ты его учишь?
– Жизни.
Да, он искренне старался сделать из Нефёдова, из этой белой наивной вороны, нормального современного мужчину.
– Я удивляюсь твоему однобокому взгляду на жизнь, – говорил Самохин, – правильно, неправильно, честно, нечестно, белое, чёрное… Жизнь-то она многоцветна, а правила относительны, правила каждый по своему росту кроит.
Он учил наивного и в этой наивности чистого своего друга уму-разуму, незаметно светлея подле него душой сам, и было непонятно, кто кого учит жить. Самохин, глядя на Нефёдова, брался за учебники и конспекты, порывал с девками, начинал искать идеал, рыться в себе, но срывался, и все потуги его шли насмарку, он сознавал, что тот, кого он учит жить, гораздо лучше его, чище, талантливее и что вовек ему с ним не сравняться. Вот и в цехе, где они начали вместе, только на разных участках, получилось снова не в пользу Самохина. Он всё ещё старший мастер, всё ещё в бобылях ходит, хотя и гордится этим, и нет у него ни изобретений, ни лаборатории, ни детей, ни учеников – никого и ничего, кроме пустой, неприбранной квартиры, в которой он и не живёт, а лишь временами сожительствует с очередной подругой, от которой, когда та оказывается вовсе не его идеал, очертя голову убегает к матери. А его единственный ученик Ванька, дубовый лапоть Ванька, пожалуйста, – начальник цеха, кругом только и говорят о его катализаторах, лаборатории, успехах коллектива, которым руководит Иван Иваныч Нефёдов.
В душе Нефёдова подобных борений не было. И поэтому дружба однокашников продолжалась. Но только за пределами завода. В цехе Самохину учить жизни начальника цеха было не с руки. Нефёдов поначалу этого не понимал и лез к нему с дружеской непосредственностью, но потом понял, условия друга принял и называл его ответно по имени-отчеству. В цехе и не подозревали, что Самохин и Нефёдов вместе учились. Поэтому и мог Самохин спокойно говорить Шишмарёву:
– А Ваня-то ваш идейный, оказывается.
Вообще Гена Самохин был из тех, кто видит на два аршина под землёй. Он сразу подметил в друге то, что тот всячески пытался скрыть.
– Далеко увезли тебя твои принципы? – спрашивал он, посмеиваясь и всучивая Нефёдову запасной ключ от своей квартиры. – Я так и так у матери живу. Не бойся, в этом четырнадцатиэтажном бараке сосед соседа не знает и никто у вас брачного свидетельства не потребует.
Это было два дня назад, а сегодня вот Иван Иваныч ключом воспользовался и сидел в потёмках в самохинской квартире на продавленном диване, вопрошающе глядя в пол. «Женатый человек, отец семейства, разревновался… Какое я имею право?» Он поднял голову, в прихожей открывали дверь. Пришёл Генка.
– Что впотьмах сидишь? – спросил он удивлённо. – А где Иванова? Так и не решился привести?
– Пойду я.
– Поссорились, что ли?
– Да нет.
– А что? – Самохин пытливо посмотрел на друга. – Ты мне Ваньку не валяй, выкладывай.
У большого и доброго Ивана Иваныча друзей, кроме этого маленького лысеющего и ершистого характером человека, не было, и он сказал еле слышно:
– Да, случилось… Она с Потоцким.
Самохин не спросил, что с Потоцким, но глаза его терпеливо ждали ясного ответа, и Иван Иваныч рассказал то, что видел сегодня, выйдя из заводоуправления, и сразу пожалел об этом, потому что Самохин тут же предложил съездить в общежитие: может, бедняжка сидит сейчас одна, неповинная, а Ваня просто обознался или ещё что-нибудь и возводит напраслину.
– Нет, – сказал Иван Иваныч, – не обознался и не поеду.
– Почему? – удивился Самохин, но скоро понял, что убеждать бесполезно: – Тогда я один сгоняю.
– Не надо, ни к чему это.
– Нет уж, поеду, может быть, у меня там свои дела есть. А ты домой иди, если, конечно, сможешь.
Самохин убежал. Нефёдов тоже собрался было, но Генка оказался прав: не дождавшись его, пойти домой он не смог. Он стал ждать. Не было часов несноснее этих. Иван Иваныч ходил маятником из угла в угол, от стола к дивану и от дивана к столу, садился, вставал, смотрел в чёрное окно, в котором мигала, перегорая, одинокая уличная лампа, и лихорадочно думал, думал, вспоминал всё, что было у него с Леной, до самых мелочей, которые сейчас, казалось бы, смогли ему что-то объяснить, вспоминал от самой первой минуты и до последней, до той, когда он увидел её в машине, вспоминал и с ужасом представлял её с Потоцким и уже больше не помнил, что ревновать Лену к Потоцкому он не имеет права.
Самохин вернулся через вечность. Его всегда колючий, едкий взгляд был притуплен и без слов было понятно: ошибки не произошло. Но Иван Иваныч всё равно смотрел Самохину в рот, весь его вид спрашивал: «Ну что?» Самохин достал сигарету, толкнул окно и, чиркнув спичкой, закурил.
– Она точно – приехала на «Волге», – сказал он, затянувшись дымом и резко пустив его в темноту двора, – с Потоцким и ещё с каким-то, дружок, должно быть. Собрала манатки – полтора чемодана и укатила с ними. Из общежития её выписали.
– Откуда ты всё знаешь?
– Какая разница? Да… – Глаза Самохина стали злыми. – Все они одинаковые, только на вид разные. Вот у меня… сколько их было? На руках, ногах пальцев не хватит перечесть. Но ни одна ведь тут не осталась. – Самохин прижал руку с тонко дымящейся сигаретой к груди. – А почему? А потому что любви-то на самом деле нету. Выдумали её, чтоб от животных отличаться. Да… «Все на свете из людей песнь любви поют и повторяют». И вот уж какая-нибудь Машка с мыльного поверила, что она Матильда бесподобная. А на самом деле как была она Машкой, так ею и осталась вовеки, подобно тысячам других, рождённых лишь для того, чтобы плодить в сладострастии себе подобных. И нет ей разницы, кто будет отцом её чада – Иванов, Петров или Потоцкий, наплевать ей с высокой горы на твою душу, на устремления твои высокие, главное – деньги делай, будь на должности, соответствующей её красоте, ну и чтоб не урод жуткий, хотя последнее и не обязательно.
Самохин говорил, и было непонятно: слушает его Иван Иваныч или нет.
– Ну что ты, ядрёна корень, свет на ней клином сошёлся? Славу богу, раскусил вовремя, а то зашло бы чёрт знает куда. Вот ведь какая, сначала к начальнику цеха подкатилась, потом к главному инженеру. Шустрая! Воистину не имей сто рублей, а имей длинные ноги и смазливую мордашку.
– Перестань.
– Выходит, она на квартиру Потоцкого переехала? Быстро обработала.
– Перестань, прошу тебя.
Но Самохин не переставал:
– Сколько парней у нас в цехе, ведь нет, знает, соплюшка, в кого свои цепкие глазки впивать. И повадки-то у неё, будто ей не восемнадцать нынче исполнилось, а все тридцать, или она герцогиня Бургундская – одного полусловом отошьёт, на другого и не взглянет, хоть ты расшибись перед ней. Это не мои слова. Не ты один ею задет. Но ты первый, на кого она глаз положила. В этом смысле ты счастливый.
Иван Иваныч поднял на товарища глаза.
– Да, да, – повторил Самохин и щелчком запустил сигарету в окно, – ты и сам не знаешь, какой ты счастливый.
– Чего несёшь?
– Ничего. Просто я… Просто я завидую тебе. Со мной такого не было. Представляешь себе, ни разу в жизни не ревновал, ни разу никогда никого убить из-за женщины не порывался, а бросали, уходили от меня – не жалел, не плакал, а вот, ядрёна корень, словно я оскоплённый какой. Ушла от меня сегодня Нинель, а душа моя ноль внимания, не шире, не уже. А может быть, она, душа-то эта у меня отсутствует, или, скорей всего, её тоже для красоты поэты выдумали?
Самохин достал из холодильника початую и аккуратно заткнутую чёрной резиновой пробкой бутылку водки.
– Давай, Ваня, по пятьдесят грамм.
Разлил по рюмкам, извлёк из-под газеты хлеб, квашеную капусту – подозрительного запаха и цвета.
– Я-то думал, поужинаю тут с вами, ну да ладно, чем богаты… Давай, Вань.
– Ничего, Геннадий, – не видя угощения, заговорил Иван Иваныч, – всё образуется.
– Ты о чём это? – удивлённо задержал у рта рюмку Самохин, – обо мне, что ль? Да я начхал на них на всех, на вместе взятых. Не Нинель, так другая… – Он махом выпил, взял рукой капусты и, капнув рассолом на рубашку, положил в рот. – Вилки не достал, вот раззява.
– Всё образуется, – повторил Иван Иваныч, – будут и любовь, и жена, и дети, и ревность. Просто к разным людям всё в разное время приходит…
– Брось философствовать, выпей-ка лучше, капусткой закуси, вот вилка, немытая, правда. Сейчас я мигом, кипяточком её…
– Спасибо. Идти надо. Возьми ключ свой, не пригодился.
15
С утра пришлось заниматься подготовкой людей в Темяшино – в подшефное хозяйство на сбор веточных кормов. Обычно выезжали на один день, но это оказалось неэффективным – полдня туда-сюда на дорогу, расход горючего тот же, амортизация, а производительность – ну что сделаешь за несколько часов? И погода, опять же, требовала более интенсивной работы в один продолжительный заезд.
Из всех участников список не подал один Елагин. Он явился к Ивану Иванычу в половине девятого и сказал, что посылать на веточки, – так называли на заводе эту кампанию – кроме Ивановой, некого. Ганеев послезавтра выходит в отпуск, уже деньги получил, Терёхиной нездоровится…
– Вот сам и поезжай, раз больше некого, – ответил Иван Иваныч. – От лаборатории двоих хватит. Вместо себя Шишмарёва оставишь. Выезд, знаешь, сегодня после обеда.
Не ответив, Елагин вышел. Иван Иваныч долго смотрел на закрывшуюся за ним дверь: и хорошо, она уедет, и не надо будет объясняться. Он в конце концов не мальчик, всё и без слов поймёт и переживёт как-нибудь. А пока её лучше не видеть. Иван Иваныч сидел в кабинете безвылазно, боясь одного, как бы Иванова не нашла причину и не заглянула к нему. Не может он её видеть, не может. Ему надо было в лабораторию, но там была она. И он сидел. Время тянулось долго, телефон странно молчал, будто весь завод спешно эвакуировался в Темяшино, а о нём все напрочь забыли. «Неужто не позвонит даже?» – думал Иван Иваныч. Он собрался от неё прятаться, а она и не думает его искать. Как всё легко у них, даже объясняться не надо. А появилась ли она сегодня на работу? После вчерашнего переезда и прочее не мудрено и о работе позабыть. Иван Иваныч от этой мысли жарко покраснел, тронул лицо носовым платком, запихнул беспомощную клетчатую тряпицу опять в карман халата к болтам и гайкам и направился в лабораторию.
Там был один Шишмарёв.
– Где все? – спросил с ходу Иван Иваныч.
– На обеде, – ответил, увидев раскрасневшегося начальника цеха и часто-часто заморгав, Шишмарёв, – а Елагин и Иванова ещё в десять уехали домой. Им ведь сегодня в Темяшино.
– Знаю.
Иван Иваныч охладил свой пыл, заговорил о последних результатах анализа. Вплыла Терёхина, сразу заполнив собой всю испыталку. Она посмотрела на Ивана Иваныча своими сизо-голубыми воловьими глазами:
– Что-нибудь случилось, Иван Иваныч?
Она всегда лезла с вниманием, и только сейчас Иван Иваныч подумал без обиняков, как она ему неприятна.
– Да, кстати, я вас сегодня не видела, здрасьте, кхи-кхи.
– Здравствуйте, Любовь Фёдоровна. Пока ничего не случилось, план перевыполняем, катализаторы наши себя оправдывают.
– Должно быть, я подумала, что-нибудь личное…
– С чего вы взяли?
– Так, кхи-кхи, что-то вы какой-то возбуждённый, на месте не стоите.
Шишмарёв и тот взглянул на Ивана Иваныча.
Иван Иваныч спросил ещё о каких-то ненужных ему в эту минуту параметрах, получил какой-то ответ и распрощался. Не доходя до двери своего кабинета, он услышал телефонный звонок, трезвонивший терпеливо, долго, настойчиво. Кому-то он, Нефёдов, был ещё нужен. Иван Иваныч рванул дверь, она оказалась запертой, зашарил по карманам, ключ не отыскивался, а потом долго не попадал в замочную скважину…
Иван Иваныч схватил трубку, секунду она ещё хранила чьё-то дыхание, её ещё держали в руках, но сказать ничего Иван Иваныч не успел, раздался гудок. Это, конечно, была она.
16
Потянулись мучительные дни, когда Иван Иваныч вздрагивал от каждого телефонного звонка и сравнивал всех женщин подряд с Леной. Даже Надю, как это ни постыдно. Нет, не «даже», а в первую очередь. Но разве это честно? Лена моложе на двадцать лет. Однако одёргивания не помогали. То он вспоминал Надю восемнадцатилетней, то представлял себе Лену сорокалетней. И всегда и всё равно Лена… Лена оставалась Леной. Тогда он напоминал себе её предательство и вставал на сторону Нади. Они прожили с ней целую жизнь, она была ему верной женой. Не то что он.
Ходил Иван Иваныч, как чумной. Жена и дочь наперебой ругали его за безалаберность. И поделом – он уже ставил на газ пустой чайник, гладил бельё холодным утюгом и ни разу ещё в этом году не ездил в сад, находившийся на окраине города, не посадил ни помидоров, ни огурцов. Об этом Надя узнала от дочери, которая съездила туда с товарищами после выпускного вечера. По такому поводу она устроила мужу невообразимую головомойку, сделав вывод, что он окончательно отбился от рук, распоясался и не думает о семье. Надя была права. Он думал о Лене.
Шли дни. Лена так и не звонила, и не писала, и вообще никоим образом не давала о себе знать. Иван Иваныч знал, что она и не даст о себе знать, он чувствовал: что-то случилось в её душе и виноват во всём, конечно же, не Потоцкий, а её молодое, расцветающее и жадно вбирающее красоту жизни сердце. И ревность, беспощадно давившая в первые дни разлуки, стала терять свою гнетущую силу, рассеиваться, превращаться в какую-то чистую, высокую, спокойную ясность. И ничто, никто, даже сама Лена не в силах была уже развенчать тот образ Лены Ивановой, который жил в Иване Иваныче самостоятельной жизнью.
Через две недели Нефёдов поехал в Темяшино проведать своих. Обычно начальники цехов посылали туда заместителей, предцехкомов… Иван Иваныч поехал сам с разговорчивым Шариповым на цеховом грузовике. По дороге бедная колымага сломалась. На одном из пыльных подъёмов она зачихала, зафыркала и встала. Возились долго, в Темяшино приехали, когда рабочий день там был уже закончен. Почти весь «ударный цеховой отряд» сидел в зрительном зале клуба. На сцене, за длинным красным столом, покрытым красным сатином, расположились любители подкидного. В средних рядах молодёжь бренчала на гитаре, солировал недавно вернувшийся из армии Семён Круподёров. Образовавшийся вокруг него кружок подпевал дружно и старательно. В первых рядах, то есть между картёжниками и гитаристами, сидели, положив руки на колени, разговаривая, обеззабоченные командировкой женщины. Были среди заводчан и местные.
Нефёдову обрадовались, прервали на время свои занятия. Елагин в двух словах обрисовал обстановку: норма на каждого по двести пятьдесят кэгэ, но с руководством сошлись на двухстах, и задание выполняется чуть ли не за полдня. Поэтому решили рабочий день начинать с девяти, выспавшись. Разместили всех хорошо, довольны, только Иванова ходит в соседнюю Ивановку, у неё там родня.
То, что Лены тут нет, Иван Иваныч заметил сразу. Он даже взглядом не поискал её – понял сердцем, которое не заколотилось, не сжалось в предчувствии встречи, лишь кольнуло коротко холодком. Выходит, он её не увидит, и поездка получилась по-настоящему деловая.
Минут через пятнадцать из-за кулисы на сцену вышло ещё большее начальство – секретарь парткома завода Вахит Ниязович Аскаров с председателем колхоза Валиахметовым.
– В карты режемся? – начал Аскаров без предисловий. – Выбили себе норму, делаем её за три часа и прохлаждаемся?!
Аскаров был невысоким широкоплечим мужчиной на коротких крепких ногах и напоминал больше портового грузчика, чем секретаря парткома. Ему было всего сорок пять, но грузность и седина тянули на все шестьдесят. Ещё секретаря парткома старил его увечный глаз, который он попортил двадцать лет назад на Невинномысском химкомбинате. Но глаз без зрачка, и голос чугунный, и извечное ворчание в заблуждение заводчан не вводили, народ знал честную надёжную душу Аскарова.
– Хватит заливать мне тут, – водил он недовольно глазом, – какая, к шуту гороховому, планомерная работа? Планомерный загар, я понимаю. Вон как потемнели – со всех сторон равномерно. Хватит. Давайте-ка в день по две нормы и домой пораньше. Зачем целый месяц терять? Своих дел на заводе хватает.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































