Текст книги "Опыт № 1918"
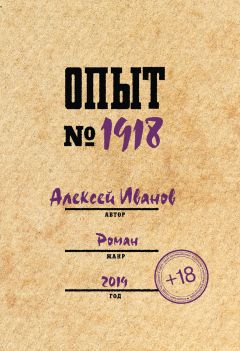
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 23
Разговор с председателем ВЦИКа пошел не так, как предполагал Бокий.
– Вы православный, Глеб Иванович? – Свердлов не поднялся навстречу, лишь кивнул Бокию – мол, присаживайтесь.
Кабинет был громадный, с большим столом для заседаний, плотно окруженный стульями. Сам Свердлов сидел, как было принято в царские времена в министерствах, за «официальным» столом красного дерева в стиле «жакоб» с латунными накладками и канелюрами, в кресле с высокой спинкой, обитом кожей. На кресло наброшена черная шкура мехом вверх.
«Сильный ход», – отметил Бокий. Он сам любил начать разговор с вопроса, которого собеседник не ожидает. Теперь требовалось ответить: да или нет.
– Мой папа, Иван Дмитриевич Бокий, действительный статский советник, и в его положении крестить сына…
– Я вас спросил не о том, действительный ли он статский советник.
Свердлов, чуть покручивая шелковый шнурок пенсне, холодно смотрел на Бокия. Но именно это покручивание шнурочка позволило Бокию понять: Свердлов нервничает. Что вывело его из равновесия? И что последует? Он вербует соратника? Ищет слабое место?
– Моя мама, Александра Кузьминична, в девичестве Кирпотина…
– Глеб Иванович, вы человек умный, вы же понимаете: прежде чем попросить вас сюда прийти (Бокий отметил и «умный», и «попросил прийти»), я ознакомился с вашей биографией. Я прекрасно знаю, что вашу маму звали Эсфирь-Юдифь Эйсмонт, что ее время от времени приходилось помещать в желтый дом…
Бокий оценил противника: информацию о матери он уничтожил давным-давно, перевербовав полицейского агента, служившего «на ячейках» в архиве охранки. Горький пьяница, тот за небольшие деньги изъял все, что касалось сумасшедшей Эсфири, кидавшейся на прохожих с криком: «Вас всех поглотит геенна огненная!» – и теперь матерью Бокия значилась Александра Кирпотина (кстати сказать, его родственница).
– …меня интересует, чувствуете ли вы себя православным? Или хождение в храм Божий для вас такое же прикрытие, как революционные идеи? Вы боец за революцию или холодный исследователь, вроде Бехтерева?
Бокий понял – это решающий миг. Ответить: «Да, чувствую бойцом»? Но сделает ли это его соратником, сообщником или, наоборот, врагом? В голове прокрутились все известные Бокию извивы характера и судьбы этого маленького тихого человека: от черного меха, на котором он сейчас сидел (шкура любимой собаки, снятая с нее после смерти), до специальных сапог, кожанки и «совместной работы» с нижегородскими уркачами – там была пара убийств, бросавших тень и на молоденького Янкеля. Может, тогда он и «ушел» к революционерам, почувствовав, что у них надежные тылы – от самого адвоката Зарудного, главного защитника лейтенанта Шмидта и приказчика Бейлиса, до Горького и даже Шаляпина?
Вот для чего этот окольный, неуклюжий заход через православие. Свердлову нужны борцы. И бойцы. С кем и против кого? Он второй человек в государстве после Ленина. Бороться против Ленина? Не поймет «старая гвардия». Впрочем, «старую гвардию» можно в расчет не брать, ее можно развалить, да она и так уже распадается от всевластия и близости к кормушке. Троцкий? Блестящий ум, характер, воля… Но… не случайно нанимался в актеры в Голливуде. Фанфарон, гордец. А грех гордыни в столь нелюбимом вами православии – грех смертный, мать всех грехов…
– Просчитываете варианты? – усмехнулся Свердлов.
«Чувствуете ли вы себя бойцом за революцию?» Конечно, нет. Не чувствую! Дурной романтический бред!
– Разумеется, чувствую, – сказал Бокий, твердо глядя в глаза Свердлову. Как раздражает это пенсне с простыми стеклами! Зачем оно ему? Неужели все еще видит себя провинциальным еврейским мальчиком с четырьмя классами гимназии за спиной? – И стараюсь не терять это чувство!
– Я рад, – Свердлов блеснул стеклышками и тут же погасил улыбку. Бокий это отметил: сдержанность – редкое свойство. Особенно у неожиданно взлетевших на самый верх. – Мне всегда было отвратительно русское подполье. Жалкое. Униженное. Вырождающееся. – Он встал и подошел к поднявшемуся Бокию, как бы меряясь с ним ростом. – Ни одной собственной идеи. Я не самый большой знаток и трактователь Маркса, но мне всегда казалось, что для реализации его великих идей нужны совсем другие люди.
– Я не согласен, – Бокий напрягся, как если бы это задело его за живое. – Именно подполье сумело поставить на поток террор, организовало революцию пятого года, подпольщики вошли в контакт с русскими евреями, смогли поднять мировое еврейство, организовать интернациональный Бунд. (Интернационал – детище Свердлова!)
– Хотите затеять дискуссию? Я презираю эту вечную пустую болтовню и вопли о демократии! В империи не может быть демократии! И так проболтали Россию! – Он вернулся к столу и поднял телефонную трубку: – Машину мне!
Бокий нащупал в кармане флакон «Royal English Leather». Сейчас – или все мимо! Достал красавец-флакон, покрутил в руках, разглядывая…
– Позвольте презентовать вам, – едва начав говорить, он почувствовал, как напрягся Свердлов. – Настоящий английский. Моя жена – полная сумасбродка. Купила мне. А у меня от сильных запахов жуткая головная боль… Это, – Бокий засмеялся, – привет нам всем, любителям кожи, от английского короля Георга III. Тысяча семьсот девяносто восьмой год. Георгу так нравился запах седла, поводьев, своих кожаных перчаток, что он приказал королевскому парфюмеру создать особый одеколон. Для настоящих мужчин и королей! – Бокий протянул флакон Свердлову.
– В жизни не видел таких флаконов! (Флакон действительно был громадный, «мадам» постаралась.) – Свердлов небрежно (Бокий оценил) опустил флакон на столик возле двери. – Прошу вас! – и, сделав приглашающий жест, он прошел в дверь первым.
Бокий понимал, что разговор о русском подполье – только начало. Сеть с широкими ячейками, сквозь которые можно еще уйти. Разговор с глазу на глаз в машине – «мотня», жерло того невода, из которого выбраться уже невозможно. Важные разговоры Свердлов предпочитает проводить в машине. Вот только понять бы, кого он имел в виду, говоря – «подполье»? Тех, кто работал в России? Или «отсиживался», как теперь кое-где уже начали говорить, в Америке или Лондоне? (Или в Женеве.) Ясно, что Свердлов специально не обозначил адресата более точно. Умно. Просто – «подполье». Чтобы захват невода был пошире, а выход – дальше. Но Бокий и не собирался удирать из этого невода, грубовато поставленного Свердловым. Напротив, появилось чувство полета, как когда-то в детских снах. Его любимое ощущение риска. И новых возможностей для опасной и захватывающей интеллектуальной игры. Игры не в жизнь и смерть, а в смерть и смерть. Но когда, каким образом, в какой компании… ведь истязай и распни Христа в одиночной камере, еще неизвестно, как бы он себя повел…
Роскошный – не чета Бокиевскому «Паккарду» – «Делоне-Бельвиль» из царского гаража ждал у крыльца.
– По князю Андроникову, – сказал Свердлов, когда они устроились на мягких, чуть продавленных сиденьях. – Хорошо, что закрыл вопрос, Глеб Иванович. Проворовался дальше некуда. Нельзя, чтобы мелочи портили большое дело.
– Говорят, Старик в гневе… Будто бы он Андроникову чем-то обязан, – Бокий слегка поддал иронии в голос. Для пробы. Для уточнения позиций.
– Ильич разбушевался не оттого, что кому-то обязан, – Свердлов скромно улыбнулся. – Он знает твердо, что не обязан ничем и никому. Кто бы и что для него ни сделал. Шум по поводу князя Андроникова… – Свердлов сделал паузу. – Так ребенок шумит, когда что-то не по нему. Ничего, переживет. На Руси без воровства нельзя.
Крытый «Делоне» прокатился по кремлевской брусчатке, чуть замедлил ход возле поста с часовыми и выехал на Красную площадь.
– Не люблю Москву, – Свердлов выглянул в окно автомобиля. – Что-то есть в ней показное, фальшивое. Я больше к Нижнему привык.
– А я все-таки питерский, – поддержал разговор Бокий. – Строгость, порядок, красота…
– Как раз порядка-то и нет, – Свердлов характерным жестом чуть прикрыл рот рукой, словно боясь, что его услышит кто-то кроме Бокия. – И не просто порядка нет, – он взглянул на Бокия, и тот вдруг понял, зачем он носит пенсне с простыми стеклами. Такой холодно-жестокий взгляд Бокий видел, когда был в ссылке в деревне Броды на Урале, – у волка, которого притащили охотники. Спокойный и холодный взгляд убийцы. Понятно, почему его боятся пуще Ленина. Там – ярость, шум, треск, обвинения, оскорбления, затем – объяснения, примирение, прощение. Здесь – все тихо и спокойно. И безжалостно. И оттого для непосвященных – особенно страшно. – Не просто порядка нет, – повторил как бы для себя Свердлов. – Есть точная информация об Урицком и Зиновьеве. В Питере – заговор, – он сделал паузу, как бы ожидая, что скажет Бокий. Бокий отмолчался. Это была любимая тема революционеров: шпики, провокаторы и заговоры. – Твоя задача… – Свердлов перешел на «ты», как принято между близкими партийцами, – но постарайся как-нибудь… поизящнее… решить вопрос по Урицкому. Чтобы врач ему больше не понадобился. – Свердлов помолчал, давая Бокию возможность оценить масштаб фразы. – Урицкий там мотор. За рулем, конечно, Зиновьев, но он – в нашей разработке. Он трус, начнет от страха суетиться и всех нам сдаст, – Свердлов перехватил взгляд Бокия. – Понял вопрос, Глеб Иванович? Его пока трогать не будем. Григорий Евсеич, – он поулыбался, дергая себя за бородку, – любимец Ильича. Не станем огорчать Старика, – он снова снял пенсне и потер покрасневшую переносицу.
«Делоне-Бельвиль», объехав вокруг Кремля, свернул к Боровицким воротам, минуя красноармейские посты, раскочегарившие костры из плиток-торцов.
– Вот мы и приехали. – Поднявшись по крутому мосту, машина остановилась. – Я люблю иногда прокатиться. Лучше думается, – Свердлов неожиданно крепко пожал руку Бокию цепкой обезьяньей ручкой. – Вас шофер отвезет куда надо, – он легко выскочил из машины. – А насчет Георга III – это вы ловко придумали! – И козырнув часовому, быстро прошел в ворота.
Глава № 24
То, что дело провалилось, Лёнька Ёлочки Зелёные понял сразу, как только охрана банка открыла стрельбу. Но не в его правилах было отступать.
На крупное дело хевра всегда возила любимый Лёнькой еще с войны французский «Гочкис». Оруженосец Вася-Нявый ударил по охране из «ручника» (ручного пулемета), та мигом слиняла, поняв, что имеет дело с серьезными людьми. Однако шум есть шум, пришлось работать с сейфами быстрее, чем надо бы. Когда вскрывали третий (все-таки Миша-медвежатник был мастер), подлетели чекисты, перестрелка запалилась у самых дверей банка. Деньги выносили через боковой вход, предусмотрительно открытый Митей-студентом. Чекисты, однако, смикитили про выход в переулок, бросились туда и принялись палить прямо в окна. Ответ «гочкиса» был суровым, но те уже успели ранить самого Лёньку шальной пулей, да и Вася-Нявый дважды выдергивал вату из любимой телогрейки и затыкал раны. Позже, когда Федя-Хлыст, поняв, что и Лёньке, и хевре копец, уже погнал машину, пробиваясь узким переулком на Загородный, Васю-Нявого, который «гочкиса» так и не выпустил, пристрелили в упор. Самому Лёньке удалось схорониться за мебельным хламом, зажимая оторванным рукавом рану в животе.
Однако Федя-Хлыст просчитался. Не понял всегдашнего воровского счастья Лёньки Ёлочки Зелёные. Того счастья, что и отличало его от всей волчьей кодлы.
Схоронившегося в пыльном углу Лёньку заметил Сеславинский, старший из чекистов. Услышал, как тот щелкнул курком браунинга. И тут же – бывший фронтовик Лёнька оценил – присел, навел на Лёньку «люггер» и спустил курок. Точнее, спустили курки разом, одновременно. И оба пистолета дали осечку. Лёнька засмеялся, глядя на чекиста с веселой злобой: «Ух ты, ёлочки зелёные!» Тот с удивлением посмотрел на бандита, потом на пистолет, пробормотал что-то вроде «первая осечка» – и вдруг вместо того, чтобы передернуть затвор, сунул пистолет в карман кожанки и исчез. Лёнька выждал минуту, подозревая, что чекист притаился где-то между поваленными набок шкафами, выглянул и, прихватив «гочкис», забрызганный кровью Васи-Нявого, выбрался в переулок. «Форд», на котором Лёнька ездил на «крупняк», будто ждал его – выкатился с набережной Фонтанки, огрызаясь назад револьверными выстрелами. Лёньку подхватили, и «гочкис» прошелся по чекистам, высыпавшим из-за угла, от души. Только от булыжной мостовой и гранитной облицовки здания банка летели искры. К Обводному прорвались легко, перемахнули через мост, а в район Боровой чекисты и сами не рискнули соваться.
Там же на следующий день всей гопой судили и Федю-хлыста, решившего сбондить добычу. Федю прирезали, недослушав его слезных («я ж не знал, что Лёнька жив, не знал!») объяснений.
Много позже, когда Сеславинский после памятной «баньки» с Микуличем быстрым шагом, почти бегом спешил по Казачьему переулку, его догнал молодой банщик-татарин.
– Вам от Лёньки Ёлочки Зелёные привет и благодарность, – татарин сунул в руку Сеславинскому обрывок бумаги. – И просили передать, чтобы вы с ним больше не пересекались.
На обрывке был адрес: Гороховая 57 кв 6. И имя: Елена.
Однако пересечься пришлось. Летом 1935-го. Когда в «красном», «ссучившемся» лагере, местные «суки» – бывшие воры, пошедшие на службу к начальству, – рубили топорами присланного в лагерь Лёньку, отбивать его на дровяной двор прибежала сплавная бригада, в которой «бугром» был Сеславинский. И выхаживать, охраняя в бараке, пока Лёнька не поднялся на ослабшие до дрожи ноги и не ушел вниз по ледяной, ртутно-черной перед ледоставом Печоре, оседлав два стянутых скобами бревна.
И Лёнька, хоть и не подошел к Сеславинскому ни разу, вытащил его – уже на Колыме, – с общих, смертных работ, на которых Сеславинский «доходил» так, что не мог даже сопротивляться, когда сопливый пацан, служивший в бараке «манькой», стащил с него последнее – прогоревшие у костра валенки. Однажды перед самым отбоем, после переклички, в барак под команду «Встать!» вошел в сопровождении охраны сам доктор Гиршман, впервые заехавший на эту гиблую командировку. Сеславинского по его команде отыскали и унесли на носилках, а доктор, смахнув с белого полушубка копоть, валившуюся с потолка, который Гиршман едва не задевал головой, буркнул: «Антисанитарию развели, козлы!» – и ушел, лягнув по дороге кадейку с соляром, с помощью которого разжигали мокрые дрова и кедровый стланик. Соляр со стлаником и давали эту жирную копоть.
Следующий месяц Сеславинский отлеживался в больнице на чистых простынях, и старшая сестра приносила ему ежедневно сырое яйцо, которое он обязан был выпить в ее присутствии. «Так велел доктор!» Позже, когда он уже работал придурком в лаборатории, мыл пробирки, к нему подошел незнакомый зек, толкнул под бок и быстро проговорил: «От Ёлочки Зелёные привет. Просили передать, что в Питере все спокойно», – и ушел, сунув Сеславинскому в карман грязно-белого санитарного халата аж четыре пачки махорки. «В Питере все спокойно» было важнее махорки, главной валюты лагеря: письма из Ленинграда не приходили уже полгода.
Глава № 25
По дороге на Лубянку Бокий прокручивал весь разговор со Свердловым, припоминая быстрые взгляды, короткие нерезкие жесты, характерное движение руки – прикрыть рот (так в гимназии отличники подсказывали на уроках: вроде бы для того, чтобы учитель не слышал, но – чтобы увидел). Жаль, нету Мокиевского, можно было бы с ним обсудить, вычислить по его системе – что за человек. Мокиевский был бы счастлив, перескажи он ему разговор. Да и сам Бехтерев получил бы удовольствие. Бокий вспомнил, как они сидели в нетопленом кабинете Бехтерева в бывшем дворце великого князя и Владимир Михайлович разглагольствовал, попивая разведенный спирт, настоянный Мокиевским на клюкве. Стоило Бехтереву выпить, он необыкновенно делался похож на чуть уменьшенного Александра III – только косую прядь со лба откинуть да бороду поправить, подкоротить.
– Нам, господа, – они сидели перед камином, в котором шипели и дымили сырые дрова, выловленные сотрудниками института из Невы, – готовиться надобно к длительному совместному проживанию с этой властью. Говорят, революция пожирает своих детей, – Бехтерев, кряхтя, поправил дрова, – что верно. Но еще более верно, думаю я, – он неласковыми, наливающимися глазами посмотрел на Бокия и Мокиевского, – что то событие, в коем мы имеем несчастие пребывать, вовсе не революция! – Он выпил рюмку и сделал паузу. Бокий и Мокиевский многозначительно переглянулись. Бехтерев, особенно в легком хмелю, частенько изрекал гениальные парадоксы. Кое-что неленивый Мокиевский даже записывал. Впрочем, наутро старик сам с собой соглашался не всегда.
– Никакая это не революция, – Бехтерев характерным движением вскинул голову, словно рассматривая что-то на потолке. – И название тому, что происходит, сугубо медицинское. К несчастью, определения событиям и названия им дают неучи. Это как если бы я, неуч в живописи, вдруг решил бы дать определение росписи на потолке над нами. Ни автора ее я не знаю, ни сюжета, ни техники, в которой она исполнена. Скажу просто: картина. Так и они: революция! Не понимают, по убогости своей, что это другое – это русский бунт. А русский бунт к революции никакого отношения не имел и иметь не будет. Это бесовщина или заболевание, массовое помрачение ума. Причем бесовщина – самый простой, имеющий благоприятный исход вариант. Господь, – Бехтерев перекрестился, – Господь рано или поздно бесов-то победит, не позволит им долго царствовать. А вот уж встать во главе бесовщины, это кем же надобно быть? А? Верно! Чистым бесом. Я про мелочь не говорю, сии персоны, вроде питерского вождя Зиновьева, – так, бесенятки. Я в Москве за ихним Лениным наблюдал. Чрезвычайно полезное наблюдение с точки зрения медицины. – Бехтерев перегнулся через ручку кресла, наклонившись к Мокиевскому: – Вам, Павел Васильевич, особенно любопытно было бы! – Он хмыкнул. – Я поначалу думал, что выступление его – пародия какая-то, игра, что вот-вот он остановится и – аплодисмент зала! Ан нет! Как пшют, по сцене носится, околесицу какую-то несет по поводу мировой революции и мирового пролетариата; то фертом встанет, то по-приказчичьи пальчики за жилетку заложит, и всё – на крик, на крик! То Марксом, то Лессингом, то Прудоном жонглирует, а к чему, какое отношение к России сии почтенные в профессорских кругах люди имеют – не пойму. Но что любопытно? Брызгал, брызгал слюной, картавил – видать, от Франции не отошел. Заходится – сейчас пена изо рта пойдет, вызывайте доктора Мокиевского! А сам время от времени – зырк по залу, зырк! А после, – Бехтерев мутновато-блестящими глазами посмотрел на своих учеников, – мне повезло, он прямо рядом со мною остановился и кому-то из своих: «Хорошенькую трепку я им задал, товарищ Луначарский!» А сам в зал глазом косит, как провинциальный актер: хорошо ли аплодируют?
– Луначарского-то вы бы могли и узнать, он к нам приезжал, помните? Все насчет долголетия интересовался.
– А бес их знает, по мне они все на одно лицо! – Бехтерев развернулся к столу. – Вы, шельмецы, думаете, это я по нетрезвому делу околесицу, вроде вождя вашего, несу. – Мокиевский заговорщицки подмигнул Бокию. – Ан нет. Вчерась размышлял на сей счет, да и еще раньше… – Он выдвинул ящик стола и стал перебирать бумаги. – С этим переездом все со своих мест сдвинулось. А, вот, – он открыл папку, – Достоевский, Фёдор Михайлович. Абсолютный, замечу, гений. Я имел честь и счастье его пользовать. Характер у него был дрянной. Верно, оттого и не любили его. И читали невнимательно. А у гениев ведь лишних слов не бывает, согласны? – Он оглянулся на слушателей, вовсе не ожидая их согласия, и вытащил страничку, написанную от руки и всю исчирканную разноцветными пометками. – Хрестоматийная вещь, «Преступление и наказание», я бы ее в гимназию рекомендовал, будь моя воля. – Бехтерев отставил подальше страничку и замолчал, читая текст про себя.
– Про трихинов, – шепнул Мокиевский, чуть наклоняясь к Бокию.
– Да, именно про трихинов, – услышал и живо повернулся к ним Бехтерев. – Но никто еще медицинской оценки не давал этой цитате. Вот послушайте, я тут кое-что пометил, отчеркнул для дальнейшего обсуждения, вот-вот-вот: «Весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей». Интересно, Павел Васильич, а? Как врачу? И далее: «Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований», – Бехтерев оторвался от текста. – Это же готовый диагноз, Павел Васильевич! И абсолютно новый взгляд на проблему психиатрии: микробная теория!
– Не верю я в это! – вставил Мокиевский. – Внушение, массовый гипноз – возможно…
– Эффект толпы, феномен массового безумия?
– Ну не микробы же!
– Голубчик, откуда вам известно, как передается психоз? Знаем, что передается, знаем, а вот как – загадка! Нам хочется, чтобы по-новомодному все было, через электричество, через флюиды, волны магнитные. А вот гений написал – микробы! Почему бы не прислушаться? – Он снова поднял текст: «Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга, всякий думал, что в нем одном и заключается истина, и мучался, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе… Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше…» – Бехтерев оглянулся на слушателей: – А? Каково?! – Он вдруг приложил палец к губам. – Не будем сейчас discutere заводить. Важно понять, что определение «революция» – чушь! И другое: бесовщина или болезнь?
– Или и то, и другое!
– Возможно! – Бехтерев кивнул, принимая от Бокия полную рюмку. – Я бы предпочел бесовщину! – Он выпил и зажмурился. – Тогда они в самом скором времени вцепятся друг в друга и сожрут, как мечниковские фагоциты…
– Неплохо бы – поскорее, – хмыкнул Мокиевский.
– Особенно скоро не ждите, – Бехтерев спрятал страничку в папку и сунул ее в стол. – Вы же сами с многоуважаемым Глебом Иванычем столько лет иммунировали страну, революционные прививки делали…
Бокий с интересом смотрел на Бехтерева – оказывается, он был в курсе его подпольной деятельности?
«Делоне-Бельвиль» довез Бокия до подъезда общества «Россия» и, мягко вякнув клаксоном на прощание, развернулся на площади перед храмом.
«В одном, пожалуй, старик Бехтерев ошибся, – подумал Бокий, проходя мимо часового, – эти мечниковские фагоциты уже начали свою работу».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































