Текст книги "Опыт № 1918"
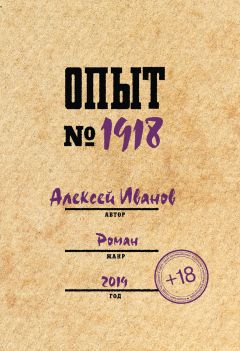
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 17
Пётр Иванов, телефон которого оставил старик Иваницкий, действительно оказался сослуживцем Сеславинского по автороте. Он приехал на Гороховую на шикарном «Рено», торопливо подхватив Сеславинского у тротуара.
– Спешишь куда-то, Пётр? – Они свернули на бульвар, выехали на Дворцовую и двинулись в сторону Дворцового моста.
– Нет, – усмехнулся Петя, – просто не тороплюсь в вашу контору!
– Думаешь, так опасно?
– Не думаю, знаю! – отозвался Пётр, ловко объезжая извозчиков, сцепившихся оглоблями на самом мосту. – Да и народ не будет зря говорить! А слух такой, что лишний раз мимо вашего дома ходить не следует. От греха подальше.
Пётр совершенно не изменился: всегдашняя шоферская кожаная куртка, крепкий, улыбающийся. Бывший зампотех (заместитель по техническим вопросам) командира автороты вел свой «Рено» уверенно, срезая углы и прибавляя газу на выезде из виража.
– Неужели до сих пор гоняешься? – Сеславинский имел в виду автогонки, в которых Пётр отличился еще в 1914 году, участвуя в соревнованиях от «Нового Рено».
– В этом году не удалось. – Они проехали Биржевой мост и свернули на Мытнинскую набережную. – Автомобили реквизуются. Никто не хочет рисковать, высовываться.
– Не надоело?
– Александр Николаевич, – засмеялся Петя, – я же ничего больше не умею делать! Только ковыряться в машинах да на них ездить. Помните, у меня невеста была, Надежда? Так вот я на ней женился. А она и говорит: Петя, от тебя всегда пахнет то бензином, то маслом, то вообще какой-то дрянью. – Они мчались по Кронверкскому проспекту, Петя время от времени жал на клаксон, пугая извозчиков. – А я ей говорю, Надя, мол, автомобили нас кормят и поят, ты уж потерпи! А теперь она сама, – Пётр весело глянул на Сеславинского, – к нашему делу пристрастилась. Я ей дал мотор вести от Лахты почти до Сестрорецка. Так теперь отбою нет – когда поедем? И бензином не воняет!
– Петя, а ты чего меня вдруг на «вы» начал называть? Мы ведь когда-то даже на брудершафт пили? А то мне тоже придется тебя Петром Алексеевичем величать!
– По нынешним временам, – усмехнулся Пётр, – сразу и не поймешь, кто есть кто. Не так давно мы собирались, бывший «Санкт-Петербургский Автомобиль-клуб», пришел к нам на встречу какой-то комиссар, неизвестно откуда, принялся командовать. А наш знаменитый водитель, организатор гонок, судья граф Василий Павлович Всеволожский ему: «Не могли бы вы выйти вон, месье!» – тот уж больно разошелся. Комиссар в ответ: «А вы кто?» Всеволожский удивился – его каждый автомобилист знает: «Я граф Всеволожский!» Тот: «Бывший граф Всеволожский!» Всеволожский говорит: «Это когда вас выгонят с вашего поста, вы будете бывший комиссар, а я, даже если меня расстреляют, все равно буду граф Всеволожский. Бывших графов не бывает!»
По Кронверкскому проспекту выехали на Каменноостровский, срезали угол и мимо мечети, мимо особняка Кшесинской свернули на Большую Дворянскую, только что переименованную в улицу Деревенской бедноты.
– Неймется этим вождям, – кивнул Пётр на особняк, – то Дворцовый мост в Республиканский переименуют, то Дворянскую в улицу какой-то срамоты, так ее рабочие именуют. – Он притормозил, пропуская ломовика, груженого бочками: – Это в наш кооператив селедки везут! – и вякнул клаксоном, приветствуя кучера.
– Вот и хозяйство мое, – Пётр свернул с набережной в переулок, въехал в ворота, распахнутые сторожем, и остановился возле открытых ворот цеха.
Сеславинский помнил «Новый Рено» шестнадцатого года. Тогда ремонтировали несколько машин автороты. Сеславинского поразила чистота цеха и какая-то не сразу объяснимая, но видимая разумность того, что в цехе происходило. Аккуратные рабочие в серо-синей форменной одежде не слонялись по цеху, не болтали, не перекуривали – каждый был занят своим делом, но по коротким сигналам, свисткам, негромким звоночкам было ясно, что все они – и те, что возились, собирая авто, и те, вдали, у станков, и те, высоко наверху, управляющие краном, – все они делали одно дело. И сам процесс, разумная достаточность его, им нравилась. Так с удовольствием рубят, ладят избу плотники. Быстро, ловко, обмениваясь короткими взглядами и короткими же словами, понятными только им.
Тем разительнее была перемена в сегодняшнем цеху. Машин на сборке не было, отдельные рабочие, перекрикиваясь под гулкими сводами, тащили куда-то листы железа, матерясь и грохоча на проржавевших рельсах колесами кривой, однобокой тележки. В конце цеха вспыхивал огонь ацетиленовой сварки, и сизые голуби метались под решетчатыми сводами с выбитыми кое-где стеклами.
Они поднялись по металлической лестнице, прошли мимо клетушки мастеров по переходу – в заводоуправление.
– Вот такое теперь хозяйство мое, – повторил Пётр.
– Я думал, что автозавод на подъеме, – Сеславинский присел возле стола, рассматривая макет – сияющую лаком машинку.
– Последняя модель, – пояснил Пётр, – должны были в семнадцатом году запускаться. А насчет того, что мы на подъеме…
– Автомобили всем нужны, все стонут…
– Стонать-то стонут… – Пётр поднял зазвонившую трубку: – Иванова? Его сегодня не будет. Вызван в Смольный. Кто говорит? Мастер цеха! Как фамилия? Сидоров! – и, смеясь, положил трубку на рычаги. – Вот один из тех, что стонут. Все хотят бесплатно, хотят реквизировать. Я уж за свои деньги охрану поставил. Помнишь, в бронебойной роте был симпатичный такой парень, тоже гонщик. Из латышей. Смилга. Так вот его брат, оказывается, какой-то крупный большевик. Через него удалось взвод солдат заполучить на завод. Причем – только за харчи. А без охраны – то и дело: «Гони машину именем революции!» А чуть что – к стенке!
– Пётр Алексеевич, может быть, чаю? – в кабинет заглянула строгая барышня.
– Благодарю, может быть, позже, – Пётр кивнул в сторону вышедшей барышни. – Среди служащих еще удается кой-какой порядок поддерживать. А с рабочими – швах! Глотнули свободы – и конец порядку.
Экскурсия по руинам Акрополя, как не без изящества выразился Пётр, была впечатляющая. От завода остались два небольших стенда, на которых ремонтировались автомобили.
– Это все, что удалось сохранить, – они сидели уже в столовой. – Все, что можно было спереть – сперли, сломать – сломали, продать – продали. Я, когда пришел на завод, за голову схватился.
Однако «за голову схватился» Пётр неплохо: создал свой кооператив, с магазином и столовой, наладил поставку от немецких колонистов со Средней Рогатки мяса и овощей в обмен на транспорт. На харчи же выменивал на Обуховском заводе металл, на верфях – краску, сдавал заводские авто в аренду. Словом, завод почти выживал…
Сеславинский принялся рассматривать фотографии на стенах кабинета.
– Это что за гонки, Пётр?
– Десятые гонки. 6 мая 12-го года. Во-он финиш, видишь? Это километрах в полутора от станции Александровская. Буфет, оркестр, к финишу на нанятых таксомоторах гостей подвозили. На специальных площадках больше ста автомобилей стояло! А судьей на финише был как раз Василий Павлович Всеволожский, про которого я рассказывал. А вот стоят Нагель, барон Дидерикс…
– Ты ведь тоже в гонке участвовал?
– Да, там были четыре водителя из первой автомобильной роты. Но не очень удачно выступил. Не было времени на подготовку машин. Ну и скорости у военных машин послабее. Тогда Меллер, вон он стоит, в шлеме, разогнался на сто тридцать три с половиной километра. Я и в одиннадцатых гонках участвовал, – Пётр показал на соседнее фото. – Я вот тут, за каким-то иностранцем. Тогда экипажи из Германии, из Франции, из Австрии участвовали, итальянцы, испанцы, бельгийцы. Даже американцы прибыли. А победил наш – Солдатенков. Между прочим, на «Рено» нашего завода. И с приличной скоростью, под сто сорок километров! А вот гонка, где я победил! – Пётр даже засиял, словно победил только что. – Вот тут уж меня видно, приз вручают. Я тогда на «Руссо-Балте» гонялся. Движок – тридцать сил. А скорость – рекорд для русской машины. Сто двадцать девять и семь километра! Почти сто тридцать!
– Уж говорил бы стазу – сто тридцать, – засмеялся Сеславинский.
– Нет, – серьезно сказал Пётр, разглядывая другое фото. – В рекордах врать нельзя. А вот, видишь, немец – чемпион Франц Хернер, рядом с Римской-Корсаковой? У нее был «Русский рекорд для дам» – сто одиннадцать километров. А у него двести два и одна десятка! Мы его гоночный «Бенц-82-200» чуть ли не на руках несли! Движок – двести сил! Двести сил! – Пётр даже замер, как бы вслушиваясь в божественное сочетание слов «двести сил». А у меня, – повернулся он к Сеславинскому, – тридцатка!
– Неужели всё помнишь: какая скорость, сколько сил?..
– Да меня ночью разбуди, спроси, на какой машине 14 мая 1913 года ехала Римская-Корсакова, я, не открывая глаз, отвечу: «На «Воксхолле!»
– Невероятно!
– Ну да, – не без гордости кивнул Пётр. – Моя жена Надя меня сумасшедшим называет, – он поднял трезвонившую трубку. – Пётр Иванов слушает! – Он послушал голос в трубке и прикрыл ее рукой: – Саша, пошутить можно?
Сеславинский пожал плечами.
– Да-да, – любезно сказал Пётр в трубку, – конечно приезжайте. Только поспешите, у меня как раз Чека работает. Изымают документы и последние машины реквизируют!
Трубка помолчала и отозвалась гудками.
– Не сердись, что я Чеку вспомнил! От звонков покоя нет! – он поманил Сеславинского. – А за это я тебе и вправду машину подарю! – он распахнул дверь, прогремел по металлической балюстраде и свесился через перила вниз. – Во-он стоит в углу, видишь?
В углу был свален какой-то автомобильный хлам, прикрытый рогожами.
– Ты не смотри, что развалина, – Пётр смеялся, очень довольный собой. – Это специальная маскировка, чтобы желающих реквизировать не было. Авто – супер!
Они спустились в цех и подошли к машине. Пётр достал откуда-то кусок ветоши и провел по грязному, запыленному крылу. Сверкнул черный, матовый лак.
– К завтрашнему дню соберем, помоем – век вспоминать меня будешь!
– Ты серьезно, Петя? – растерялся Сеславинский.
– Конечно! Я хотел Всеволожскому подарить, но он отказался. Не желает с этим государством ничего общего иметь. А тем более подарки принимать. Так и сказал.
– А как ты мне машину передашь?
– Да отдам! Я все не знал, куда её пристроить. Хоть объявление пиши: «Отдам котика в хорошие руки!»
– У меня же денег нет, чтобы авто приобретать!
– Ты с ума сошел, что я, другу машину продавать, что ли, буду? – обиделся Пётр.
– А как же?
– Да ты пойми, ее у меня все равно не сегодня-завтра реквизируют. Слышал звонки по телефону? И так каждый день! То из Смольного, то из военного комитета, то вообще черт знает откуда! И все – именем революционного пролетариата!
В конце концов роскошный «Рено», отмытый, вычищенный и сверкающий желтой кожей сидений, достался профессору Бехтереву. Тот на радостях сам выучился у Петра водить автомобиль и поклялся по гроб жизни лечить и Петю, и Сеславинского, и всех их родственников. Молодая жена профессора обожала автомобильные прогулки на Взморье. А профессор не знал, что срок «по гроб жизни» окажется для него не столь уж и большим.
Глава № 18
Первой перемену в жизни Сеславинского почувствовала и объявила о ней Марья Кузьминична Россомахина.
– Поверьте мне, Зизи, – сказала она как-то за воскресным чаем, – когда мужчина начинает так сиять, как Александр, исчезать из дома, придумывая случайные объяснения…
– Почему же случайные, Мари? – обиделась за племянника Татьяна Францевна. – Он же служит в полиции…
– В милиции, Таша, – поправила ее сестра.
– Я чувствую это! – с намеком сказала Марья Кузьминична.
– Он ведь не сидит чиновником в каком-то ведомстве, – Татьяна Францевна не уловила намека и положила гостье малинового варенья. – Попробуйте, Мари. Интересно, что вы скажете.
– А по мне, – продолжила разговор Зинаида Францевна, – лучше бы Александр сидел в каком-нибудь ведомстве чиновником. У него ужасно опасная работа, – пояснила она Марье Кузьминичне, – он даже ходит с револьвером!
Зинаида Францевна произнесла это по-старому: «с револьвером».
Однако проницательная Марья Кузьминична оказалась права. К тому же, к расстройству своему, вскоре получила и подтверждение подозрениям: Сеславинский пришел к ней после продолжительной паузы в свиданиях и едва ли не от двери сообщил, что это будет их последняя встреча.
С Марьей Кузьминичной, признаться, расставались не раз. Уходила она, уходили и от нее, и даже бросали, но редко кто из мужчин находил мужество для прямых слов: без объяснений, без сантиментов, честно. Всякий раз это было ужасно. Уж лучше бы лукавили, хитрили, тянули, оставляя хоть маленькую щелочку для луча надежды. Сеславинский щелочки не оставил.
Что же? Спасли Марью Кузьминичну два обстоятельства: первое – она уже побывала в лаборатории Бехтерева, была принята на службу и, кажется, понравилась профессору. Во всяком случае, его взгляд, медленный взгляд мужчины – от ног до цветочков на шляпке, – говорил о многом. И второе: в этот день она собиралась в Мариинку на «Мефистофеля» Бойто. Пел Шаляпин, и пропустить этот спектакль было невозможно. Не то чтобы Марья Кузьминична была особой поклонницей Шаляпина, нет. На ее вкус он «пел слишком громко», но в театре была назначена встреча с Розочкой Файнберг. Та пела в Мариинке под псевдонимом Горская. А любовник Розы, совершенно обалдевший от страсти дипломат-француз, привозил ей пудру «Coty». Правда, Розочка допускала, что жмот – француз дарит ей не «Coty», а польскую подделку, но пудра была недурна.
Марья Кузьминична подошла к зеркалу, поправила ресницы, припудрила (все-таки «Coty», «Сoty», это чувствуется!) чуть покрасневший носик и отправилась к выходу. К этому времени дворник Адриан уже должен был приготовить коляску.
Огорчения огорчениями, но Марья Кузьминична была благодарна Сеславинскому. Ведь это он спас ее от ужасного Микулича, который пытался втянуть ее в свои грязные дела. Случилось так, что несчастная Марья Кузьминична, заметавшись в поисках управы на пьяницу – домкомбеда, грозившего вселить в ее квартиру семейство дворника-татарина, познакомилась (через Розочку Горскую) с Микуличем. Что оказалось еще хуже: Микулич, выставив домкомбеда, сделал квартиру явкой для чекистов. Марья Кузьминична знала, как надо отходить от отчаяния. Она заглянула в кафе, бывшее «Доменик», где когда-то подавали под водочку дивные кулебяки, выпила какую-то разбавленную и подкрашенную дрянь, добавила, чтобы чувствовать себя уверенно, и, выходя на Невский, почти столкнулась с Сеславинским. Это была удача, потому что Марья Кузьминична, кажется, недооценила крепости подкрашенного напитка. И тут же рассказала ему о своих несчастьях.
– Я на грани сумасшествия! – шептала Марья Кузьминична театральным шепотом, прижимаясь к руке Сеславинского мягкой грудью. – Я не знаю, что они там делают, но однажды, когда я пришла домой, там были следы крови! Сашенька, я на грани сумасшествия! Это счастье, что я на вас наткнулась! Сашенька, это провидение!
Через полчаса они уже сидели в уютной квартире Марьи Кузьминичны на Большой Морской. Марья Кузьминична оказалась радушной хозяйкой. Хотя и призналась, что в доме у нее пусто. Пришлось зайти в магазин, известный обоим (УГРО и ЧК – в двух шагах), и купить (по знакомству, только из уважения к вам, чухонский контрабандный товар!) кружок колбасы, кусок масла («Боже, я не видела масла уже год! Сашенька, вы кудесник!»), горячих булок и даже полбутылки какого-то страшного пойла, которое хозяин именовал «чухонской наливкой». На столе мигом засвистел малюсенький кофейничек, подогреваемый спиртовкой, горячие булки с колбасой («Сашенька, это праздник, вы устроили мне праздник!») перебили стойкий запах французских духов, которым была пропитана квартира. И страшная «чухонская наливка», сладкая до приторности, показалась Сеславинскому замечательной. Марья Кузьминична, извинившись, переоделась, вышла «по-домашнему», но поправила прическу и, как отметил Сеславинский, слегка подвела глаза. Это необыкновенно понравилось и странно взволновало. Марья Кузьминична зажгла небольшую керосиновую лампу с затейливым абажуром цветного стекла, стоявшую на боковом столике, и свечи на столе. Комната сразу стала меньше, уютнее, старинная мебель красного дерева приобрела таинственный черновато-красный отблеск и приблизилась к столу. Марья Кузьминична покрутила рукоять граммофона, замершего чуть в стороне, будто ожидая команды, и по комнате поплыло модное немецкое танго.
– Выпьем на брудершафт, – сказала вдруг Марья Кузьминична, подсаживаясь вплотную к Сеславинскому. – И если вы меня хоть раз еще назовете Марьей Кузьминичной, я вас убью! – она приблизила к нему ярко-красные, густо накрашенные губы и медленно-медленно поцеловала. Губы пахли сладким запахом сада, цветов лимона – такой запах Сеславинский слышал только единственный раз, в детстве, когда они были в Никитском саду. Тогда он чуть не потерял сознание от сладкого лимонно-цветочного аромата. Маме пришлось даже подхватить его под руку. Сейчас мамы не было. Были только мягкие, подрагивающие, податливые губы, раздвинувшиеся, чтобы он мог целовать и целовать их, нежные руки, обхватившие его голову, и танго, которое пел высокий, страстный голос.
– Пойдем танцевать, – чуть с хрипотцой сказала Марья Кузьминична, Сеславинский встал, обнял ее и понял, что уже не сможет выпустить из рук гибкое, плотно прижавшееся к нему тело. Без каблуков она оказалась значительно ниже, чем на улице, доступнее и беззащитнее; в темноте, когда она прерывала свои поцелуи, вспыхивали глаза. – Сашенька, мы сошли с ума… – Как я люблю молодых мужчин! – сказала она быстро. – Какие мускулы, руки, все мощно, крепко… – и, глядя в глаза сумасшедшими темными вишнями, опустила руки вниз, она обхватила его ягодицы и прижала к себе. – Как я тебя чувствую! – она принялась лихорадочно расстегивать его френч, широкий офицерский ремень, и непрерывно шептала…
– Что вы, мальчишки, сопляки, находите в женщинах? Набор стареющих округлостей, дряблые сиськи, живот, дрожащий как студень… Все должно быть стальное, мощное… – она вдруг остановилась, попав рукою на шрамы вдоль спины, замолчала и резко повернула его. – Что это, Саша? – и зарыдала, прижимаясь мокрым, горячим лицом к его шрамам, целуя и гладя их, словно стараясь стереть, расправить, как женщины заботливо разглаживают складки на только что застеленной кровати или на белье, приготовленном для утюга. – Сашенька, что они сделали с тобой, сволочи, что сделали эти суки… – она ругалась, растирая шрамы с такой неожиданной силой, что стало больно, но Сеславинский, совсем потеряв голову, терпел эту сладкую боль и слушал, слушал ее голос, как голос сирены. Слушал и не мог даже повернуться к ней, будто она лишила его и сил, и воли.
Ночью, когда немая желтая луна расчертила на паркете полосы света, он услышал, как она пошевелилась, потерлась о его плечо и сказала, не поднимая лица:
– Я старше тебя на двенадцать лет… – мягкие губы шевелились на плече и нежно щекотали его. – На двенадцать лет и целую жизнь…
– А я – на целую войну, – Сеславинский растворялся в нежном женском тепле, исходившем от каждого прикосновения ее тела.
– Не хочу об этом, боюсь, начну плакать, – она умолкла, Сеславинский чувствовал на плече ее ресницы.
Она тихонько рассмеялась:
– Когда тебе было лет семь-восемь, я уже целовалась с твоим папенькой! – Сеславинский чувствовал на груди, на животе ее крепкую, горячую ладошку. – У меня была шальная мысль – его соблазнить. Он ведь был однолюб… И все время держал твою маменьку за руку… – она приподнялась на локте, приблизив к нему лицо. – Зато я соблазнила тебя… но я тебе не помешаю, не бойся! – быстро-быстро зашептала она. – Я не буду тебе мешать, я буду рядом, пока ты позволишь… Мне страшно, Сашенька, страшно по-настоящему… Я же еще не стара, я могу любить, меня могут любить, а я чувствую себя, как раздавленная лягушка на дороге… Я хочу жить, просто жить, ведь я же ни в чем не виновата… Я даже не спала с этим… с Микуличем… Сашенька, он страшный человек… я его боюсь…
Утром Сеславинский по просьбе Марьи Кузьминичны обследовал квартиру, обнаружив несколько ловко замаскированных дырок и оконцев – прослушек. Возле одного, из комнаты рядом со спальней, стоял стул, и в углу была прислонена фотографическая тренога, явно лишняя в этом доме. Марью Кузьминичну это не особенно смутило, она была по-утреннему свежа, легка и порхала по комнатам, напевая что-то.
– Маша («Маша» после «Марьи Кузьминичны» было непривычно и чуть неловко), ты бы оставила себе колбасы, масла, – Сеславинский смотрел, как она изящно и ловко сервировала стол.
– Плевать, – она чуть прищурилась в его сторону, – сегодня еще наш праздник. Будем пировать! – Марья Кузьминична, услышав телефонный звонок, легко повернулась и вышла в коридор, к телефону.
– Да, слушаю! Алло, барышня, я у аппарата! – услышал Сеславинский через неплотно прикрытую дверь.
Она вернулась после короткого разговора с потухшим взглядом и сразу постаревшим лицом.
– Микулич? – поднял брови Сеславинский.
– Да, – кивнула она, не глядя в его сторону. – Звонил со станции, судя по переговорам телефонных барышень. Какая-то там Вишера, я не поняла.
– Что сказал? – Огонек спиртовки под кофейником заколебался, словно на него дунули.
– Сказал, – Марья Кузьминична внимательно смотрела, как кофе льется в тончайшую фарфоровую чашку, светящуюся на солнце, – сказал, что даже если я переспала с тобой, то наши с ним договоренности остаются в силе.
– Уже донесли, – усмехнулся Сеславинский. – Не зря про них ходит анекдот: «друг не дремлет». Ты подписывала какие-нибудь бумаги?
Она кивнула, по-прежнему не глядя на него.
– Это хуже, но не смертельно! Микулич не самая большая птица.
Огонек спиртовки снова затрепетал, напомнив колеблющиеся огоньки светильников-коптилок в землянке под Горлице, когда кто-то откидывал передний полог на входе. Он резко встал, бросился к двери и в два прыжка ворвался в соседнюю комнату. В ней, возле треноги, возился мальчишка гимназического вида. Увидев Сеславинского, он закрылся рукой, как закрываются дети, но Сеславинский вдруг с каким-то сладким чувством, будто этот жалкий гимназист был виноват во всем, во всем, ударил его с ходу, с размаха, как когда-то ударил, ворвавшись в окоп, пожилого немца, державшего в руке штык – нож, как держат свечку. Немец охнул и осел, тупо глядя в светлое, ни облачка, небо. А гимназист, так и не выпустив треноги из рук, полетел в угол, обрушив на себя японскую ширму и каминный экран.
– Он давно здесь? – Сеславинский вернулся в гостиную.
Марья Кузьминична сидела, опустив локти на стол и закрыв лицо руками.
– Не знаю, – сказала устало, не отрывая ладоней от лица. – У них свои ключи, я не знаю, когда они приходят.
– Их несколько? Они – разные? – Сеславинский повернул ее голову к себе.
– Да.
Он сел рядом.
– Маша, родная, надо избавиться от этого кошмара, я тебе помогу.
Сеславинский почему-то припомнил смуглое, словно загорелое лицо Бокия. Его как-то вовсю крыл Микулич. Но и без того Бокий, которого Сеславинский чаще видел издали, казался ему самым приличным в этой компании.
– Сегодня же пойдем, я отведу тебя к начальнику Микулича, напишешь заявление, скажешь, что у тебя нервное перенапряжение… Что-нибудь придумаем! – он боковым взором увидел, как опухает ладонь, на которую он опирался. Точно так же, как тогда на фронте. «Неужели опять сломал косточку?» – подумал Сеславинский, обнимая Марью Кузьминичну.
Бокия они встретили в коридоре ЧК. Он шел, как ходит по клинике модный профессор: быстрым шагом, опережая восторженных и озабоченных вниманием мэтра учеников.
Тем не менее остановился, перехватив взгляд Сеславинского:
– Ко мне?
И тут же уловил суть вопроса.
– Не надо подробностей, – улыбнулся он сникшей Марье Кузьминичне. – Ваша профессия? – И поняв ее молчание: – Языки знаете?
– Французский, немецкий, итальянский хуже, я просто жила в Италии…
– Отлично, – Бокий вдохнул, поднимая высоко подбородок. – А лабораторные пробирки мыть сможете? Профессор Бехтерев ищет интеллигентную лаборантку.
– Конечно!
– Денег у него не будет, – Бокий снова глубоко вдохнул, – но паек академический профессор даст!
И Сеславинскому:
– Поезжайте прямо сейчас, я позвоню профессору. Спросите доктора Мокиевского и сошлетесь на меня! – Он кривовато улыбнулся Марье Кузьминичне и зашагал по коридору, сопровождаемый топотом «учеников».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































