Текст книги "Опыт № 1918"
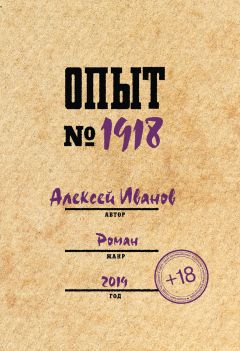
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 46
– Я, батюшка, всегда беспокоюсь, когда ты служишь на Пороховом заводе! – Елена Николаевна, жена протоирея Философа Орнатского, сняла теплую стеганую покрышку-бабу со старинной супницы. Так было заведено в доме, что суп всегда разливала она сама.
– А что беспокоиться? – удивился о. Философ.
– Ну как же, батюшка, завод-то пороховой, неровен час искра где проскочит, упаси Господи! – она меленько перекрестилась на угловой киот.
– Да полно, матушка, завод двести лет стоит – и ничего! – Сыновья Орнатских, Николай и Борис, сослужившие о. Философу в храме Ильи Пророка на Охте, сидели возле отца. Они уже успели переодеться, и сходство их с отцом стало менее заметно. Хотя, как говорил о. Философ, называй не называй лысину высоким лбом, а уж Господь наградил нас всех лысиною как знаком семейным.
– Пожары и взрывы бывали, конечно, – поддержал разговор Борис, – но храм, матушка, к заводу отношения не имеет.
– Имеет, не имеет, – вздохнула Елена Николаевна, – а всякий раз, как батюшка туда служить едет, у меня сердце болит!
– И сегодня? – о. Философ поднял голову.
– Сегодня особенно! – Матушка наклонилась к нему, и он поцеловал ее в щеку. – Я уж даже молилась о вас, вот Лида не даст соврать!
– Да, мы все помолились! – покивала Лидия Николаевна, сестра матушки. Со дня гибели своего мужа, протоиерея Петра Скипетрова, зверски убитого в Лавре в январе этого года, она жила у Орнатских. Благо большая квартира позволяла разместиться в ней многочисленному семейству. Квартира была казенная, во время войны о. Философ перебрался с семейством в меньшую, а в этой обосновался госпиталь. Больничный дух, говаривал о. Философ, все никак не мог выветриться из квартиры.
– Молитва лишней не бывает! – перекрестился о. Философ. – В наше-то время.
– Трудно, батюшка, определить, что такое наше время, – заметил Николай.
– Согласен, – кивнул о. Философ. – Ваше время от моего существенно отличается. В юности я сам сочувствовал социалистам. Были даже идеи уйти в революцию.
– Вот это новость! – изумился младший, Борис.
– Объяснение простое, – о. Философ намазал кусок хлеба горчицей, виновато поглядывая на жену. Горчица была ему запрещена: язва желудка. – Как Некрасов написал, «кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей». Так и я – кругом несправедливость, бедность… что бедность – нищета! Девятнадцатый век, а люди с голода пухнут, при лучине живут… Ну и книги, конечно, литература… Белинский, Некрасов, Добролюбов… Я Писарева особенно любил. Да ведь многие эти люди народными умами владели… Салтыков все хотел слово свое сказать. Я, кстати, на похоронах его был. Сколько людей задумывалось о счастии народном… Помню, как меня Михайловский поразил. Какая ясность ума, какой язык… Костров, Успенский, Решетников, Помяловский, Слепцов… Да вон, посмотрите в библиотеке, – о. Философ по-старому делал ударение на «о», – без моих пометок, думаю, ни одной книги нету.
– Получается, писатели и журналисты к топору звали?
– Самая мода была Русь к топору звать! – поддержала мужа Елена Николаевна.
– Понятно, что дальше народ так жить не может, до крайности доведен. При всем русском терпении. А что делать, где выход? И сразу же появляются люди, которые выход видят. Главное – соблазнительно простой и быстрый. Одна теория за другой возникают. Оказывается, философы давно уже этот путь увидели, просветители, и французские, и свои, доморощенные, его предсказали. Осталось – что? Разрушить препятствия, которые на этом пути есть. И главное препятствие – царь, император.
– Самодержавие? – уточнил Борис.
– Самодержавие легко персонифицируется. Царь – вот общая беда. И богатых, и бедных. Для всех нехорош. И что ни сделает царь, все плохо, все под свист разночинцев. Под хохот тех, кто называется теперь интеллигенцией, под газетные заметочки с ядом. А для молодых людей, умом и знанием пока что не обогащенных, этот присвист, и смешки, и яд газетный – особый соблазн. Кажется, что ты и умнее других, и к прогрессу ближе, и сам себе оттого все больше нравишься.
– Это плохо разве, батюшка? Это нормальная болезнь каждого поколения!
– Я так скажу, Николай: одни болезни лечатся, другие – нет. Есть заразные, вроде чумы, тифа, туберкулеза. Еще – тысячи и тысячи. И угадать, какой болезнью заболело общество, – сложнейшая задача, может быть, без воли Божией неразрешимая. Скорее даже не задача, а можно сказать – цель. Но времени молодые люди не дают, у них же – соблазн. Неудержимый, как, извините, чесотка. И зараза легко передается, это я могу, опираясь на свой опыт, доказать.
– А разве сейчас…
– Подожди, – остановил младшего сына о. Философ. – До сейчас тоже дойдем.
– Но что же делать, батюшка? – не выдержала, поторопила младшая дочь, Лизанька.
– От болезни опять оттолкнусь. – О. Философ легонько постукивал столовым ножом по краю тарелки, – это, все знали, было признаком волнения. – Что главное в лечении? – Он помолчал. – Диагноз, верно? Смертельная болезнь? Заразная? Или детская краснуха? Тут и нужны лекари – чтобы диагноз поставить. И вдруг выясняется, что вместо лекарей – те же мальчики, только состарившиеся и переносящие эту болезнь еще тяжелее, чем молодежь. Но ведь они умны, скажете вы. Да, умны! Образованны? На зависть! Разве Герцена можно назвать неумным, необразованным, неталантливым? Да у него язык – после Пушкина – лучший в русской литературе! И ум блестящий! А Михайловский?! И слушать его было, и читать – наслаждение!
– Батюшка, ты не горячись, – Елена Николаевна обняла мужа, не замечавшего, что говорит громко, как с амвона и кафедры.
– Спасибо, душа моя. – О. Философ поцеловал ее руку. – Умных, талантливых, смелых до отчаянности людей на Руси всегда много. Но есть какая-то общая болезнь у нас, русских… – Он помолчал минуту – Фёдор Михалыч, конечно, гениально сказал относительно русских мальчиков, которым нельзя давать карту звездного неба, ибо к утру вернут исправленной. Цитирую, может, неточно, но по духу – верно. Но, как гению и положено, сказал Фёдор Михалыч с загадкой. Вроде как – красота спасет мир. И пошли трепать, кому не лень. Мне тут дьякон принес газету полюбоваться. Там: красота спасет мир, покупайте – и так далее. С портретом красавицы для ясности. Вот и с русскими мальчиками и русскими учителями…
– Батюшка, после Достоевского и Чехов был, и Андреев…
– Мы, Коля, не о литературе, сейчас, а о характере русского народа, если хочешь. Так вот, тогда, в моей молодости, не нашлось подлинных лекарей, которые распознали бы болезнь. Может, они и были, но лже-лекари всегда горластее… И я, грешный, в соблазн впал. Если бы не несчастье – покушение на императора Александра Николаевича. Я был на набережной, видел следы крови царя-мученика. И эта кровь святая меня разом излечила. Раз – и навсегда. Я понял, что эти люди, которые, как им казалось, ведут других к свету, поражены страшным недугом. Безбожием. Подпали полностью под соблазн, под власть дьявола. И решили, что они сами могут вершить судьбы народов. Грех гордыни обуял.
– Грех безбожия тоже не сам собою образовался!
– Конечно же! – подхватил о. Философ. – На церкви огромный грех, огромная вина. Не должны быть у церкви чаши золотые, а попы – деревянные. «Не можете служить Богу и Мамоне!» – это у Матфея сказано. У церкви и государства задачи – разные. Где-то они совпадут, но это частное. Церковь должна о душах человеческих радеть! Отсюда, не к ночи будь помянуто, и обновленчество проклюнулось. Но сейчас, слава Богу, – о. Философ истово перекрестился в угол, – патриарх на Руси народился. Церкви нужен пастырь. А Святейший – и совесть церкви, и пастырь ее. – Он перекрестился еще раз.
– В нелегкое время он пастырство принял, – сказал Николай.
– Для пастырей легких времен не бывает, – улыбнулся о. Философ. – Это тяготы и обременения огромные, но и счастие какое: вести народ, паству из тьмы – к свету.
– Я слышала, его хотели арестовать? – спросила Лидия Николаевна. – Неужели рука поднялась у безбожников?
– На допросы вызывали, я знаю, – повернулся к ней о. Философ. – А относительно того, поднялась ли рука, так им ведь, бесам, святое тронуть – самое удовольствие. Сейчас по декретам правительства, по закону, святая вера и Церковь Православная признаются отжившими учрежденьями. А поставляются на место вечных начал христианской жизни какие-то начала социализма. Так вот я с церковной кафедры проповедую, что социализм есть идейно обоснованный грабеж! Ясно, что социализм христианству враг, он не признает неба и будто бы хочет устроить рай на земле. Но мы-то уже знаем, во что обращаются украденные из христианства святые начала: свобода, равенство и братство!
– Батюшка, потише, не греми так! – снова обняла мужа Елена Николаевна. – С такой дискуссией мы до второго не доберемся.
– Права, права, матушка, но, – он повернулся уже к сыновьям, – ныне больше, чем когда-либо, и в России больше, чем где-либо, ясно, что только на основе подлинного христианства можно вернуть народу порядок. Вы посмотрите, какие крестные ходы идут к нашему собору! Сто и больше тысячные! Со всех концов города, со всех застав идут тысячи и тысячи верующих. С иконами, с хоругвями, с молитвой…
– А у нас сегодня на второе – праздник. – Елена Николаевна сняла крышку огромной латки-утятницы. Оттуда пахнуло жаром и пряным духом. – Это игуменья Феофания из Новодевичьего монастыря прислала нам лакомство со своего огорода. Держится матушка Феофания, Слава Богу, держится, – ответила она на вопрошающий взгляд мужа. – Тяготы ей выпадают великие. Она ведь монашкам и насельницам как мать. А как жить, когда все деньги у монастыря изъяли, в покои монастырские заселяют невесть кого, то бывших бродяг из ночлежки, благо что рядом, то целые учрежденья… Дай Бог ей сил! – Все перекрестились.
– Ну, отведаем лакомства матушки Феофании! – О. Философ с удовольствием принялся за тушеную картошку с овощами. – Надо будет ей что-нибудь послать, матушка.
– Пока что у нее с продовольствием неплохо, по нынешним временам. Хозяйство-то огромное было: и коровы, и лошади, куры, индюки, цесарки!.. Хоть и пограбили основательно монастырь, кое-что осталось.
– Они свое хозяйство, – засмеялся о. Философ, – в каком-то комитете оформили не то как артель, не то как трудовую коммуну, – он поблагодарил матушку за обед и спохватился. – Мы ведь на днях собирались на рыбалку с господами офицерами, – он кивнул на сыновей, – вот и подарок ей будет, матушке Феофании, рыбка свежая…
После обеда, до вечернего чая, мужчины перешли в кабинет о. Философа. Протоиерей отдыхать не умел. Он тут же открыл конторку, поудобнее встал за ней и принялся перечитывать свое будущее выступление в «Обществе по распространению религиозно-нравственных знаний», что на Стремянной улице. Тема выступления – «Защита религиозных святынь от разграбления и поругания» – обсуждалась еще с патриархом…
Последними написанными им словами, оставшимися в конторке и сохранившимися случайно, были: «…Все, восстающие на Святую Церковь, причиняющие поругание святой православной вере и захватывающие церковное достояние, подлежат, невзирая на лица, отлучению церковному…»
В эти минуты побледневшая монашка, помогавшая по хозяйству Елене Николаевне, отворила дверь в столовую со словами: «Матушка, к вам пришли!» и пропустила в комнату моряка в клешах с блестящими пуговицами на раструбах и двух красноармейцев.
Так, по телеграмме Свердлова, призывающей ответить невиданным «красным террором» на покушение на Ленина, в тот же день, 1 августа, был арестован выдающийся церковный деятель, митрофорный протоиерей, настоятель Казанского собора в Петрограде Философ Николаевич Орнатский, один из пятисот заложников, немедленно привезенных на Гороховую. Сыновья о. Философа, офицеры, прошедшие Первую мировую войну, вызвались сопровождать отца и своего духовного наставника. И были арестованы вместе с ним.
Дальнейшая судьба протоиерея Орнатского и его сыновей точно не известна. Как и место их захоронения. В ту же ночь всех узников тюрьмы на Гороховой, обреченных на смерть, вывезли на берег Финского залива.
Рассказывают – перед казнью протоиерей о. Философ, успокаивая приговоренных к смерти офицеров, их было более тридцати, среди них – и его сыновья, – произнес: «Ничего, ко Господу идем. Вот, примите мое пастырское благословение и послушайте святые молитвы». Он встал на колени и спокойным, ровным голосом прочел молитвы на исход души.
Венгры-интернационалисты, специалисты по расстрелам, отказались стрелять в читающего молитвы священника. Эту работу пришлось взять на себя одному из комиссаров, сопровождавших обреченных.
Но, возможно, это легенда. Вспомним лишь слова о. Философа, которые он сказал в беседе с патриархом Тихоном: «Это счастье, что мы сподобились жить во время, когда можно пострадать за Христа».
Глава № 47
Сеславинский решил, наконец, оформить документы по переводу в УГРО. С утра, не заходя к себе, он поднялся на второй этаж на Гороховой, 2 и двинулся было в канцелярию, когда один из знакомых чекистов, пробегая мимо, махнул ему:
– Скорее, все уже собрались! – и видя, что Сеславинский смотрит на него непонимающими глазами, прокричал, уже скрываясь за поворотом: – Бокий из Москвы привез обращение ЦК о «красном терроре». Вроде бы Зиновьева ждут!
Сеславинский все-таки ткнулся в канцелярию, убедился, что там никого нет («Все на митинг!» – усмехнулся он), и вошел в зал заседаний, оттянув тяжелую дверь. В задних рядах черкали что-то в срочных «делах» и шуршали газетами, несмотря на строгий запрет на курение, во время собраний кое-кто все же смолил под шумок. Возле стола президиума, за которым сидели Бокий и Козырев, расположился небольшой, в несколько инструментов, духовой оркестр.
Появился Зиновьев в сопровождении двух телохранителей и быстро прошел в президиум. Один из охранников окинул зорким взглядом чуть загудевший зал, второй озирался, косясь на дверь. Переговорив о чем-то с Бокием, Зиновьев поднялся.
– Товарищи чекисты! – Он сразу взял высокую ноту, словно выступал на тысячном митинге. – Коварная рука англо-французских наймитов и выродков из эсеровского гнезда вырвала из наших рядов пламенного революционера, трибуна революции, Моисея Урицкого! Тяжело, но, к счастью, не смертельно ранен вождь пролетариата Владимир Ленин. Наши сердца переполнены гневом, и справедливым гневом, который клокочет и ищет себе выход, товарищи!
Руководитель оркестра встал и, беззвучно продувая свою трубу, искоса поглядывал на Зиновьева, ожидая команды. Но Зиновьев, как известно, коротких выступлений не любил. Спустя полчаса, когда в зале начали подремывать и уже в открытую курить, он вдруг подбежал к передним рядам и крикнул, грозно потрясая пальцем:
– Еще в «Очередных задачах Советской власти» Владимиром Лениным была сформулирована доктрина борьбы, поставившая задачу революционного террора во главу угла! Ленин указал нам, что диктатура есть железная власть, революционно смелая и быстрая, беспощадная в подавлении как эксплуататоров, так и хулиганов. А наша власть – непомерно мягкая, больше похожая на кисель, чем на железо… Никакой пощады врагам народа, врагам социализма, врагам трудящихся. Война не на жизнь, а на смерть! – Зиновьев закашлялся. – Далее! – Он отмахнулся от Козырева, потянувшегося к нему со стаканом воды. – Тринадцатого июня был принят декрет о восстановлении смертной казни. С этого момента расстрел мог применяться по приговорам революционных трибуналов. Кто видел работу этих трибуналов? – Зиновьев пошел вдоль первого ряда, тыча пальцем в сидящих там. – Вы? Вы? Вы видели? Я не видел! – Он, наконец, взял протянутый ему стакан. – За май-июнь восемнадцатого года Петроградская Чека зарегистрировала семьдесят инцидентов: забастовок, митингов, антибольшевистских манифестаций. Участвовали в этих инцидентах преимущественно рабочие. Мне скажут, что «Собрание рабочих уполномоченных», организация-провокатор, которой руководили меньшевики, распущена. Было арестовано более восьмисот «зачинщиков». А я спрошу вас, чекистов, «карающий меч революции», как вас называет Дзержинский: а сколько этих самых зачинщиков расстреляно? Сколько взято заложников? – Зиновьев хлопнул стакан на стол, расплескав воду. – Ленин посылает телеграмму в Нижний, где положение не хуже нашего… – Он начал рыться в карманах, вытаскивая смятые бумажки. – Вот… – Пенсне слетело с носа, он привычно поймал его. – Вот… «Надо напрячь все силы, навести тотчас массовый террор, расстрелять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат, бывших офицеров и т. п. Ни минуты промедления! Надо действовать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия. Массовый вывоз меньшевиков и ненадежных. Смена охраны при складах, поставить надежных!» – Зиновьев поднял глаза на сидящих в зале. – А знаете, как заканчивает телеграмму Ленин? «Прочтите это письмо друзьям, ответьте мне по телеграфу или по телефону». Скажите мне, дорогие товарищи, а я верю, что здесь только товарищи и единомышленники, что я должен ответить товарищу Ленину? О чем рассказать? Чем ответил революционный Питер на кровавый акт террора? Тем, что расстреляли убийцу нашего трибуна Урицкого? Только-то?
– Арестовано больше пятисот буржуев, офицеров… – загудел зал.
– А расстреляно?
– Все пятьсот!
– И в Кронштадте чуть не тысяча!
– Полторы тысячи на революционный Питер – это не цифра! – Он вслушался в гул зала. – Я понимаю вас, знаю, что вы работаете круглые сутки, но где же взять надежных людей? Когда на заводах – волынят, Путиловский и Обуховский – стоят, на Арсенале – митинги! Я не говорю про Кронштадт, там чуть ли не с оружием собрались выставить представителей власти!
«Полторы тысячи расстрелянных – не цифра!» – Сеславинский как бы впервые увидел Зиновьева. Мясистый, с круглой спиной, всклокоченный, со срывающимся на бабий голосом, Зиновьев мотался перед столом какими-то порывистыми побежками, будто пол жарил пятки, и он не мог стоять на месте.
– Пожалуйста, – выкрикивал Зиновьев, – в Нижнем – тысячи! Тысячи, товарищи чекисты! В Орле, в каких-то Ливнах чекисты применили против демонстрации пулеметы, а мы до сих пор не можем решить вопрос с волынщиками! Что я должен сказать товарищу Ленину? Написать – «Питерский пролетариат, питерская Чека бессильны? С комприветом – питерские чекисты»?
Зал перестал гудеть, болтовня Зиновьева наскучила. Мы мотаемся в летучих отрядах, гоняемся за контрой за гроши, за вонючий спирт, а ты нам читаешь мораль? Поучаешь и погоняешь?
Сеславинскому показалось вдруг, что все это сборище – наваждение. Путти, глядящие с потолка, стали вместо улыбок – скалиться. Кто этот суетливый человек, призывающий стрелять и стрелять, чтобы отчитаться перед Москвой? Чью волю исполняет? Что это за пролетариат, который для отчета должен кого-то расстреливать? Кого? За что? Кто требует этот зловещий отчет?
Знакомая медленно-холодная волна бессилия начала накатывать на него. Сеславинский до боли сжал кулаки, стараясь сосредоточиться на побелевших костяшках, чтобы не слышать Зиновьева.
– Революция требует крови! – Зиновьев вскинул руку вверх. – Кровь – горючее и цемент революции! Пролетариат поддержит наш революционный порыв, товарищи! На смерть одного нашего борца мы ответим тысячами и тысячами смертей врагов революции, буржуев и богатеев! Да здравствует красный террор, товарищи!
Сеславинский давно не бывал в ЧК, тем более на общих собраниях. Работа в УГРО не позволяла. Или не было желания заглянуть в эту банку с ядовитыми пауками? Он застыл, слушая Зиновьева, Бокия, гул зала, комментарии (в основном матерные) выступлений и такие же комментарии к комментариям. Его будто сковал паралич, как когда-то, летом шестнадцатого: странная глухота (он все слышал как сквозь вату), невозможность отвечать на вопросы – и при этом абсолютная ясность и четкость мысли, словно кто-то, как позицию противника через визир наводчика орудия, приближал и прояснял события.
Тогда, в шестнадцатом, они с поручиком Чиженко, ловким и оборотистым малым (ценнейшее на фронте качество), лежали в глубокой воронке, покуривали и смотрели в голубое небо, которое медленно расчерчивали несколько наших «фарманов» и немецких «фоккеров». Шел воздушный бой, и за ним наблюдали и наши, и немцы. Все устали от рукопашных и смертей, и наблюдение за воздушным боем, таким далеким и нестрашным, было маленьким развлечением.
– А знаете ли вы, Сеславинский, – Чиженко заслонял глаза от солнца ладонью, – что «фоккер» – единственный самолет, который стреляет сквозь лопасти винта?
– Нет, – лениво ответчал Сеславинский.
– Представьте, там стоит специальный синхронизатор. И пулемет стреляет ровно тогда, когда винт… Вы что, спите, Сеславинский?
– Дремлю… Под ваш рассказ так славно дремлется…
Даже когда с «фармана» вывалился маленький комочек и полетел вниз, Сеславинский и Чиженко не сразу поняли, что это летчик. «Фарман» продолжал еще какое-то время лететь, пока не полыхнул черным дымом – преследовавший его немец все-таки попал. Падающий черный комок на их глазах превращался в человека, размахивающего в воздухе руками, пока не грохнулся где-то неподалеку. «Надо бы сходить, глянуть, что с летчиком», – сказал Чиженко, не выпуская изо рта по-особому смятый мундштук папиросы и щурясь от дыма. При этом он смотрел на Сеславинского взглядом бывалого, лихого солдата, хотя и прибыл в полк позже, и ничем в боях себя не проявил. Это был какой-то особый взгляд – команда, взгляд с прищуром, будто подначивающий: «Ну что, пойдешь? Или мне идти, тебя прикрывая?» И Сеславинский, будто завороженный этим взглядом, выполз из уютной, обжитой воронки и пополз, а потом даже встал и, пригибаясь, побежал в ту сторону, где, как ему казалось, упал летчик. Взрыв сзади грохнул неожиданно, но Сеславинский привычно рухнул на землю, вжался, стараясь стать невидимым, и закрыл голову руками. Свистнули осколки, сыпануло землей, потянуло вонючим пороховым дымом. «Снаряд», – отметил Сеславинский, развернулся и по-пластунски, как вбили в голову в Корпусе, пополз обратно. Земля странно изменилась: несколько секунд назад здесь была веселенькая, цветущая полянка, ползти и бежать по которой было одно удовольствие. Сейчас земля была черно-желтой, с вывороченным брюхом, с опалинами огня и дымящимися, отвратительно смердящими комьями. Обжитая, «наша» воронка разрослась втрое. И на ее краю лежал засыпанный землей Чиженко. Сеславинский потянул его за сапог и вдруг, по его легкости, понял, что это не Чиженко, а отдельная нога его. В начищенном сапоге со шпорой (шпорами Чиженко, кавалерист, гордился). И Сеславинский, как сомнамбула, не слыша и не видя снарядов, встал и принялся собирать Чиженко, прикладывая отдельные части тела, куски к ноге, к более крупной части туловища, будто хотел собрать и восстановить. За этим занятием его и застали батарейцы, приползшие спасать своего командира. В блиндаже его отпаивали чаем и местной водкой, обсуждали, следует ли его направить в тыл, о чем-то спрашивали и печально качали головами, не получая ответа и убеждаясь, что он их не слышит.
Может, это и вправду была контузия? Но Сеславинский благодаря ей вдруг увидел и понял главное, чего не видел до сих пор: весь ужас и всю бессмыслицу войны. И гибели летчика, ватной куклой с болтающимися руками летящего вниз, и лихого Чиженко с папиросой и взглядом, посылающим вперед, и полянку, превратившуюся в горелое поле смерти, усыпанное ошметками человеческого тела, навечно отторгнутыми друг от друга какой-то неземной, дьявольской силой, торжествующе воняющей и дымящей на бывшем поле.
Столбняк, охвативший Сеславинского на том чужом, неродном поле, так никогда и не покинул его. Просто он время от времени отступал, прятался за дымовой завесой текучки, позволяя жить, дышать, делая вид, что ты такой же, каким был всегда. Такой же, как все.
– На белый террор ответим стократным красным террором! – снова вскинул руку Зиновьев.
Бокий, откинувшись на стуле, поверх головы «лавочника» рассматривал из президиума зал: «Лавочник, даже тут он все считает на папенькиных счетах!» А зал? Вот материал, с которым приходится работать. Обленившиеся, тупые исполнители. Разве что один-два человека способны проявить инициативу. Он вспомнил Микулича. Эти московские дураки и вельможи дали Микуличу удрать. Хорошо еще, Барановского с липовыми документами схватили. И уничтожили вовремя. Вообще следует признать, что операцию провалили. Непрофессионалы. Хотя у нас тоже не без сбоев: немцев-стрелков эвакуировали с места покушения толково, через выход на Мойку, а вот Каннегисера следовало бы шлепнуть сразу. Меньше было бы хлопот.
Бокий вскинул глаза, услышав Зиновьевское: «А вот что нам товарищ Бокий скажет?»
«Лавочник!» – опять хмыкнул он про себя и встал.
– Боевые, революционные товарищи! – Бокий придал голосу чуть хрипотцы. – Партия сегодня поднимает нас в атаку. На буржуев, на офицеров, на попов, жиреющих на народные деньги, на всех, кому в голову придет оказывать нам, революционерам, сопротивление. Мы и прежде не отсиживались в окопах, но сейчас прозвучал сигнал, который передал нам товарищ Зиновьев, и по звуку этой трубы мы как один поднимемся в атаку. Чего не хватает нам, товарищи? – Он послушал гул зала. – Нам не хватает революционной организованности и дисциплины. Мы не создали, как намечали, летучие отряды для арестов, мы либеральничаем с заложниками, – Бокий сделал паузу. – А они с нами миндальничать не будут! Они не только убили петроградского трибуна Урицкого, они сделали выстрел в сердце революции, в товарища Ленина! Чем мы ответим? – Бокий любил такие моменты вдохновения. В голове, пока он говорил, складывалась прекрасная, четкая картина действий ЧК. – Аресты, задержания, взятие заложников, расстрелы – все это должно быть систематизировано: аресты – когда и сколько человек должно быть арестовано, заложники – надо отказаться от идиотской системы «брать богачей и уважаемых граждан», заложников надо не брать, а назначать. Заложники – наш гарант от контрреволюционных выступлений. Но надо знать, где их будем содержать, построить концентрационные лагеря. Пусть, кстати, сами их и строят. Расстрелы – отвратительно организовано дело. До сих пор сваливают трупы в ямы, выкопанные во внутреннем дворе Петропавловской крепости. Надо оборудовать специальные полигоны, предназначенные к расстрелам. Пусть сами копают рвы. Одежду расстрелянных следует учитывать, а не давать расстрельным командам растаскивать то, что принадлежит государству! И последнее, если Григорий Евсеевич не захочет сказать вам что-то на прощание, – Бокий долго молча рассматривал зал. Пустые, уродливые, ничтожные лица. Не на ком остановить взгляд. Какие-то брейгелевские уроды. – Товарищи, боевые товарищи! – Он взял паузу. – Революция доверила нам, дала нам в руки оружие, более того, сделала нас – своим оружием. Чем мы ответим партии? Сплотим свои ряды, сомкнем их, ответим железной дисциплиной и беспощадным гневом к врагам!
Зиновьев, конечно же, взял слово после Бокия. Это правильно, точку должен ставить вождь. Слушали его плохо, зал гудел, в последних рядах, чувствуя, что дело к концу, снова закурили. Зиновьев пообещал прибавить жалованье (чего, собственно, от него и ждали) и сообщил, что хлебную норму в Петрограде удалось уже повысить со 120–180 граммов в сутки до 240, а в ближайшем будущем норма эта увеличится еще на 50 граммов.
– Хлеб есть, товарищи! – закончил он. – Но буржуи, кулаки и контрреволюционеры всех мастей придерживают его, прячут, не дают везти в Питер и Москву! Ответим им беспощадным красным террором, товарищи, как призывает нас партия большевиков! Нужно уподобиться военному лагерю, из которого могут быть брошены отряды в деревню. Если мы не увеличим нашу армию, нас вырежет буржуазия. Ведь у них второго пути нет. Нам с ними не жить на одной планете. Нам нужен собственный социалистический милитаризм для преодоления своих врагов. Мы должны увлечь за собой девяносто миллионов из ста, населяющих Советскую Россию. С остальными нельзя говорить – их надо уничтожать!
Люди, собравшиеся в зале, каждый из них в отдельности, а Сеславинский знал многих, были совершенно похожи на обычных, нормальных людей. Они умели смеяться, петь, заводили семьи и ласкали детей. И только сейчас, когда они собрались в старинном зале с пилястрами, лепниной, беззаботными путти под потолком, взирающими на них, Сеславинский увидел, что все они, от истерически дергающегося Зиновьева до последнего моряка, смолившего в кулак, поражены страшным недугом. Что-то отличало их от обычных людей. Как что-то неуловимое отличает домашнее животное от хищного: то ли повадка, то ли посадка головы, то ли особый, быстрый, наглый, уверенный и в то же время осторожный, опасливый взгляд. Но это внешнее отличие их было лишь отражением той ужасной, заразной и поражающей навечно болезни, которая угнездилась в их головах. Мешая видеть, чувствовать, ощущать мир, как все люди, как был он задуман Всевышним. И Сеславинский вдруг спросил себя: «А ты что здесь делаешь? Почему ты здесь? Почему ты свой для них»? Что сказал бы поручик Чиженко, если бы удалось собрать его? Как он смотрел бы на этих людей, призывающих к расстрелам, своим выбитым и висящим на кровавых ниточках глазом?
– А теперь, – Зиновьев махнул рукой в сторону оркестра, – теперь, товарищи, я предлагаю спеть «Интернационал»! – Он кивнул трубачу, тот скомандовал музыкантам, и Зиновьев запел почему-то по-французски. – Debout! Les damnes de la terre! Debout! Les forcats de la faim!
Оркестр чуть поперхнулся, но тут же взревел, перекрывая трибуна.
Тот спохватился и продолжил под нестройную поддержку рядов: «…кипит наш разум возмущенный и в смертный бой вести готов. Ве-есь мир насилья мы разрушим до основанья, а затем…»
Сеславинский тихо выскользнул из зала и снова заглянул в канцелярию. Там в гордом одиночестве (по случаю собрания) сидела только пишбарышня Клара, которую он в шутку именовал Клариссой. Кларисса была прелестной дурочкой с одной очаровательной слабостью. Пользовались этой ее слабостью многие и многие, пока несчастная (так ли?) Кларисса не подхватила дурную болезнь. В чем неожиданно как-то по-детски непосредственно призналась, размазывая тушь, Сеславинскому, когда они сидели в столовой: «Не смертельно, но крайне неприятно!» Сеславинский слабостью Клариссы не пользовался, но обещал помочь. И помог: всемогущий, как уже выяснилось к тому времени, Петя Иванов отвез бедную Клариссу к доктору. Кстати, тоже боевому офицеру.
Чувствуя спиной спокойный холод столбняка, Сеславинский небрежно устроился на стуле возле Клариссы, закинув ногу за ногу, и как бы случайно взял в руки листок из тех, что она печатала. Это был список назначенных в заложники.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































