Текст книги "Опыт № 1918"
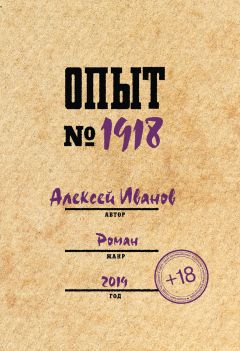
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 32 страниц)
Глава № 26
Евгений Александрович Тучков, ставку на которого в борьбе с церковниками и, в частности, в деле изъятия церковных ценностей сделал Бокий, оказался человеком более чем расторопным. За те три дня, что отпустил ему Бокий, приставив, впрочем, «наружку», он оббегал пол-Петрограда, не теряя ни минуты. И успел не только переговорить со всеми священнослужителями, помянутыми Бокием, но и составить с их помощью прекрасный план работы. Конечно, в планах, которые резвый Тучков выдавал за свои, Бокий видел руку протоиерея Александра Введенского. Старого своего знакомца по давнишним, дореволюционным (Боже, было ли всё это?) лекциям Бехтерева. На них будущий священник, а тогда – студент историко-филологического факультета Университета всегда сидел в первом ряду. Бокий сразу отметил, что это не просто любознательность и интерес к идеям знаменитого профессора, но и желание быть первым. Первым студентом – филологом, посещающим лекции по анатомии мозга, потом – первым священником, воспринимающим мистику и магию без казенной истерики, и даже всегда сидящим – в первом ряду.
Сегодня перед Бокием со скромной улыбкой первого ученика, ожидающего похвалы, сидел Тучков. И Бокий, чуть кривясь смуглым, медальным лицом, эти похвалы неохотно отпускал. Вчера он отдыхал в своей «резиденции» на Островах, и хотя и не знал похмелья, легкая рассеянность от двухдневного загула появилась. К тому же Тучков оказался не так прост. Бокий ожидал, что тот, обрадовавшись возможности, переоденется в чекистскую кожанку, украсит себя портупеей и наденет офицерские сапоги «в дудку». И – ошибся. Перед ним сидел аккуратист-бухгалтер в ловко подогнанном полувоенном (время диктует!) френче на манер тех, в которых появлялся Керенский, и желтых английских башмаках на толстой подошве. Его можно было бы принять даже за какого-то младшего чина из тыловиков. Если бы не неаккуратная стрижка и громадные, неухоженные ручищи.
«Любопытный тип», – Бокий прикрыл глаза, размышляя. Опытный филер из «наружки», посланный за Тучковым, доложил обо всех его встречах со священниками и нескольких заходах в пивные. Где Тучков вел себя скромно, пил умеренно, в разговоры ни с кем не вступал. Из закусок предпочитал рыбу.
– Вы хорошо потрудились, Евгений Александрович, – Бокий поднял тяжелые веки, внимательно разглядывая совершенно обновленного Тучкова. – Я рад, что вы нашли общий язык с отцом Александром…
Тучков скромно потупился, давая понять, что найти общий язык с Введенским было непросто. Бокий и сам знал это.
– …что вы составили план работы, опираясь на его опыт, – Бокий помолчал, припоминая свои беседы с иереем-революционером. Или с революционером-иереем? – Он борец закаленный. Я рад, что вы включили в план три базовые, основные идеи отца Александра, – Бокий снова стал всматриваться в план, представленный Тучковым. Отметив, что у того, как у опытного чиновника, есть второй экземпляр плана, по которому он следил за мыслью и карандашом начальства.
Как всегда после отвратительного загула в «резиденции», где он не оставался наблюдателем, Бокий начинал чувствовать прилив сил, особый революционный (не зря он пошел в революцию, не зря!) подъем.
– Вот вы, Евгений Александрович, пересказываете три любимые идеи отца Александра, жизненно необходимые для борьбы с церковниками: провокация, агитация и бестиаризация, – на Бокия накатил какой-то гимназический восторг, какой он испытывал, пожалуй, лишь при расстрелах. – Это же ключевые слова-понятия! Помяните меня, кости отца Александра сгниют где-нибудь в неизвестности, эти три слова – понятия будут жить!
Бокий вышел из-за стола и принялся расхаживать по кабинету.
– Агитация! Сейчас же никто не понимает, что это такое! Вот вы понимаете? – И не дожидаясь ответа тупо кивающего Тучкова, принялся развивать мысль: – Как агитировать против церкви? Не знаете? А есть ведь сонм ученых, философов, начиная от Вольтера и заканчивая современными физиками, окопавшимися в Политехническом институте! Наука – мощная сила, а и она не доказала и никогда не докажет существования Бога! Это – раз! – Бокий, сверкая глазами как на спиритическом сеансе, остановился, нависая над Тучковым. – Какого черта вы не пишете? Записывайте все за мной, стенографируйте! Это программа на всю вашу жизнь!
Ах, если бы самому заняться церковниками! Какие бы силы он привлек, какие умы ему бы служили! Да, пусть за подачку, за паек, но служили бы! Диспуты, вот что нужно. Причем – в Казанском соборе. В Исаакии. В центре Общества религиозно-нравственного просвещения на Стремянной, где собираются церковники. С Орнатским, настоятелем Казанского, с митрополитом Вениамином подискутировать. Да хоть с самим Иоанном Кронштадским, был бы он жив. А какие темы! «Бог и наука»! Или «Почему нет Бога в повседневной жизни?». Или «Разоблачение чудес»!
Бокий наблюдал, как Тучков, пыхтя и высунув кончик языка от старания, писал за ним.
Вторая область агитации – воровство и безделье духовенства. Вот где разгуляться! На примерах, на сравнениях. Ты – гниешь от болячек, харкаешь туберкулезной кровью, вынужден пить, чтобы не видеть ужасов жизни, а они… А дальше – облачения, обряды, церковнославянский язык – специально, чтобы народ не понимал, о чем и кому молится!
Снимайте рясы, священники, открывайте свои «чудеса», тащите на свет Божий «святые мощи», а ну, посмотрим, что там в серебряных раках лежит?! Я бы и сам для особо тонких интеллигентов (он припомнил почему-то Мокиевского и Бехтерева) прочитал лекцию: «Зачем изучать Библию, историю маленького иудейского племени?».
А провокации? Боже мой, как можно было бы развернуться! Какие можно схватки организовать во время изъятия ценностей!
Бокий снова уставился на пыхтящего от старания Тучкова.
Сможет ли этот Акакий Акакиевич использовать наполеоновские комплексы Введенского себе на пользу?
Тот вдруг поднял голову, оторвался от записей.
– Глеб Иваныч, вопрос можно? – И встал. – Отец Александр, Александр Иваныч, – поправился Тучков, – все говорил про какую-то бестию… Я никак понять, в голову взять не мог…
– Не бестию, а бестиаризацию, – скривился Бокий. Нет, этот Тучков – бухгалтер ему нравился. – «Senatores boni viri, senates mala bestia», – так он говорил? Это в переводе с латыни означает:
«Сенаторы добрые люди, а сенат – злая бестия». – Бокий с прищуром уставился на Тучкова. Не понимать простейших вещей!
Он напрягся, глядя прямо в переносицу бухгалтера, и заговорил медленно, размеренным голосом гипнотезера. – Каждый из священников, независимо от сана, любой звонарь и дьякон, каждый из них – прекрасный человек. Такой же, как мы. Он живет как мы, страдает, мучается и искренне заблуждается, приходя к вере, к Богу, к церкви. Порознь они могут быть прекрасными людьми, но объединяясь в церкви, становятся злом. Объединяясь в церкви, становятся злом! – Бокий всмотрелся в остекленевшие глаза Тучкова. – Веруешь? Веруешь, что победишь зло?
– Верую! – выдохнул Тучков, по-собачьи глядя ему в глаза.
– Вот и хорошо! – Бокий ткнул ему сложенными как для крещения пальцами в лоб, снимая напряжение гипноза. Что-то смущало его в этом человеке. Что? Он помнил, что филер написал в докладной, будто Тучков вечером, после всех бесед со священниками, отправился на Лиговку и снял проститутку. Долго торговался, предлагал свою цену, отходил и снова возвращался. Причем искал проститутку «из благородных», что особо отметил опытный филер.
– Вопросы есть ко мне, Евгений Александрович?
– Благодарен, благодарны мы очень…
– Я вижу, что-то беспокоит?
– Я благодарен очень, – Бокий вдруг отметил, что смотрит он снизу вверх вовсе не по-собачьи, а как, пожалуй, злобный хищник. Нечто вроде барсука, которого фокстерьеры вытащили из норы. – Но семья ведь у меня, жена, сестра Анастасия Алексанна, их тоже содержать нужно…
– Деньги будете получать от меня. Я скоро окончательно в Москву переберусь.
– Хотелось бы и званьице…
– Я же сказал, и в приказе уже есть: начальник шестого особого отдела… – он внимательно посмотрел на Тучкова. Слаб человек, и это приятно! – Хотел бы еще и званьице, вроде подпоручика?!
– Да, – кивнул Тучков, тоже радуясь сообразительности Бокия.
– Запомни раз и навсегда, – медленно сказал Бокий, снова сосредоточившись на его переносице. – Начальник особого отдела на Лубянке – это даже не генерал. Перед тобой генералы дрожать должны. И дрожать будут! – Бокий обошел стол и устроился поудобнее на жестком деревянном кресле. – Относительно денег. Будешь получать у меня. Из особого фонда. Всех сотрудников, которых надобно будет нанять, – показывать мне. Отчитываться о деньгах будешь делами. Но… – Бокий прикрыл глаза, чувствуя, как утреннее возбуждение спадает. Чертов Тучков, сожрал энергию! – …если я не увижу дел, отчитываться о деньгах придется по всей итальянской бухгалтерии. Включая проституток с Лиговки.
Сквозь смежённые веки Бокий увидел, как Тучков съежился, будто разом стал меньше ростом.
– А жить в Москве я бы рекомендовал в каком-нибудь монастыре или в подворье… И обслужат монашки бесплатно, и прокормят, и постирают… Всё экономия… – Бокий, не открывая глаз, кивнул и чуть махнул рукой, отпуская Тучкова.
Евгений Александрович Тучков, гроза и ужас священнослужителей, «игумен», по словам церковников-обновленцев, или «советский обер-прокурор», как позже он любил себя называть, поселился в Москве, на 1-й Мещанской, в подворье Серафимо-Дивеевского монастыря. И долгое время прожил там вместе с женой Еленой Яковлевной и старшей своей сестрой Анастасией, ревностно посещавшими службы. Монашки были не внакладе: советская власть не особо досаждала им, а всемогущий «игумен земли русской» был для них просто Евгением Александровичем. Человеком тихим и обходительным.
Глава № 27
У Благовещенских собирались с удовольствием. Лиговка, 3 – это было для всех близко, можно даже не нанимать извозчика. Сестры Сангалли демонстративно ходили пешком: они пускались в это рискованное путешествие, показывая, что не только не боятся революционных масс, но даже стремятся быть к ним ближе. Правда, путь от их семейного особняка проходил мимо двух особо «злачных» мест в Петрограде – мимо дома Перцова, где в последнее время прочно обосновались «веселые девушки», и Николаевского вокзала. Девицы, похаживающие возле дома Перцова и вокзала, иногда задирали сестер, приглашая их в свою веселую компанию, но сестры достойно и мужественно проходили мимо. Правда, чуть ускоряя шаг. И непременно опустив вуальки на шляпках. Позже у Благовещенских, конечно, рассказывались всякие истории, которые особенно любил Вика Гольдионов, именуя их «пикантными». И непременным участником этих пикантных историй был Гольдионов – младший, Владимир, по прозвищу Гольдеша. Гольдеша, похожий на большого, задумчивого медведя, всегда оказывался то в роли жертвы «веселых девушек», то в роли героического защитника и даже спасителя добродетелей сестер Сангалли.
И чем ближе подступала к домам этих молодых людей революция – не та, выдуманная, бумажная и теоретическая, в которую они играли недавно с таким удовольствием, разбрасывая листовки в Политехническом институте и читая «нелегального» Плеханова, а настоящая – с выстрелами в темных улицах, списками расстрелянных в «Вечерней Красной газете», голодом и, главное, страхом, – чем ближе подступала революция, тем чаще хотелось собираться у Благовещенских.
В парадном на Лиговке все еще стоял или сидел швейцар, лишившийся, правда, ливреи, иногда трещал камин, можно было погреть замерзшие руки возле огня, перебрасываясь со швейцаром (с февраля семнадцатого – добровольным) соображениями о погоде. А в большой, натопленной (в Петрограде зимой семнадцатого-восемнадцатого это отмечали особо) квартире всегда было шумно, весело, мелькали то студенты – юристы, соученики старшего сына адвоката Благовещенского – Владимира, то гимназистки старших классов из гимназии княгини А.А. Оболенской, где учились (вместе с сестрами Сангалли) сестры Благовещенские, Женя и Лиза, то студенты-политехники, а иногда даже и «пажи» – выпускники Пажеского корпуса, который закончил (не без труда, не без родительского, отметим особо, труда) Гольдеша.
На «молодой» половине квартиры всегда было весело, бренчал рояль, по чуть темноватому коридору мелькали какие-то тени, носились шепотки, девицы то обижались, то мирились со своими поклонниками, писались шутливые стишки, особенно ценились вошедшие в моду каламбуры, – словом, царила та атмосфера всеобщей радости и влюбленности, что возникает всегда, стоит собраться вместе нескольким молодым людям, взволнованным не только близостью друг друга, но и близостью надвигающейся взрослой неизвестной и влекущей жизни.
Следуя моде, всякий раз, договариваясь о новой встрече, кому-то из присутствующих поручалось сделать доклад на вольную тему.
Популярностью пользовались, разумеется, доклады политические. С одним, но важным ограничением: доклады не должны были затрагивать напрямую проблемы текущего дня. Так предложил хозяин дома адвокат Владимир Владимирович Благовещенский: сегодняшний день слишком близок. Слишком близки все эмоции. Трудно удержаться от ссор, взаимных обвинений, обид. «Но вы же адвокат, более того, председатель коллегии Петроградских адвокатов, – горячился Карл Шмидт, нервный молодой человек из лаборатории Сименса. – Спор, столкновение мнений – это же ваша профессия». «Именно поэтому я, стреляный воробей, и рекомендовал вам ограничиться философскими проблемами, литературными, научными. Кстати, предлагаю тему и небольшую игру на послезавтра. Вы ведь послезавтра встречаетесь? По-русски: стреляный воробей. По-английски?..» – он сделал паузу. «A knowing old bird», – сказал кто-то. «По-немецки?» – «Ein alter Hase, – опередила всех бойкая Женечка, сидевшая с альбомом в руках. Она готовилась к экзаменам в Академию художеств. Сам Петров-Водкин смотрел ее работы и обещал взять в свою мастерскую. – Papа, в эти игры мы играли когда-то с мадемуазель Крюшо!»
– Нет-нет, Женечка, – перебил ее Вика Гольдионов, – очень интересно! Вот вы, к примеру, знаете стреляного воробья по-испански?
– Нет, конечно, – почему-то обиделась Женечка.
– Toro corrido! Бык после корриды, а?! Красиво?
Благовещенский – старший откланялся, ласково глядя на молодежь, и вышел, пригласив с собою сына.
– Я уже некоторое время как хочу поговорить с тобой, – Благовещенские расположились в отцовском кабинете.
– Тебе не нравятся наши сборища?
– Нет, что ты! В ваши годы завязываются отношения, дружбы на всю жизнь… – отец потянулся к сигарному ящику. – Я слышал, ты начал покуривать?
– Нет, папа, просто балуюсь. Иногда хочется выглядеть взрослее.
Разговор не клеился, казалось, обоим не хотелось говорить о главном.
– Я рад, что вы собираетесь, рад, когда много народа, – отец на специальной гильотинке отрезал кончик сигары. – Но мне бы хотелось, чтобы вопросы политические как можно меньше звучали.
– Боишься доносчиков, провокаторов? – Сын устроился поудобнее, обхватив руками колено.
– Боюсь, – просто ответил отец.
Благовещенский-старший с прищуром, как бы оценивая, смотрел на сына. Взрослея, тот все больше становился похожим на своего деда и прадеда, псковских священников. Правда, стригся, согласно последней моде, коротко, «ежиком», под Керенского. Но их псковская порода была видна: бровастый, широкие плечи, крупная, прямо посаженная голова, тяжелые, могучие кисти… И дед, и прадед до старости ломали подковы, да и самого Владимира Владимировича Господь силушкой не обделил.
– Занятия гимнастикой не забросил, я надеюсь?
– Пока нет. Если не успеваю в кружок, дома занимаюсь. И всякий раз тебя благодарю за подарок! – В один из дней рождения Благовещенский-старший подарил сыну гантели, привезенные еще дедом из Англии: с набором небольших «блинов», позволяющих менять вес. – Бицепс пока держится, – он пощупал свой бицепс, демонстрируя его отцу. – Сорок два сантиметра.
– Что в университете? Не определился? – Благовещенский-младший вместе со своим другом и ровесником Гольдешей учился на двух факультетах: юридическом и математическом.
– Думаю, если сил хватит, закончить оба.
Отец рассматривал сигарный пепел с тем же вниманием, с каким минуту назад смотрел на сына.
– Я тоже никак не мог определиться после гимназии. Очень тянуло священство, традиционное для нас, но и юриспруденция казалась сочетанием науки и искусства…
– Я, признаться, к служению Господу довольно равнодушен…
– Мода! – вместе с дымом выдохнул Благовещенский-старший. – Полагаю, религиозность русская – глубоко внутренняя и связана с редким свойством народа: поиском, точнее, исканием абсолютного добра…
– Ты уверен в этом?
– Конечно! Русский народ верит в совершенное добро, верит, что есть где-то на Руси люди, осуществляющие две заповеди Христовы, главные заповеди: люби Бога больше, чем себя, и – ближнего люби, как себя.
– Абсолютное добро, надо думать, существует лишь в Царстве Божием… – Благовещенский-младший оглянулся на стук в дверь.
– Можно к вам, папенька? – заглянула в кабинет Лиза. – Володя, гости собираются расходиться, ты не пойдешь проводить?
Лиза знала, что Володя увлечен младшей Сангалли, Оленькой, и та, кажется, отвечает ему взаимностью.
– Я выйду на минуту? – повернулся Володя к отцу.
– Конечно, – он снова раскурил сигару. – Лизонька, пусть чаю нам горячего принесут!
Собственно, разговор о русском характере, который у них затеялся, был совершенно случайным. Благовещенский-старший всем опытом своей пятидесятишестилетней жизни чувствовал, что сегодняшнее относительно тихое существование – лишь пауза, затишье перед катастрофой, ни времени, ни масштабов, ни последствий которой предсказать невозможно. В самой глубине людского моря уже грянуло невидимое, плохо различимое землетрясение. Громадной, беззвучной волной поднялся мировой океан и двинулся на берег, на Россию. Но живущие на берегу беззаботно поглядывают на привычное и даже перед страшной волной особо спокойное море. И озабочены пустяками: тяжелыми тучами, собирающимися на горизонте, ветром, который начался было, но неожиданно стих, зарницами и молниями, мерцающими и грохочущими вдалеке, не ведая, что страшная волна через несколько мгновений вскинет их вверх, а после швырнет в жуткое месиво жилищ, деревьев, земли, камней, орущих от ужаса и захлебывающихся людей и животных, и помчит, помчит, дробя, ломая живое и неживое, заглушая своим ревом крики людей, стоны животных и гудки опрокинувшихся и разбитых пароходов. Сейчас – мертвая пауза.
– Ты знаешь, папа, – Владимир редко, только в моменты большой душевной близости называл его «папа». Чаще шутливо «papа» с французским ударением на последнем слоге. – А я ведь, пожалуй, соглашусь с тобой. Пока в прихожей болтали и прощались, мне пришло в голову, что русская идея, суть ее, не в оправдании культуры и могущественного царства, а, как ты говорил, в поиске Царства Божия. В эсхатологии.
– А как же тогда быть с русским атеизмом? – Благовещенский-старший с удовольствием подхватил тему. – Я, признаюсь тебе, подобного истинно воинствующего атеизма не встречал ни в Германии, ни во Франции, ни в Англии, об Италии уж и говорить нечего…
– Мне кажется, что этот самый оголтелый атеизм или воинствующий, если хочешь, есть часть русской религиозности…
– Ну, да… – согласился Благовещенский-старший, – уж если русский человек усомнится в чем, а особенно в Боге, он остановиться не может, оскотинится до крайности… А браться за то, во что он не верит – не может. И вообще мог бы, вполне теоретически, взяться только за что-то абсолютное. Недостижимое. А раз уж нет – сразу разочаровывается в сем недостижимом.
– Может быть, эти самые большевики и подсунули народу нечто абсолютное – свою революцию с абсолютно бредовыми идеями…
– Да сами они, несмотря на то, что большинство из них проживали по эмиграциям десятилетия, – не более чем тот же народ, попавшийся на уду абсолютной идеи: идея вполне, кстати, религиозная – построить Царство Божие на земле. Только без Бога. Пока что Бога они на Маркса заменили.
– Думаешь, русские люди могут религиозную идею, разочаровавшись, в атеистическую превратить?
– Вряд ли, – Благовещенский рассматривал кончик сигары, словно исследуя в ее горении какую-то научную тайну. – Коренное свойство русского народа – разочаровавшись в идее, впадать в полную прострацию, полное равнодушие. Даже по отношению к своей жизни. Это же русский принцип – чем хуже, тем лучше. – Он поднялся. – Тебя заждались, наверное, – Благовещенский резко затушил, размял конец сигары. – А равнодушие такое может овладеть русским человеком, а то и всей русской землей, что впору говорить о психическом состоянии нации. В связи со стремлением к суициду. Все, можешь идти! – он кивнул сыну, подошел к книжному шкафу, отворил створки, украшенные бронзовыми египетскими головками, и вытащил том Маркса. «Боже мой, – подумал Благовещенский, – ну почему русские люди, разговаривая с детьми, не могут делать это как англичане, как немцы: просто, прямо, деловито, как говорят с партнерами. Вечные страхи – поймет ли, поймет ли правильно, верно ли поступит? Наконец, надо сказать прямо, преодолев себя: Владимир, ты старший, увози сестер и руководи ими. Деньги я переслал! И уезжайте завтра же!»
– Володя, – остановил он сына почти в дверях. – Прошу тебя, прочти несколько статей. Я сделал закладки. – Он протянул нетолстый томик. – Твоего немецкого хватит, чтобы эту марксову мудрость осилить?
– Я читал его. И даже пытался какую-то статейку написать. Что-то вроде «Марксизм и анархизм». Или «Анархизм и марксизм». Но бросил.
– Я тоже прочитал, – Благовещенский-старший открыл первую закладку. – Призрак бродит по Европе… Шаманство какое-то…
– И какой вывод сделал? Из этого шаманства?
– Вывод простой. Ради которого я, собственно, и пригласил тебя. – Он вгляделся в лицо сына. Наша, псковская порода, выдержит. Пусть ушат и ледяной. – Тебе надо отсюда уезжать. И тебе, и девочкам. Это не совет, это – приказ. И там – в Германии, во Франции, в Швейцарии, неважно, где вы остановитесь, ты будешь нести ответственность за себя и за сестер.
– А закончить курс? Получается: бросить университет, сорвать девочек… Дезертировать, наконец?!
– Речь идет о жизни! Пойми, игра в жизнь кончилась, власть захватили шулера! – он загремел во весь голос, как в заседаниях суда. – А выиграть у шулеров можно только не садясь с ними играть!
Владимир вернулся на «молодую» половину в изрядной растерянности. Отец никогда так жестко не говорил с ним. Уехать, бросив всё? Друзей, город, родину, Неву, университет?
Уехать младшие Благовещенские не смогли. И прошли скорбный и кровавый путь русских интеллигентных девушек и юношей, потеряв в жизни всё, кроме разве что достоинства и чести.
Гости уже почти все разошлись, остались самые стойкие.
– Время позднее, господа, – поднялся один из политехников, приятель Мишеля Бармина, ухаживавший за младшей Сангалли, Софи, – предлагаю посмотреть этюды Женечки и – с Богом. По домам. Вчера, когда мы расходились, нас едва не задержал патруль.
– А знаете, почему нас отпустили? – защебетала Софи. – Жорж (студент-политехник) сказал матросам, что он племянник Плеханова!
– Господа, какой прогресс, матросня знает Плеханова, браво!
– Вовсе нет, – Софи перестала наигрывать на рояле, – они расспрашивали, кто такой Плеханов. Жорж читал им целую лекцию. И только когда сказал, что «дядюшка» дружил с самим Марксом и даже перевел его какой-то манифест…
– Софи, – Жорж, стараясь держаться серьезно, укоризненно качал головой, – что значит «какой-то манифест»?! Мой дядюшка перевел «Манифест коммунистической партии», ихний катехизис!
«Забавно, – подумал Владимир, слушая веселую болтовню, – опять этот же Маркс и этот же „Манифест”. Может, и верно призрак бродит по Европе?»
– Прекрасно! Давайте на завтра поручим Мише лекцию о Плеханове!
Расходились как всегда весело, провожали сначала «ближних», тех, кто жил рядом – на Бассейной, на Рождественских, потом – мимо Овсяниковского сада (место, считавшееся почему-то особо опасным) через Херсонскую, Конную и Перекупной переулок собирались, как обычно, выйти на Староневский.
– Жорж, – кокетничая сказала Софи, когда они остались вдвоем в темном, без фонарей, пролете Перекупного, – я что-то устала! – Она «со значением» посмотрела на Жоржа. – Сегодня papа в отъезде, вам не с кем будет поговорить о политике, но я вас приглашаю на чашку чая. У papа целая коллекция английских чаев. Я хочу вас сегодня побаловать, – из-под кружавчиков модного капора блеснули глаза. – Возьмем извозчика!
Жорж, поцеловав теплую руку над перчаткой, замахал лихачу, остановившемуся было на углу Херсонской. Тот мигом развернулся и подкатил к ним.
И почти тут же вынырнул из подворотни патруль. Матрос, видимо, старший, на ходу застегивал «клапан» полуметровых клешей. Не иначе как патруль дружно справлял нужду в подворотне.
– Господа патрульные, – не удержался Жорж, – для этой надобности в каждом доме есть «кабинет задумчивости», сортир, проще говоря!
– Чаво – что? – не понял бородатенький солдат.
– Это они нас культурности учат, – моряк застегнул клеши и подошел вплотную к Жоржу. – Правду я говорю? – И вдруг, уставившись бешеными от кокаина глазами на Жоржа, медленно вытащил из деревянной кобуры браунинг и просипел: – «Боже, царя храни!» знаешь?
– Конечно, – улыбнулся Жорж, прикрывая собой Софи.
– Тогда пой, буржуйская харя!
– Оставь их, браток, – остановил моряка солдат постарше, тоже из патруля. – Вишь, он девицу до дому ведет!
Сообразительный извозчик, чуя надвигающийся скандал, крикнул:
– Прошу, господа-товарищи, садиться! – и отбросил механическую ступеньку коляски.
– Во-от как оно… пока мы воюем, оне девиц домой водют! – моряк щелкнул затвором браунинга. – На колени перед боевой братвой!
– Софи, быстро на извозчика, – не поворачиваясь к ней, проговорил Жорж.
– На колени, кому приказано! – не унимался матрос.
– Оставь, браток, – повторил солдат.
– Я на колени встаю только перед Богом и царем, быдло! – вдруг громко крикнул Жорж, оттолкнул матроса и вскочил вслед за Софи в коляску. – Гони!
От первого выстрела лошадь всхрапнула, шарахнулась в сторону, это спасло Софи, пуля пробила ей капор, второй выстрел ударил в извозчика – тот охнул, схватившись за бок.
– Держитесь! – крикнул Жорж, подхватив его одной рукой, а другой стараясь поймать вожжи.
Третий выстрел произвел пожилой солдат. Софи, обернувшись, видела, как он встал зачем-то на одно колено, прицелился и дуло длинной винтовки полыхнуло огоньком. Жорж медленно повернулся всем телом, глядя куда-то мимо Софи, поверх крыш темных домов, сдвинувшихся и нависших над переулком, сказал: «Простите, Софи…» – и сполз на пол коляски, держась руками за ковровую извозчичью спинку.
Об этом мадам Софи де Брюннер, урожденная Сангалли, известная французская меценатка и собирательница русской живописи рассказала корреспонденту французского телевидения незадолго до своей смерти, в 1970 году.
– Excusez-moi, madame (Простите, мадам), – не понял корреспондент, – expliquez-moi, pourquoi est-ce qu’ils ont tiré votre… (Поясните, почему они стреляли в вашего…)
– C’etait mon fiancé… (Это был мой жених…)
– Sur votre ami? C’ est lui qui a tiré le premier? (В вашего друга? Тот первым открыл огонь?)
Мадам де Брюннер, прищурившись, посмотрела на корреспондента и ответила по-русски:
– В России не надо иметь причину, чтобы убивать…
– J’ai pas compris, madame (Не понял, мадам)…
– C’etait l’epoque revolution, неразбериха, monsieur! (Это было время революционной неразберихи, месье! – слово «неразбериха» она сказала по-русски.) – Excusez-moi, j’ai pas compris le mot «не-раз-бе-ри-ха», c’est quoi ça en russe? (Простите, не понял слово «не-раз-бе-ри-ха», это что, по-русски?) – On a encore un mot la revolte, qui transmet plus ou moins ce qui se passait. Mais malheureusement, vous les français, ne comprendrez jamais le mot «смута» (la revolte), encore moins «la revolte russe».
(Есть еще слово «смута», которое более-менее передает то, что происходило. Но, к сожалению, вам, французам, слово «смута», а тем более «русская смута» не понять…)
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































