Текст книги "Опыт № 1918"
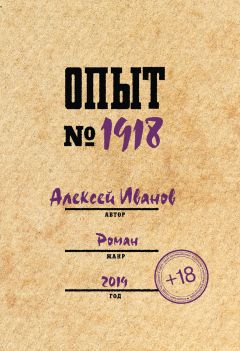
Автор книги: Алексей Иванов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 20 (всего у книги 32 страниц)
– А что же нам делать? – растерянно спросила Анна Михайловна.
– Вам – уезжать! – с непривычной жесткостью отрубил Василий Николаевич. – Бежать! Мы с Володей перед обедом об этом говорили. Немедленно!
– А нам? – подошла к нему Ольга Ивановна и сзади обняла за плечи, целуя массивную, в крупных седых локонах-завитках голову мужа.
– А нам, Ольга Ивановна, здесь оставаться суждено. Для нас Россия – наш монастырь. Здесь и останемся.
– Здесь, в Тярлеве, что ли? – не понял Гольдионов.
– Это уж как Бог приведет…
Секунду назад они сидели за общим столом, обедали, говорили о том о сем, мужчины, как всегда, о политике, и вдруг что-то произошло, случилось, некий электрический, невидимый и неслышимый разряд разделил их. Оставив в воздухе страшную пустоту и чистоту грозового разряда. Одни – уезжали. Бежали в никуда. Другие – оставались здесь. Погружаясь в хаос и темную непредсказуемость жизни.
Грозный архангел, мелькнувший в окнах уютного особняка в дачном Тярлеве, навсегда разделил души ярославских ребятишек, подружившихся в Гостином дворе. Василию Николаевичу Муравьеву велено было расстаться со всем своим богатством, стать монахом Варнавой, духовником Александро – Невской Лавры, иеросхимонахом Серафимом и просиять в сонме мучеников российских, причисленных к лику святых, как преподобному Серафиму Вырицкому. Жена его, Ольга Ивановна также приняла постриг, а позже и великую схиму под именем Серафима.
Английский бизнесмен Владимир с непроизносимой русской фамилией Гольдионов стал для простоты дела Владом Гольдом, но сохранил в Лондоне русский дом и русские традиции. Во время Великой Отечественной войны во многом его попечениями (и частично на его деньги, добытые лесоторговлей) осуществлялись знаменитые Северные конвои из Лондона в Мурманск. Узнав в 1949 году из передачи Би-би-си, что в поселке Вырица скончался иеросхимонах Серафим (в миру Василий Николаевич Муравьев), Влад Гольд через английское посольство переслал своему сыну Владимиру Гольдионову письмо с просьбой выслать в Лондон горсть земли с его могилы. Посылка с землей так в Лондон и не дошла, а школьный учитель математики Владимир Владимирович Гольдионов был упрятан в знаменитую питерскую психиатрическую лечебницу на Пряжке. Вышел он из лечебницы только в хрущевскую оттепель и то с помощью своего соученика по гимназии психиатра и полного тезки отца Владимира Гольда.
– Оля, – попросил Муравьев, – сыграй, пожалуйста…
Ольга Ивановна села к небольшому кабинетному роялю.
– По небу полуночи ангел летел, и тихую песню он пел, – запела она негромко, чуть касаясь клавиш. – И месяц, и звезды, и тучи толпой внимали той песне святой.
Это было странное ощущение, и все потом, до конца жизни, помнили его, но вспоминали кто со страхом, кто с по-детски сладким чувством одновременно испуга и блаженства. Всем вдруг показалось, что где-то здесь, рядом, в беззвучном грозовом разряде, появился ангел. Он был невидим и видим одновременно, он странно скрывался и открывался в шуршащем танце белых мотыльков, закружившихся вокруг лампы, в тенях, побежавших по стенам и лицам сидящих за столом.
Рояль еще звучал, силясь передать самые последние колебания струн, но все в комнате почувствовали вдруг необычную пустоту между сидящими. Так хирург, на столе которого умирает больной, ощущает мгновенную пустоту рядом: душа отлетела. Еще какое-то время продолжают работать другие хирурги, анестезиологи, сестры, но он, ведущий операцию, уже все понял. По этой пугающей, неземной пустоте.
Почти сразу, будто привлеченные музыкой, сдвинулись вокруг стола августовские сумерки. И сгустились по углам, когда вспыхнула матовая, со вставками янтаря люстра.
В паузе – Ольга Ивановна положила на крышку рояля руки – вошла горничная.
– Самовар готов, – почти неслышно сказала она, и Ольга Ивановна повернулась.
– Да-да, подавайте! И вызовите мотор. До Питера.
Чаевничали почти молча. Тихонько пел серебряный самовар, подаренный Василию Николаевичу туляками, позвякивали ложечки.
– На ваш вопрос «что же нам делать?» отвечая, Анна Михайловна, – вскинул вдруг голову Муравьев, будто сбрасывая с себя морок, – скажу только, что сам думаю. – Он помолчал. – А думаю я, что довелось нам жить не в революцию, о которой кричат на всех углах, а в момент Апокалипсиса. Я вот прежде говорил Володе, что мировая битва архангела Михаила со змием и воинством отпавшим – не закончена. Там, в высях, нам не ведомых, она идет непрерывно. И не куда-нибудь низвергнул Господь поверженное это воинство, то есть бесов, а на нашу землю. В Россию. И мы тому свидетели. Смотрите, как мигом налетели всех сортов революционеры. Из небытия, ниоткуда возникли. А уж какая сила собралась! Володя, – он повернулся в сторону Гольдионова, – ты здесь с твоим характером не выживешь. Тебе – шашку наголо и – вперед. А сейчас выживут только те, кто голову под крыло. Или пуще того – мертвым прикинется. И подстроиться к ним ты не сможешь, ибо и сами они не знают, куда идти. Как протопоп Аввакум писал: «…и вси грядут в пропасть погибели, друг за друга уцепившиеся, по – писанному: слепый слепа водяй, оба в яму впадутся, понеже в нощи неведения шатаются…»
Перед прощанием, уже обнявшись на дорогу, Муравьев, не размыкая объятья, спросил тихо:
– Как поедешь-то, Володя?
– Есть у меня партнер один… – задумался Гольдионов. – Из евреев. Я ему тут с таможней портовой помогал. А у него брат или свойственник какой – в Риге.
– Надежный партнер-то?
– Не сказать, чтобы надежный… Да других-то нету… Человек неплохой. Девчонку малую прибеглую из-под Пскова в семью взял. Пригрел… – Они стояли, все держа друг друга за руки.
– С капиталом, я понимаю, порядок у тебя. А с деньгами на дорогу? Что киваешь-то? Я вот дела закрываю, деньги со счетов снял, храню в надежном месте. Понадобятся – бери. Сколько надо, столько и бери. – Они еще раз обнялись, услышав шум мотора. – Бог тебя храни, Володя, – Василий Николаевич перекрестил и его, и Анну Михайловну. – Но и ты Бога не забывай!
Гольдионову удалось, как он говорил позже, вскочить в последний вагон. После сообщений в газетах о смерти комиссара Володарского, чекистское «окно» через эстонскую границу закрылось.
Глава № 43
В подготовку Бокием московской акции едва не вмешался расстрел царской семьи. После 16 июля пришлось чуть ли не весь личный состав ЧК поднять на ноги – сообщение о расстреле государя неожиданно остро отозвалось в народе: там и сям в мутном, вспененном течении народной жизни вдруг стали образовываться явственно видимые водовороты. Кое-где пена, ржаво – кровавыми лохмотьями мотавшаяся по поверхности, сбивалась в плотные комки, клубки, и тогда на улицах, в присутственных местах, на площадях возле храмов вдруг возникали толпы, которые чего-то требовали, к кому-то обращались с криками, куда-то шли, поддерживая друг друга и помогая тащить отяжелевшие от ветра и дождя лозунги, которых никто не читал. Шествия эти – с оркестром, с барабанами или просто с кричащими в рупор вожаками – проходили по улицам, то расширяясь и занимая всю проезжую часть, то редея. Потом они исчезали, таяли, как и фальшивые звуки их оркестров, где-то вдали, оставляя после себя обрывки газет, красные и черные ленты, шелуху от семечек и чувство беспокойства. Чувство это охватывало стоявших на тротуарах прохожих даже больше, чем тех, кто шествовал по булыжникам, даже и не стараясь попасть в ногу.
Однако чекисты, призванные «стоять на страже революции», мотались с одного митинга на другой, от одной взлохмаченной беспокойством и ветром колонны к другой, от одного жалкого шествия – к следующему. Всматриваясь напряженно в самодельные лозунги, бьющиеся на ветру, пытались на глазок определить, насколько опасны и эти лозунги, и убогая толпа, топающая и горланящая под ними, для мирового пролетариата и таинственных и яростных комиссаров, гнездящихся неизвестно где. И время от времени налетающих, чтобы на месте расстрелять некоторых из митингующих или же охаять работу чекистов и пообещать принять самые строгие революционные меры.
Зиновьев впал в совершенную истерику: «Нас не поймут зарубежные социалисты, а не только либералы!» Бокию пришлось даже срочно заняться организацией летучих отрядов (двоек-троек, пятерок) чекистов, способных оценить опасность этих стихийных выступлений и готовых разогнать унылые толпы мокнущих под дождем демонстрантов двумя – тремя выстрелами. Хотя иногда приходилось палить и залпами.
Тучков, приехавший из Москвы с докладом «О противоправной и провокационной деятельности патриарха Тихона», пришелся как нельзя кстати. Он даже предложил арестовать для острастки митрополита Петербургского и Гдовского Вениамина.
– Сейчас, в связи с известными событиями, – Тучков за короткое время в Москве приоделся и приосанился, – аресты пошли среди разного рода деятелей… Вроде там ученых и прочих… Вот бы и нам отметиться. А то получается нехорошо как-то. По всем подотделам аресты идут: и по культуре заговорщиков нашли, и по науке, военных бывших и чиновников сейчас даже таскать перестали, перебор, а у нас – тишина. Будто никто из священников насчет убийства царя и не высказывается.
– Полагаю, рановато еще для митрополита…
– Тогда Орнатский, протоиерей, настоятель Казанского собора, его дружок. При случае, если сам Вениамин нам понадобится, можно будет его к этому протоиерею подстегнуть…
Конечно, вся суета, поднятая после расстрела царской семьи, отвлекала от главного: 30 августа приближалось. В Питере все складывалось неплохо – курок уже был спущен. Но только два человека, Микулич и сам Бокий, знали об этом. Уже арестован Владимир Перельцвейг, поэт и однокашник Леонида Каннегисера по Михайловскому артиллерийскому училищу. Каннегисер бросил военную карьеру и чаще, чем дома, бывал в «Приюте комедиантов» и «Бродячей собаке», в которых начал выступать (нередко вместе с Есениным) еще с 1913 года. А Перельцвейг решил остаться в училище и быть военным, несмотря на то, что престижнейшее Михайловское училище было уже переименовано в 1-е Советские артиллерийские командные курсы. Прямо в училище он и был арестован. А через несколько дней намечен расстрел. И непременно с публикацией в газете личного приказа Урицкого о казни.
Уже два немецких офицера из Кирасирского полка императора Вильгельма, нанятые Микуличем, получили свои винтовки Gewehr 98/17 и ездили пристреливать их неподалеку от Колтушей, где базировался их полк, плененный в свое время казаками Рененкампфа. Немцы, правда, просили винтовки снайперские, но поскольку стрелять предполагалось с пятнадцати шагов, Микулич счел их просьбы немецкой придурью. Оба они должны были укрыться за шахтой лифта в вестибюле здания Главного штаба, куда ровно в 10 утра подъезжал Урицкий.
Маршрут Леонида Каннегисера (хоть он об этом и не подозревал) уже был просчитан Бокием и Микуличем. Был даже предусмотрен телефонный звонок Каннегисера главе Петроградской ЧК Урицкому, связавший этих людей навсегда. Урицкий должен (по замыслу Бокия – Микулича) нахамить (что было для него делом вполне естественным), а Каннегисер, поэт, офицер, а может быть и интимный друг Перельцвейга, обязан был возмутиться, получить от Микулича (через подставное лицо) револьвер и приехать утром 30 августа на велосипеде к зданию Генерального штаба.
Там они должны встретиться: злодей – главный петроградский чекист Моисей Урицкий, убийца – поэт Леонид Каннегисер и два немецких офицера-пленника, мечтавшие на деньги от убийства уехать в Германию. Микулич, прекрасный стрелок, твердо знал: неопытный человек, впервые взявший в руки оружие (Каннегисер), никогда не попадет в движущуюся мишень с расстояния в десять-двенадцать шагов. Но это должны были сделать за него немцы, укрывшиеся за шахтой машины (лифта) и удобно устроившие свои Gewehr 98/17. Конечно, входное отверстие от винтовки Маузера Gewehr 98/17 с патроном калибра 7,92 отличить от аккуратной дырочки револьверной пули несложно, но это наше уже дело, как в суете и поднявшейся панике решить этот вопрос.
И, конечно, контроль за всей операцией. Вплоть до того, что Бокий решил сам быть в вестибюле Главного штаба и, если понадобится, «решить вопрос» с немцами. Чтобы эти «германские патриоты» могли отплыть на родину (по договоренности с Красным крестом) в цинковых гробах.
Бокий кивком отпустил Тучкова и проверил, готовы ли «документы прикрытия» для Микулича и Барановского, которые должны выехать в Москву.
Он любил это занятие, это было настоящее, как приговаривал старик Бехтерев. Закрыть глаза и представить, как, подчиняясь твоей воле, эти колесики, винтики, эти дрессированные тараканы, лабораторные мыши, крысы, обезьянки из вивария с печальными глазами председателя ВЦИКа оживают и начинают выполнять твои команды, предполагая, что они живут своей жизнью. Курок спущен! И глупого балабона Перельцвейга арестовывают в коридоре артиллерийских курсов. И Каннегисер вспыхивает ревностью к Зиновьеву. Расстрел балабона – несчастный поэт бежит, как турухтан, вытянув шейку, чтобы защитить свою самочку и отомстить за нее. А немцы, надеясь на наживу, смазывают Бокиевские Маузеры Gewehr 98/17…
А в Москве еще интересней… сложнее… какие расклады! Он мысленно перетасовал Ульянова-Бланка, Свердлова с его фальш-пенсне, Феликса… «Для Феликса, когда он приедет в Питер, нужен будет кокаин», – отметил он почти механически. В Москве надо еще уточнить, сможет ли Загорский, подпевала Свердлова, отменить митинг на заводе Михельсона? А отсутствие охраны обеспечивает сам Свердлов. Через Петерса, конечно, хоть и не говорит мне об этом… Десятки, десятки лиц проплыли перед расслабленным взором Бокия. Настоящее, приближается настоящее… И снова Свердлов, сидящий на шкуре своей убитой собаки, и жалкий Емельян Ярославский (надо же выбрать такой безвкусный псевдоним!), дрожащим голосом просящий Ильича (ха-ха, «Ильич»!) приехать для выступления на Басманную Хлебную биржу, и выжившая из ума Фанни Ройдман… Эта попалась на провинциальной романтике: «Вас узнают по портфелю и зонтику!» Как они любили и любят до сих пор играть в свою «революционную конспирацию». Даже старый дурак лекарь Обух, которому дана команда явиться по вызову в Кремль сразу с инструментами для операции!
Бокий вдруг остановил мысленную фильму из протекающих мимо персонажей, тряпичных кукол и марионеток… Просчет! Пусть маленький, но в таком деле малых просчетов не бывает! Он не узнал, умеет ли стрелять Барановский! Понятное дело, не в затылок, тут он себя проявил. А вот хотя бы с десятка шагов?!
Так отложился на три дня выезд Микулича и Барановского в Москву. Прекрасный стрелок Микулич в дивном сосновом бору на станции Графская три дня с утра до вечера заставлял ленивого и упрямого Барановского палить из браунинга по мишеням. Второй и третий – по движущимся. Бор замер, прокалившись от жары, пахло расплавленной смолой, грибами, сизые кусты черники на песчаных кочках заставляли стрелков то и дело бросать свое занятие и набивать рот теплыми, лопающимися в руках ягодами. Сам Микулич большую часть времени при этом проводил, купаясь в озере. Фыркал, нырял, зажав нос, и вообще чувствовал себя отпускником.
– Что скажете? – поинтересовался Барановский, когда они садились в пришедшую за ними машину.
– По меркам нашего Корпуса, господин Протопопов (они уже называли друг друга по именам, присвоенным им в «документах прикрытия»), вы бы заслужили оценку «о. пл.», очень плохо. Но революция, как вы любите говорить, диктует нам свои суровые законы. Поэтому – «о. хр.», очень хорошо!
Три дня, отведенные для обучения Барановского, перевернули дело. Свердлов вдруг испугался Бокия. Где гарантия, что так же преданно, как мне, он не смотрит в глаза еще кому-то? Кому? Феликсу? Феликс – исполнитель и кокаинист. Ленину? Нет, он его презирает – знает слишком хорошо. Троцкий – Троцкий на фронте. Оставались темные лошадки. От них-то и можно ждать выстрела в упор, через пальто. Что делать с Бокием? Вызвать в Москву? Рухнет все, что задумано в Питере! Плевать! Вызвать и здесь перекупить его сотрудников. Пусть во время покушения на Старика грохнут и этого. Согласятся ли его фраеры? На что их купить? Одного, из бывших – Микулич, кажется, – на деньги и возможность эмигрировать. Тайно, под чужим именем. Другой, Барановский, из наших – этому нужны деньги и власть. Пообещаем вызов в Москву, в центральный аппарат. А потом решим вопрос с обоими. Нет! Сложно! Могут сдать меня Бокию, тот станет смертельно опасен. А сейчас? Сейчас – не смертельно? Его затрясло от возбуждения. Нет, так нельзя… Он подошел к сейфу, отворил тяжелую дверцу и принялся, спрятавшись за ней, перебирать драгоценности, сваленные в коробки из-под обуви «Bata». Рядом плотным штабелем стояли увязанные бечевкой пачки денег: фунты, доллары, швейцарские франки… Странно, он мог питаться самой простой пищей, мог носить все, что подвернется (хоть и обожал кожу!), но единственное, что успокаивало его, – пересчитывание денег и перебирание драгоценностей. К которым (и к деньгам, и к драгоценностям) он был почти равнодушен. Может быть, сам вид аккуратных пачек иновалюты, перевязанных бечевкой, уложенных рядами и занимавших больше половины громадного сейфа, действовал успокаивающе. Как и ощущение прохлады золота и камней и их странной тяжести. Радующей и волнующей.
Свердлов захлопнул сейф, отошел к столу и звякнул в колокольчик. Звук серебряного колокольчика тоже нравился ему.
– Свяжите с Бокием! – сказал он секретарю. – Или нет. Я свяжусь с ним сам, пусть ждет!
Он уже принял решение. Пусть Бокий останется в Питере. И доведет акцию до конца. Тем более что агент Свердлова (из левых эсеров) Протопопов уже арестован и сидит в Кремле, в камере у коменданта Малькова, рядом с гаражом автороты, а его «двойник», Барановский, с документами прикрытия на имя Протопопова два часа назад выехал из Питера. Вместе с Микуличем, вторым стрелком. Этого тоже надо будет взять на месте, на заводе Михельсона. И там же ухлопать. Пусть кто-то из «возмущенных рабочих» пристрелит. Из революционной справедливости. Да! А с Бокием надо будет решать, не откладывая. Он опасен. Свердлов чувствовал это собственной кожей.
Команда: «Остаться в Питере и взять на себя лично руководство акцией!» – была для Бокия неожиданной, но понятной. Свердлов дрогнул и решил сильного человека (безразлично, соратника или противника) держать от себя подальше. Это выдавало в нем всего лишь человека умного. И осторожного. Ни в коем случае не труса. Что ж, тем интереснее будет игра. На кого же он ставит? Голощекин и Юровский? Оба неплохие исполнители, правда, Шая – истерик, может сорваться в последний момент, а Юровский… Юровский – крепкий парень, но у него нет в Москве своих людей. Несомненно, включен в акцию и Серебряков Леонид Петрович из Московского комитета партии, дружок семейный. Этот туповат и неразворотлив. А вот после акции, для работы в правительстве – почти идеален. Правда, излишне предан Феликсу, но это может быть и плюсом. Ведь без Феликса, «колуна революции», не обойтись…
Бокий достал из стола кожаный футляр, похожий на несессер, осторожно открыл его и полюбовался на серебристо-голубоватый, почти прозрачный шар, вспыхивающий искорками. Теперь нужна маленькая свечка, укрепим ее в подсвечнике с фавном и зажжем. Свечка разгорелась медленно, как и положено настоящей сальной свече. И шар, если взять его с муаровой подстилки футляра и положить на хрустальный, спиленный сверху конус, начинает медленно вращаться. Для этого нужно только сосредоточиться и мысленно заставить шар вращаться с той скоростью, которую ты изберешь сам. Шар замедлился, остановился, подумал и принялся вращаться в другую сторону, стреляя искрами – звездочками. Бокий защелкнул электрический замок на двери: ничто не должно мешать сосредоточиться, сосредоточиться… Он смежил веки, глядя сквозь них. Шар стал расти, увеличился до размеров человеческой головы и даже стал похож на нее: казалось, в этом медленном вращении можно было разглядеть на увеличившемся шаре темные пятна – глазницы, провал рта, при желании можно было даже рассмотреть чуть высоковатые скулы. Бокий взглядом ускорил вращение шара, угадав в возникших тенях лик совершенно ненужного ему сейчас Барченковского шамана, серебряные искры – звездочки побежали по столу, перескакивая с папок «Дело №…», сложенных стопкой, на пресс-папье, багровый яшмовый чернильный прибор, тусклый, заляпанный расплавленным салом подсвечник. «Забавно, забавно…» – прорисовался еще какой-то человек, Бокию незнакомый, высветился ярко, расползся лицом по шару, как в кривом зеркале, и неожиданно исчез, проваливаясь в глубь шара, дрыгая невесть откуда взявшимися ручками и ножками и превращаясь в точку. Точка, послушная воле Бокия, стала вновь расти, увеличиваться и высветила милое женское лицо. «Забавно!» – Бокий улыбнулся шару, как старому знакомому, и задул свечу. Глядя, как сальные капли стекают по обнаженной груди фавна, мохнатой набедренной повязке и крепким копытам, чуть тронутым зеленью патины. «Неужели рискнут использовать Лидочку Коноплёву»? Он помнил, как она появилась: желтоволосая простушка, похожая на сельскую учительницу, каковой, кстати, и была когда-то… Простушка – простушка, но на первой же «ассамблее» Бокия у нее прорезался такой темперамент… Бокий усмехнулся, вспоминая Коноплёву. Вот и толкуйте теперь о русских женщинах… Коноплёва как исполнитель – это недурно. А в компании с Микуличем и Барановским… И это лучше, что они не знают о существовании друг друга… Неужели Свердлов все это просчитал? А я недооценил его?
Бокий вызвал оперативные группы и дал команду на аресты. Офицеров, церковников, банкиров. Можно уже и не согласовывать с Урицким. Больше того, когда Зиновьев будет визжать в истерике – этот трус боится объяснений с профессурой, – можно ссылаться на команду, пусть устную, Урицкого. Да еще якобы на то, что тот сам получил команду от Зиновьева. Пусть позлится на покойничка. Меньше будет соваться в расследование.
Итак, курок спущен. Завтра в 10 утра Каннегисер будет стрелять. И немцы продублируют этого истерика. Оставалось последнее. Для чистоты эксперимента. Экспериментатор должен фиксировать! Бокий позвонил Урицкому по прямому, минуя секретаря, и вызвал охрану. Он хотел показать ему документы, подготовленные Тучковым, и получить «добро» на аресты священников, а без охраны документы выносить было нельзя. По инструкции самого Урицкого.
Рядом с высоким и прямым Бокием малорослый и чуть скособоченный Урицкий казался совсем маленьким. Что не вызывало жалости к нему. Он был, по обыкновению, зол и хамоват. «Странно, – рассматривал его Бокий, поясняя бумаги «по священству», – странно, что человек не чувствует приближения конца. Любопытно, зачем Господь так устроил? В целом это объяснимо. Открой Он эту тайну смертным, и – прощай, управление. Они бы вышли из-под контроля. Впадают в панику, потом понятный „эффект толпы” и – до свидания! Самоуничтожатся, не успеешь и глазом моргнуть»!
Бокий, усевшись возле стола напротив Урицкого, пояснял идеи, разработанные Тучковым. Не совсем Тучковым, правильнее – протоиереем Введенским, но Тучковым усвоенные. Нужен активный церковный раскол. Собственно, он есть. Существует Союз демократического православного духовенства и мирян, возглавляемый священником Поповым и Введенским, продвигающий «передовые» идеи: службы на русском языке (Урицкий поморщился), возможность священникам разводиться, выборность священством и мирянами иерархов («Это в духе времени!») и – главное – это расшатывает кажущееся единство церковников…
– Зачем вы мне это рассказываете? – вдруг вскинулся Урицкий. – Решайте вопросы! Что за манера вечно идти за подписью к первому лицу? Пора научиться брать ответственность на себя!
– Отношения с церковью – часть политики государства! – смиренно подлил масла в огонь Бокий.
– Какая на х… политика! – грубо матернулся Урицкий. – По отношению к церкви может быть только одна политика! Мы ее уничтожим! Раздавим, как ядовитую змею!
– К Григорию (Бокий имел в виду Зиновьева)… вчера приходили из синагоги!
– Я знаю! – Урицкий еще больше скривился, наклоняя голову к плечу. – Григорий, как плохой ученик в хедере, начинает дрожать при виде ребе. Пора бы уже отвыкнуть от психологии последнего ученика.
– Мне кажется, – Бокий капнул еще масла, – тут дело не только в этом. Григорий Евсеевич курирует Интернационал, а там и сионисты, и… и представители Бунда.
– Для этого надо побывать в Америке, чтобы понять цену всем этим болтунам! Мы должны диктовать политику, мы вырвались вперед и не должны оглядываться на всякую… на всякую сволочь! Когда нам были нужны деньги и мы ходили по Америке с протянутой рукой, никто из этой банды денег нам не дал! А сейчас Григорий призывает на них равняться! Вот! – он выбросил в сторону Бокия кукиш. – Вот им! Они думают, если мы – евреи, мы должны быть лояльны ко всяким Бундам и …! Вот! – он снова выставил кукиш. – В нас, большевиках, нет ни капли еврейства! Только чувство революционного интернационализма! И Григорий прекрасно знает это, но трусит! Боится мирового либерального мнения! Революционерам на либералов и социалистов право – левого толка – нас…ть! Мы пойдем, как Батый, как степняки на Европу!
Урицкого вынесло на любимую тему, и Бокий, покуривая, смотрел на него. Тот раскраснелся, и даже обычное косноязычие от возбуждения пропало. Бокий прищурился, будто бы от дыма. На самом деле он щурился от удовольствия, как кот, поглядывающий на мышь, которой уже перекусил лапки. Забавно… Что болтал бы этот говорун – интернационалист, зная, что ждет его завтра?
За спиной Бокия отворилась дверь (он видел это в боковое зеркало), и секретарь показал жестом на часы, стоявшие в углу бывшего нессельродовского кабинета.
– Да, – спохватился Урицкий. – Иду! – он вышел из-за стола. – Жена сегодня тянет в театр!
Бокий тоже поднялся из кресла. Отмечено, что перед смертью многих «ведет» на искусство. Вот и здесь: «тянет в театр».
– Если не трудно, завизируйте, – Бокий подвинул материалы Тучкова. На последней странице было написано крупным шрифтом: «Провести аресты» – и шел длинный список, начинавшийся с митрополита Вениамина.
– Предполагаете арестовать всех единовременно? – Урицкий вынул из нагрудного кармана модное американское автоматическое перо.
– Нет, конечно, – Бокий внимательно смотрел на Урицкого. «Нет, нет никакого предчувствия смерти. Разве что возбужден чуть более обычного». – Хорошо бы всю верхушку арестовать, но боюсь – бунт!
– Что-то мы, революционеры, стали слишком бунтов бояться! – Урицкий поставил размашистую подпись на документах. – Все? Или еще где-то подписать?
– Все! – усмехнулся Бокий, ответно поднося руку к виску. В последнее время отдание чести с легкой руки Троцкого вошло в моду. – Все! – и двинулся к выходу, слыша, как Урицкий шелестит бумагами на столе.
Странная тишина повисла в старинном, со следами былой роскоши кабинете Нессельроде. Слышен был лишь ход громадных английских часов в углу. Бокий сделал усилие, чтобы не обернуться.
Все? Да, все! Мене, текел, фарес! Сосчитано, взвешено, отмерено…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































